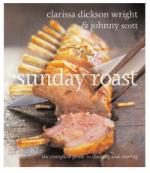Глава из романа
О книге Анны и Сергея Литвиновых «Бойся своих желаний»
Наши дни. Синичкин Павел
С тех пор, как нашу коммуналку на Пушкинской расселили, я нечасто бывал в центре. Намеренно. Потому что каждый раз, как приезжал — расстраивался. Москва изменялась, модифицировалась, трансформировалась — и теперь переродилась окончательно. Ничего общего с тем городом, где я жил и который хорошо помню, не осталось.
В магазине на углу Пушкинской и Столешникова, куда я бегал за пивом (порой в тапочках), расположился многотысячедолларовый бутик. В бывшем букинистическом — на пересечении Столешникова с Петровкой — поместился еще один. Между ними — целый строй других бути-, блин, -ков.
Простые смертные туда не ходят. Нет, ты, конечно, можешь зайти. Но продавцы и охранники встретят тебя такими кислыми рожами, что даже толстокожий парень вроде меня почувствует себя неуютно. В советских «Березках» чеки просили на входе предъявить. По-моему, так было честнее. «Господа, покажите свои платиновые карты, золотые не предлагать». Хотя даже если бы у меня имелась золотая или платиновая кредитка, легкий газовый шарфик ценой в три штуки долларов — на мой взгляд, полный бред. Равно как и вьетнамки за тысячу евро.
Поесть простому человеку тоже негде. В кафе «Зеленый огонек» теперь разместился банк с тщательно вымытыми ступенями. Вместо подвала, где я порой приникал жаждущими устами к «жигулевскому» из щербатой кружки (а то и из литровой банки), появилось кафе, в котором пенный напиток стоит триста рублей. Куда-то провалилось кафе-автомат напротив ЦУМа с очаровательными глазированными сырками. Исчез помещавшийся на углу Кузнецкого ларек с жаренными в масле пирожками — десять копеек штука. Да и сами пирожки за гривенник тоже, конечно, сгинули. Наверное, эмигрировали.
Города моего детства не стало.
Публика тоже разительно переменилась. На месте сумасшедшего Вовы, который последовательно обходил все учреждения в центре (в каждом кабинете он жестами стрелял сигареты) — теперь разгуливает блонда с пакетами от Шанель и Луи Вьюитона. На том самом углу на Петровке, где одноногий инвалид Василич вечно чинил свой «Запорожец», — стоянка, где красуются «Порши», «Бентли», «Феррари».
Я не стану уверять, что очень уж любил ту, прошлую Первопрестольную. Но она, не очень чистая, не слишком трезвая, затрапезная, дурно одетая и порой подванивающая, была близка мне и понятна. И еще она была непритязательной, доброй и честной. И я, конечно, по ней временами скучаю — как скучают брошенные дети по непутевой, пьющей, гулящей матери. Какая-никакая, а она мать. А нынешнюю столицу мне никак не удается полюбить. Лощеная, надменная дамочка в фирменных шмотках и с вечно высокомерным и презрительным взглядом… Готовая в любой момент тебя, сына своего, предать и продать… Нет, такая особа даже на мачеху тянет с трудом.
На окраине, в тех же Вешняках, где у меня офис, или в близлежащих Выхине с Новогиреевым мало что, по счастью, видоизменилось. Москва осталась Москвой. Все так же, как двадцать лет назад, шевелят юными листами деревья в Кусковском и Терлецком парках. Люди, торопясь на работу, штурмуют автобусы и вагоны метро, пробегают по магазинам в поисках майонеза подешевле. Изредка, как пришелец, выглянет из-за панельной девятиэтажки рекламный плакат да проедет явно заблудившийся «Мерседес»… Иногда я ловлю себя на мысли, что в столице мне милее теперь не центровые переулочки, а панельные районы на старых окраинах.
Ладно, будет. Мне не идет философствовать. Оставим это мыслителям. Я человек действия. Мой язык — язык протокола. Существительное, глагол. Прилагательные — только в крайнем случае. «Я выхватил и выстрелил». Подобный стиль подходит мне больше.
Итак, я уселся в кафе на бывшей любимой Пушкинской, неподалеку от моего прежнего дома. Место выбрала клиентка, сроду бы я не пошел на нынешнюю Дмитровку. Не глядя в меню, сделал заказ: кофе и минералку. И сразу попросил счет, чтобы работодательница ни в коем случае за меня не платила. Как и я — за нее.
Всю прошлую нашу встречу Мишель рассказывала об истории своей семьи. Битлы, прадед Васнецов, хоккеист Монин, любера, путч… Я даже не задавался вопросом: вранье ли то, что мне втюхивают? Потому что слушать было интересно. К тому же девушка оказалась хороша. Стройная, холеная, прекрасно одетая. Умная, язвительная, неприступная. С такой красоткой и поболтать приятно.
Мишель меня зацепила. Нет, я в нее не влюбился. Но я хотел бы обладать ею — как ковбой мечтает взнуздать холеную, независимую лошадь.
*
«Идет ли мне роль преступника? Не знаю… Но почему, спрашивается, я (такой великий и могучий!) вынужден всем этим заниматься? А с другой стороны, кто, если не я? Дельце такое — постороннему не поручишь. Да и близкому не поручишь тем более. Грязненькое дельце, неприятное. Да чего уж там, грязненькое! По-настоящему грязное и неприятное. Но делать его — надо. Как говорится, кто, если не я.
*
Я сидел за столиком на улице и заметил Мишель издалека. Она явно чувствовала себя в новой Москве, словно рыба в воде. Плыла, возвышаясь над прохожими. Возвышалась она не физически, а мен-таль-но. Одета была в спортивный костюм. Видать, где-то неподалеку занималась фитнесом. Могу себе представить, сколько здесь стоит клубная карта. Однако спортзальный наряд девушку явно не смущал. Потому как майка наверняка была от какого-нибудь Хреначчи, брючки от Куккараччи, туфли от Моветона. Моя бывшая, Катя, конечно, легко назвала бы фирмы, в которые девушка была разодета. А я не силен.
Мишель подошла ко мне. Дежурно улыбнулась, поздоровалась. Уселась напротив. Черт, я понял, что даже рад ее видеть.
К ней тут же подскочил официант. Она бросила мне:
— Что вам?
— Ничего.
Тогда она заказала себе свежевыжатый морковный.
— Сливочек добавить? — спросил официант.
— Ну, разумеется.
Когда половой отбежал, я спросил:
— Вы пять часов рассказывали мне историю своей семьи, но никакого задания не последовало. Почему? Я не психотерапевт, не адвокат, не консультант. Я частный сыщик. Поэтому вопрос — что вам от меня надо?
Она ответила ни в склад, ни в лад:
— Слушай, Синичкин, давай перейдем на ты. Ты не такой уж старый.
Я терпеть не могу, когда меня зовут по фамилии. Но усмехнулся и сказал:
— Давай, Монина.
Прав был Пушкин: когда с девушкой меняешь «вы» на «ты» — это сближает. Словно первое рукопожатие. И первый поцелуй.
— Мне от тебя нужно-о-о… — протянула клиентка. — А ты не догадываешься?
Я усмехнулся.
— У меня много достоинств. Но телепатия в их число не входит.
— Жаль.
— Ну, извини.
— Я хочу доказать, что я — внучка Битла.
— Доказать — как? Провести ДНК-экспертизу?
— Ага, а ты достанешь мне образец слюны сэра Пола Маккартни. И волосок с груди мистера Ричарда Старки.
Я посмотрел на нее, подняв бровь. Она засмеялась.
— Ладно, Синичкин, не парься. На самом деле мне будет достаточно косвенных улик.
Тут Мишель принесли морковный сок.
— Еще что-нибудь желаете? — склонился над ней официант.
— Чтоб ты поскорее исчез.
— Пардон.
Половой отскочил от столика, как ошпаренный.
— Только один вопрос, Мишель: а зачем тебе это надо?
— Это — что?
— Зачем доказывать, что ты — внучка Битла?
— Ты что такое пиар, знаешь?
— Слыхал чегой-то.
— Я — певица. Певица Мишель. Слышал?
— Пока нет. А ты — спой.
— Это тебе будет дорого стоить. Ну, ничего, скоро из всех утюгов страны меня услышишь. Мне дают деньги на раскрутку. И на съемку клипов, и на ротацию. Но одно дело, когда будут говорить: поет новая звезда и бла-бла-бла Мишель (кстати, имя для подмостков хорошее, мне даже псевдоним брать не надо). И совсем другое: Мишель, внучка Битла!.. Да об этом все трещать будут, и не только в России! Международный, блин, скандал.
— На мировой уровень нацелилась? Хит-парад «Биллборда» и все такое?
— Почему нет?
— Тебе, наверное, телохранитель понадобится.
— Желаешь предложить свои услуги? — прищурилась она.
Я считаю: если уж чего-то хочется — надо артикулировать свои притязания. Одних только пламенных взглядов девушка может и не понять. В лоб, конечно, не стоит ей сразу заявлять: хочу, мол, с тобой возлечь. Что-нибудь поизысканнее. Поэты, к примеру, предлагают даме сердца стать, типа, росой на ее устах. У меня другие методы.
— Да, я мечтаю хранить твое тело.
Она помотала головой:
— Бизнес — отдельно, чувства — отдельно.
— Ради тебя я готов отказаться от твоего заказа. — Своим нахальным взглядом она распалила меня.
— Вот как? А может, ты, наоборот, поработаешь на мое тело бесплатно?
Последнее предложение меня отрезвило.
— Хочешь сэкономить? Расплатиться со мной любовью?
Она аж отпрянула. Покачала головой.
— А ты хам, Синичкин.
— Прости.
— Бог простит. — Наползшее было на наш столик облако неприкрытого кобеляжа вдруг рассеялось, как дым. — Ладно, к делу. Я тебя, Синичкин, хочу нанять, чтобы расследовать чисто конкретное преступление.
— То есть?
— Мою квартиру в Гусятниковом переулке обокрали.
— Когда?
— Две недели назад. Я как раз ездила к друзьям на дачу.
— Что взяли?
— Ценности. Золото-бриллианты. Пару шуб. Но самое главное — бумагу с записью той самой песни, которую сделала моя покойная бабушка, Наталья Петровна Васнецова.
— Ту, неизвестную битловскую?
—Ну да! Ту, что он написал тогда утром в военном городке. А там не просто слова и музыка. Еще — его автограф и посвящение.
— Во как! Супостаты взломали дверь?
— У них был ключ.
— Значит, кражу совершил кто-то из своих?
— Не факт. Понимаешь, Синичкин, — я опять передернулся оттого, что девушка называет меня по фамилии, — мы ведь с мамой и отчимом в той квартире с девяносто второго года не жили. Были за границей, а теперь, в две тыщи восьмом, вернулась только я. А до того в ней съемщики проживали. И замки я после них не поменяла.
— Неразумно, — заметил я.
— Слушай, железные двери, а я только что из Европы вернулась. А здесь ДЭЗы какие-то, слесари пьяные… Разбираться с ними… Ну, я рукой махнула, а потом завертелась и забыла.
— А что у вас за жильцы-то были?
— Приличные люди, иностранцы. Бизнюк один французский с семьей. Он был единственным нашим квартирантом, да в восьмом году, под кризис, его на родину отозвали.
— Значит, вряд ли он мог два года спустя вернуться в Москву и твою квартиру ограбить, — дедуктивно заметил я.
— Да, но кто-то мог с его ключей слепок сделать.
— Оставим как одну из версий, — кивнул я.
— Ты, Синичкин, выражаешься прям как комиссар полиции.
— Тебе это важно? Или тебя результат волнует?
Такие юные особы, как она, редко выдерживают прямой наезд и твердый взгляд. Вот и Монина отыграла назад.
— Конечно-конечно, Пашенька, меня интересует результат.
— Тогда комментарии свои оставь.
— Знаешь, я не сомневаюсь, что грабителями были русские. Не французы какие-нибудь. Не этническая мафия. Наши.
— Отчего?
— Да у меня несколько икон есть — ну, обычных, не писаных, художественной ценности не представляют. Так вот, воры аккуратно сложили их в пакет и засунули в тумбочку.
— Богобоязненный русский народ, — протянул я.
— Да уж! А еще я, знаешь, что думаю: воры выносили из квартиры шубы, ноут… Я не говорю про мелочовку… Почему никто их даже не заметил?
— А кто тебе сказал, что не заметил?
— Следователь. Он говорил, что участковый по квартирам ходил, опрашивал, искал свидетелей. И ничего.
— А следствие вообще хоть что-то нарыло?
— Они мне, конечно, не докладываются. Но, кажется, как всегда, буксует.
— А почему ты следаку денег не предложила, а предпочла ко мне обратиться?
— Потому и предпочла, что совсем пусто у них, понимаешь? Да и мутный он какой-то, этот следователь.
— Но, ты знаешь, по свидетельским показаниям квартирные кражи редко раскрываются (когда подготовленная, конечно, кража, а не наркоман сдуру полез). Что там свидетели расскажут? Мужик в красной майке, бейсболка надвинута на глаза. Вот и все. К тому же нынче лето. Мало кто сидит в городе. Да у вас, наверное, в Гусятниковом переулке, и зимой-то мало кто живет. Ведь квартира в центре — не крыша над головой, а инвестиция капитала.
— Да уж! Мне неоднократно звонили, сумасшедшие деньги за нее предлагали.
— Мне тоже.
Я хотел установить с Мишель неформальные отношения. Чтобы нас связывало что-то личное. Общие интересы — прямой путь в койку.
— А где ты живешь? — заинтересовалась она.
— Жил. — поправил я. — Я-то, в отличие от тебя, на уговоры поддался. А проживал на Пушкинской, ныне Дмитровке, напротив генпрокуратуры.
Мишель посмотрела на меня с интересом.
— Жалеешь?
— Не без этого… Но вернемся к теме дня. А ты следователю про битловский автограф сказала?
— Нет.
— Почему?
— Догадайся с трех раз.
— А все-таки?
— Ну, слишком многое пришлось бы рассказывать. — Скучающим тоном начала она. — Слишком похоже на сказку. И слишком мало шансов, что менты бумагу найдут.
— Ты сама кого-нибудь подозреваешь?
— Понимаешь… — Она размышляла, колебалась, потом все-таки решилась. — Не знаю, стоит ли говорить… В ментовке я не сказала… Короче, был у меня друг, довольно близкий…
— Любовник, — уточнил я.
— Бойфренд. Богатый. И даже очень. Он хотел быть моим продюсером. Точнее, моим — всем. Это он певицей мне стать предложил, и план моей раскрутки составил…
— Короче, он знал, что у тебя есть автограф Битла.
— Да, знал.
— А потом ты с ним рассталась.
— Да.
— И теперь у тебя другой покровитель, еще круче первого?
— Тебе всю мою личную жизнь рассказать? — прищурилась она.
— Нет, только о тех людях, которые могли иметь отношение к преступлению. Или хотя бы к ключам.
— Слава богу, таких всего двое.
— Значит, ты думаешь, что тот, первый, решил тебя ограбить? Так сказать, в отместку за измену?
— Да.
— А что, есть какие-то улики? Именно против него? Или — только домыслы?
— Понимаешь, Синичкин, он, этот первый, Вано — религиозный человек. На самом деле Вано — просто ник, он никакой не грузин, а Иван Иваныч Иванов. Трижды Ванька. Я же говорила об иконках, которые положили в пакет и спрятали в тумбочку. Вот и суди сам. Все вещи в комнатах побросали, пошвыряли, а их — нет.
Я развел руками.
— Истинно религиозный человек вряд ли станет грабить квартиру. Даже своей бывшей. Да и для богатого человека — странное занятие: квартиры грабить. Насколько я знаю, они предпочитают грабить — зрителей.
— Он мог нанять кого-нибудь.
— Ага, а искал он исполнителей в воскресной школе, да? — съязвил я.
Она закатила глаза.
— А ты, Синичкин, раньше в милиции служил, да?
— Намекаешь на мою тупость?
— Нет, на то, что ты версии с порога отметаешь. Как будто работать не хочешь.
— Вано твоего я проверю. Как и всех других перспективных фигурантов. А, скажи, кто-то из твоих новых знакомых не мог позавидовать тебе и тому, как ты роскошно живешь?
— На моего нынешнего намекаешь?
— Боже упаси! Хотя и про него тоже расскажи. Ты, кстати, уверена, что он тот, за кого себя выдает?
— То есть?
— Да бывали в Москве случаи: весь такой из себя продюсер, в брионии-армани, на «Мерседесе»-кабриолете рассекает, тысячами чаевые дает. А потом выясняется: бриони у друга одолжил, «мерс» напрокат взял, чтоб на богатых москвичек охотиться. Ты ведь — богатая?
— Мысль хорошая, — усмехнулась Мишель. — Что ж, прокачай его на всякий случай, будет даже забавно. Зовут моего нынешнего Егор Константинович Желдин.
— А кто еще, кроме обоих мужчин, под подозрением?
— Была домработница приходящая. Я ее, кстати, после ограбления уволила. Чисто на всякий случай. Звать ее Василиса Станиславовна. С Украины. Но она здесь, в Москоу, с мужичонком каким-то живет. И вот эта Василиса мне больше всего не нравится. Для нее мои шубы и драгоценности — реально большие деньги. Для нее, а не для Вано и Желдина.
— А ты ее когда-нибудь в неблаговидном уличала?
— Нет. Она даже моими духами не душилась. Но — как это говорят русские? — и на старуху бывает проруха. Копила свою злость и зависть — и вот, пожалуйста…
— Василиса эта, наверно, на Украину вернулась?
— Да нет, она здесь, в Москве осталась. У мэна своего.
— Телефон, адрес знаешь?
— Да. Пиши.
Она продиктовала, я записал, потом спросил:
— А кто еще мог знать о существовании автографа? И где он, кстати, хранился?
— Думаешь, грабители охотились за битловской песней? А все остальное похитили для отвода глаз?
— Драгоценности и шубы во многих других квартирах в Москве тоже имеются. В том числе, я думаю, и в вашем доме. А ограбили — тебя. Чем же ты лучше других ответственных квартиросъемщиков? — зададимся вопросом. А вот чем: у тебя редкий документ есть.
— Значит, для тебя эта версия — приоритетная?
— Не знаю пока. Будем посмотреть. Итак?
— Что?
— Кто знал о существовании автографа?
— Да никто.
— Как — никто?! Ты только что сказали о Вано и о Желдине.
— И все.
— А члены семьи?
— Ну, прадедушка, Петр Ильич, конечно, знает. Прабабушка скончалась три года назад. Еще, наверное, знают мама и мой отчим Евгений — но их нет в Москве, и не приезжали они в Россию уже лет пятнадцать. Вот и все.
— Минуточку! А твой родной отец, обрюхативший Джулию тогда на юге? Его, кажется, звали Мишель?
— А-а, Миша! — презрительно скривила губы девушка. — Никто и не знает, что с ним, и не видел — не слышал о нем ничего.
— Значит, твой прадед, тот самый Васнецов, жив?
— Еще как! Здоровый, крепкий, в речке купается, по десять километров в день проходит.
— Сколько ж ему годков?
— Не так уж много — восемьдесят четыре.
— Н-да, молодой еще человек.
— Вот именно! — вдруг ожесточенно воскликнула девушка. — Все молодится. Нашел время.
— Что ты имеешь в виду?
— Жена его, моя прабабушка Валентина Петровна, я уже говорила, три года назад скончалась. И не такой уж старой была, всего семьдесят семь, но — рак. Прадед годик погоревал — а потом вдруг завел себе молодуху! Прикинь?! Живет вместе с ней на даче, души в ней не чает. Прискакала дамочка откуда-то из провинции, мымра, охмурила старика! Подумать только! На наследство его нацелилась! А он — как будто она его опоила! — слушать нас не хочет, ей в рот заглядывает.
— Они поженились?
— Нет. Думаю — нет. Пока — нет. Кажется — нет… Пашенька, дорогой: а может, ты и ее заодно проверишь? Пробьешь, как у вас говорится, по своим каналам — вдруг она какая-нибудь мошенница на доверии?
— Конечно, — ухмыльнулся я, — коли выяснится, что сожительница прадеда воровка — ты будешь очень рада.
— Ну, разумеется.
— Минуточку. Давай все-таки уточним. Для чего ты меня нанимаешь? Искать автограф? Или — расследовать ограбление? Или проверить своего любовника Желдина? Или — приживалку прадеда? Не слишком ли много заданий?
— Что тебя не устраивает?
— Я просто хочу напомнить, что за любую работу надо платить.
— Ты же хотел стать моим личным телохранителем? Вот и храни меня. Все эти люди и коллизии могут угрожать моему благосостоянию и безопасности, не так ли? Пожалуйста, выставляй мне счета — хочешь, по каждому виду работ отдельно. За автограф, за раскрытие ограбления, за васнецовскую полюбовницу… Я счета оплачу. Моя мамочка и отчим любят меня. А бабла у них хватает.
— Какая тема из предложенных для тебя самая важная?
— Все важны. Все.
— Тогда подойдем к делу комплексно. Дай-ка мне для начала адрес своего прадеда — Петра Ильича. И координаты той особы, что вдовца вашего охмурила: фамилия-имя-отчество, примерный возраст, откуда родом.
— Сейчас, Пашенька. — Она вытащила из сумки коммуникатор. — Я, знаешь ли, к этой женщине в паспорт заглянула — береженого бог бережет.
— А что, от Васнецова большое наследство ожидается?
— По сравнению с капиталами моего отчима не очень уж огромное — да все равно ведь жалко терять. Квартира четырехкомнатная на Кутузовском как тебе нравится? С видом на парк Победы?
— Мне нравится.
— Еще бы! А дача в паре километрах от МКАД? Дом, правда, старый и небольшой, зато участок — гектар.
— В общей сложности миллионов пять «зеленью», — заметил я.
— Если не семь-восемь. А то и десять. В общем, есть, за что этой Любе бороться. Вот тебе, кстати, на нее установочные данные (так ведь, кажется, у вас, в силовых структурах, говорят). — И она зачитала мне из коммуникатора, а я записал: — Любовь Ивановна Толмачева, родилась в Москве тридцатого ноября одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года… Значит, ей сорок два, — с сарказмом заметила девушка, — замечательно! Самое время старика охмурять, который в два раза ее старше!.. Была она замужем, теперь в разводе. Про мужа ее бывшего зачитывать?
— А как же.
— Замуж вышла в девяносто первом. Муж — Толмачев Эн Пэ. Зарегистрирован брак Дворцом бракосочетаний города Самары. А развелись они скромненько, пятнадцать лет спустя… По-моему, это все. Можешь, Синичкин, приступать. Вот тебе аванс и на расходы.
Она вытащила из рюкзачка (разумеется, тоже от какого-нибудь Чиполлини) кредитку и перебросила через стол мне.
— На ней две тысячи евро. Пин-код: один три три один. Учти: я пользуюсь мобильным банком.
— Я не буду оплачивать билет до Акапулько. И тайский массаж. Во всяком случае, прямо завтра.
Она оставила свой недопитый сок, бросила на стол пятисотрублевую купюру и без улыбки скомандовала:
— Расплатись за меня и приступай.
Она встала, натянуто улыбнулась мне и двинулась по улице: ледяная и недоступная.
Купить книгу на Озоне