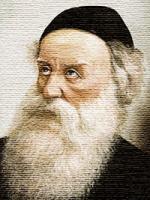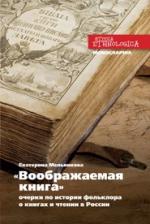Два рассказа из книги Марии Метлицкой «Машкино счастье»
О книге Марии Метлицкой «Машкино счастье»
Считалось, что Марго крупно повезло, просто вытащила счастливый билет. Пока ее старшие сестры нервно делили пуховую перину и две подушки, любовно набитые старенькой бабушкой нежнейшим утиным пухом, младшая из сестер Марго уже примеряла свадебное платье. Да и партия была не из последних — студент последнего курса Академии Внешторга. А это значило, что человек с большими перспективами.
Свадьбу играли в квартире Марго — жених был из приезжих. Две старшие сестры Марго злобно шипели, утверждая, что жениху нужна исключительно московская прописка. Но это было неправдой. Жениху очень нравилась невеста.
На краю Москвы, в Гольяново, где еще стояли частные дома, в старом, обветшавшем, но еще довольно крепком доме, доставшимся от дела — портного, три дня активно жарилось, парилось и пеклось. Замученная хлопотами мать Марго бегала из погреба на кухню и обратно, и вытирала слезы безутешным и завистливым старшим дочерям, уверенно считавшим, что последышу Марго, самой некрасивой из трех сестер, уготована участь старой девы.
Творец и вправду, был скорее всего не в духе, когда на свет появилась маленькая Марго. Девочка была не хороша — не по возрасту крупна, с большими кистями рук и разлапистыми, широкими ступнями. С выдающимся носом и толстыми, яркими губами. Хороши были только глаза — темные, любопытные, живые.
Росла Марго улыбчивой, неприхотливой и всегда готовой услужить. Безропотно донашивала обноски за сестрами, безропотно помогала вечно хлопотавшей на кухне матери, и также безропотно ухаживала за больным астматиком отцом. Так и осталась бы в вечных прислугах, но тут вмешалась судьба.
С Николаем Марго познакомилась в поликлинике — пришла что-то выписать для вечно болеющего отца, а Николай проходил диспансеризацию — в академии требовали справку, что он «практически здоров». А это значит, что его вполне можно делегировать в иностранные державы. В очереди разговорились — и на улицу уже вышли вместе. Маленький, полноватый, с ранней плешью, Николой остолбенел от крупной и яркой, грудастой и бедрастой Марго. Она казалась ему героиней итальянских фильмов 60-х, встречались недолго — гуляли два месяца в Сокольниках, а на третий он попросил ее руки.
Родители Марго от большого душевного волнения и от солидного вида жениха растерялись и обращались к нему исключительно по отчеству. Так и повелось. Даже Марго называла его Николай Иванович. С легкой иронией, правда.
Первое время молодые жили у родителей Марго, а спустя три года уехали в свою первую командировку. В Швейцарию, между прочим.
Отношения между молодыми были распрекрасными. Николай Иванович обожал Марго, а Марго обожала Николая Ивановича. Из Швейцарии Марго присылала родственникам мотки яркого мохера и горький швейцарский шоколад.
Все было ладно и складно, только вот не давал Бог детей. Через год после Швейцарии уехали в Австрию. Прошло пять лет.
В Москве Марго пошла на обследование. Получила вердикт — абсолютно здорова.
— Ищите причину в муже, — посоветовала врачиха.
Марго была человеком деликатным и решила пощадить нервы мужа. За банку растворимого кофе уговорила сестричку из ведомственной поликлиники показать медицинскую карту мужа. Изучила, аккуратно на листочек переписала мужнины болезни. Показала знакомой докторше. Та быстро нашла самую вероятную из причин — перенесенная в юношеском возрасте тяжелая свинка.
— У вас два пути, — сказала умная докторша. — Первый — взять ребенка из детдома, а второй — решить эту проблему самой.
Причем, подчеркнула, что второй способ наименее травматичный. Марго была женщиной не только умной, но и практичной — и она решила твердо — дети должны быть только ее. И обязательно красивые.
Еще со школьных лет у Марго была закадычная и единственная подруга Любочка Левина. Любочка была преподавательницей русского языка и старой девой одновременно. Только ей, Любочке, Марго могла доверить свой опасный план. Допоздна они сидели на маленькой Любочкиной кухне, и смеялись, и плакали, и жалели друг друга. Потом сосредоточились и занялись делом. Ни о каких любовниках речи быть не могло: во-первых, это не нужно было самой Марго — она искренне любила Николая Ивановича, а во-вторых, любой адюльтер мог из тайного стать явным — и тогда «прощай» карьера Николая Ивановича. Этого допустить они не могли. К первому часу ночи Любочку осенило.
— Аркадий! — громко воскликнула она и тут же испуганно прикрыла рот ладонью.
Аркадий был Любочкин родной брат. Собственно, и для Марго он был тоже уже практически братом. Старый холостяк, живший с сестрой в одной квартире. Работал Аркадий в каком-то НИИ, был нелюдим и неприхотлив. Из своей комнаты почти не вылезал — читал книжки и вяло диссиденствовал, слушал на Спидоле «Вражьи голоса». Женщин чурался, хотя вполне был хорош собой. Этакий рак-отшельник. И соблазнить его было делом довольно сложным. Но тут опять его величество случай.
В январе с сезонным гриппом свалилась Любаша, а через три дня, катаясь на лыжах, Аркадий сильно растянул ногу. Марго прилетела за ними ухаживать — что, впрочем, вполне естественно.
Сварила бульон, натушила мяса, вымыла полы и протерла пыль. Устала. Домой ехать было далеко. Любочка уговорила ее остаться ночевать. Ложиться в комнате больной гриппом Любочки было бы полной глупостью. Бросили на пол надувной матрас в комнате Аркадия. Ночью Марго жалобно сказала, что по полу сильно тянет и Аркадий по-дружески подвинулся к стенке и предложил Марго половину своего дивана. Утром Марго принесла Любочке чай и показала большой палец. Любочка облегченно вздохнула. План не провалился. Теперь оставалось уповать на Господа Бога.
Через месяц Марго затошнило. А еще через восемь счастливый и гордый Николай Иванович отвозил Марго в ведомственный родильный дом. Марго родила чудесного мальчика — крупноглазого и черноволосого. Радости Николая Ивановича не было предела. Теперь он обожал Марго еще больше. Подарил ей кольцо с бриллиантом и норковый палантин. Через полгода въехали в новую трехкомнатную кооперативную квартиру. Обустроились. И еще через год опять упорхнули в командировку. На сей раз в Бельгию. В комнате у счастливой Любочки висела фотография горячо любимого племянника.
Марго с Николаем Ивановичем вернулись в Москву через два года. Купили на чеки серую «Волгу». Марго похорошела — нашла свой стиль. Черные кудри по плечам, яркая помада, крупные серьги в ушах. Женщина-праздник. С Николаем Ивановичем жили еще дружнее — в доме достаток, подрастает умница сынок.
Любочка давала частные уроки студентам-иностранцам. Естественно, на дому. Однажды, на пороге ее дома Марго столкнулась с молодым студентом — красавцем-кубинцем.
— Люба! — сказала жарко Марго, — я так хочу девочку!
Бедная Любочка опешила и стала Марго отговаривать.
— Не испытывай судьбу — один раз сошло — благодари бога.
Но Марго была непоколебима.
Студента-кубинца по имени Хосе пришлось соблазнять подольше. Марго пекла блины и щедро накладывала сверху горки красной и черной икры. Варила борщ. Жарила отбивные. Изголодавшийся без еды и женщин Хосе, сломался через две недели. Любочка тактично ушла в кино на двухсерийный индийский фильм. Аркадий сплавлялся на байдарках по горной реке где-то в Карелии.
Блины и страстные объятия продолжались три месяца. Нет, нет, — Марго совершенно не увлеклась. Она по-прежнему любила только Николая Ивановича. Но надо было завершить начатое до конца.
Через четыре месяца Марго затошнило. И опять Николай Иванович на светлой «Волге» гордо вез любимую жену в роддом. На сей раз родилась прелестная, смуглая девочка. С черными, словно нарисованными бровями и крупным ярким ртом.
— Вылитая Маргоша, — умилялся Николай Иванович.
А дальше — дальше жили-поживали и добро наживали. Очень успешно, кстати.
В перестройку Николай Иванович не растерялся и открыл крупную фирму по торговле офисной техникой. В чем, в чем, а в торговле с заграничными державами он был дока, что говорить. Дети выросли и продолжали радовать родителей. Сын — умница и красавец, работал в фирме отца. Удачно женился и родил двух девочек-близняшек. Хорошеньких, как фарфоровые куколки.
Дочка, тоже умница и красавица, вышла замуж за французского бизнесмена и жила на Ривьере на большой вилле в Мавританском стиле. Кстати, странно, но брат и сестра были очень похожи друг на друга.
— В красавицу-мамочку, — гордо говорил Николай Иванович, показывая партнерам яркие глянцевые фото.
С Николаем Ивановичем у Марго по-прежнему чудесные доверительные и близкие отношения. Теперь она была еще и учредитель его компании и очень толковой помощницей. Николай Иванович, кстати, очень ценит ее и в этом качестве.
Живут они за городом, в большом и красивом доме с бассейном и прислугой.
К любимой подруге Любочке Марго ездит исправно каждый месяц. Привозит ей деньги и продукты. Скромная Любочка всегда отказывается от щедрых даров и расстраивается, и даже плачет. Но Марго неумолима. К приезду любимой подруги Любочка обязательно делает фаршированную рыбу и яичный паштет (три крутых яйца, жареный лук и куриные шкварки). И рыбу, и паштет Марго обожает.
Они выпивают немного сухого красного вина — у обеих гипертония — и бесконечно болтают. И нет ничего крепче и сильней их дружбе, проверенной годами и испытаниями. И нет ничего сильнее тайны, связывающей их судьбы.
Любочка не завидует Марго — ни ее богатой и сытой жизни — Любочка скромна, и ей всего хватает. Не завидует тому, что у Марго прекрасный муж — Любочка обожает одиночество и ей хорошо с самой собой. Еще Любочка гордится своим племянником и его прелестными дочурками. И она безмерно счастлива, что они у нее есть. Словом, Любочка настоящий и верный друг.
В общем, жизнь Марго удалась — кто бы мог подумать?
Чем обдели ее бог — пожалуй, только красотой. Но, как говорится — не родись красивой… И жизнь это, кстати, частенько подтверждает.
Правда и ложь
Эта старуха привязалась к Веронике на прогулке — ну, как это обычно бывает.
Вероника приехала в санаторий три дня назад — привез муж, за руль после той аварии она садиться боялась.
Сразу обрушилась целая гора процедур — массаж, иглотерапия, бассейн, ЛФК. Только после ужина было время немного передохнуть и погулять. Вероника вышла из корпуса и, опираясь на палку — без палки она ходить еще боялась, осторожно дошла до скамейки перед столовой. На улице стояло распрекрасное бабье лето и под ногами плотным и ярким ковром лежали опавшие листья. Вкусно пахло грибами и прелой травой.
Старуха материализовалась минут через пятнадцать. Любопытная, как все старухи, она начала расспрашивать Веронику обо всем — и почему она с палкой — ах, авария. Какой кошмар, ах сустав, ах переломы. Надо же, чтобы так угораздило! — такая молодая и приятная женщина, почти девочка. Далее хорошо воспитанная Вероника давала подробный отчет — сколько лет, где работает, кто муж, как зовут детей. Вероника, не любопытная по природе, удивлялась, как может совершенно постороннего человека так глубоко интересовать чужая жизнь. Но старухе — было видно — это и впрямь все было интересно.
Старуха была похожа на большую, старую и облезлую ворону. Седые, растрепанные волосы, крупный крючковатый нос, большие широкие ладони. Облик завершали многочисленные черные тряпки, висевшие на старухе, как на пугале — черная юбка, черные чулки и ботинки, черный макинтош. Старуха много курила и хрипло кашляла.
Вероника извинилась и заторопилась в номер — к вечеру сильно свежело. Кряхтя и охая, старуха проводила Веронику до корпуса. Наутро, на завтраке, старуха увидела сидящую в одиночестве за столом Веронику и бодро направилась к ней, видимо, полагая, что ее общество безусловно приятно. Вероника тяжело вздохнула и отодвинула пустую тарелку из-под манной каши. Старуха и на сей раз была не в меру любопытна и словоохотлива. Пару раз кивнула проходящим мимо них людям и начала рассказывать свистящим шепотом какие-то истории из жизни отдыхающих.
— Простите, но мне это неинтересно, — решительно сказала Вероника.
Старуха замолчала и обиженно захлопала глазами с редкими ресницами.
Вечером Веронику настигла та же участь. Старуха опять подсела на скамейку.
— Вот влипла, — подумала Вероника. — Всегда со мной так.
Старуха закатывала глаза и с упоением сплетничала про медсестер, врачей, уборщиц и поварих.
Веронике хотелось поскорее уйти в номер — выпить горячего чаю, почитать, наконец, новую Улицкую, позвонить своим по телефону. И всего-то было нужно — просто резко оборвать старуху, извиниться и быстро пойти к себе. Быстро не получилось. Старуха начала вспоминать любимых актеров ее поколения. Далее — интересоваться литературными пристрастиями Вероники. Вероника удивилась — старуха была хорошо информирована. В курсе всех книжных новинок.
Старуха опять проводила измученную Веронику до дверей корпуса, объявив на прощание, что с ней «очень мило». Вероника кисло улыбнулась.
В столовой теперь старуха Веронику явно караулила, стоя с подносом в руках и оглядывая глазами столики с отдыхающими. Вероника хоть и раздражалась, но старуху жалела — бедная, скорее всего, одинока, как перст. Она вообще был из жалостливых. Отводила глаза, когда проходящие мимо их столика отдыхающие, бросали на них насмешливые и сочувствующие взгляды.
Меж тем, исчерпав, видимо, все последние сплетни и новости, старуха явно загрустила. И как-то вечером, на скамейке, решилась, наконец рассказать о себе. Бедная Вероника! Воспитанная девочка из хорошей семьи! Где мама и папа с детства вложили в ее голову, что старших надо уважать, что к ближним надо быть терпимой, и не отмахиваться от чужих горестей и проблем. Прописные истины, впитанные с молоком матери. Вот и хлебает сейчас полной ложкой! Старуха приосанилась, воодушевилась и торжественно объявила, что история ее жизни уникальна. Необыкновенная. Трагична — это безусловно. Преподнесено это было так, будто Веронику новые познания страшно обогатят и наполнят. Словом, старуха решила поделиться сокровенным. С полным доверием. А это что-то да значит. Она откинула голову, на минуту прикрыла глаза. Неторопливо и размеренно, с долгой, тщательно выверенной для эффекта, паузой, начала свой рассказ. Издалека. Слава богу, не из детства и юности, но молодости точно.
Первый муж был инженер-нефтяник. Крупный специалист, таких по пальцам. Послали в долгую командировку в Баку — там он был незаменим. Дали роскошную виллу — пять комнат, терраса. Белый дом, колонны, чей-то бывший особняк. Теперь — только для специалистов такого класса. Прислуга и повариха. Черная икра на завтрак, осетрина на обед. Кусты роз под окном. В саду гуляет павлин. Правда, по ночам орет дурным голосом, но это мелочи. Она — молода и прекрасна. С мужем полная, полнейшая идиллия. Она ходит в белом кисейном сарафане и срывает с дерева янтарный инжир. Купается в море, много читает. По просьбе мужа привозят фортепьяно. Вечерами она играет с листа. Беременеет. Рожает прелестного мальчика, долгожданного и обожаемого. В семье царят лад и покой. Зарплата у мужа такова, что про деньги не хочется думать. Муж обожает сына. Мальчик очарователен — белые кудри, черные глаза. В три года знает буквы и пытается складывать слова. Резвится в саду — отец купил ему щенка. Жизнь безоблачная, как синее апшеронское небо.
До поры. В пять лет мальчик тяжело заболевает. Да что там тяжело! — болезнь страшная и необратимая — опухоль мозга. За что их так наказывает бог? Мальчик сгорает за полгода. Могила на русском кладбище в Баку. Памятник из белого мрамора — малыш бросает в море гальку. В броске закинута пухлая ручка, откинута кудрявая голова. Муж чернеет лицом, а она не встает три месяца. Он носит ее на руках в туалет. Видеть никого не выносимо и прислуга становится бестелесна. Она просит мужа уехать в Москву — так ей кажется, что будет легче. Ему идут навстречу — и отпускают их на несколько лет.
В Москве она постепенно начинает приходить в себя. Новая квартира на Тверской, новые связи, новые подруги. В ноябре она заказывает в ателье шубу, закрашивает седину и покупает сервиз на двенадцать персон. В доме опять появляются люди. У мужа крупный пост в министерстве. Они ведут светский образ жизни — приемы, обеды, премьеры. Через три года — а ей уже хорошо за тридцать, она, наконец, беременеет. Беременность протекает тяжело — все-таки возраст, но она, слава богу, рожает прекрасную девочку, очень крупную, четыре с половиной килограмма. Лицом девочка вылитая отец. Он, конечно же, ее обожает — долгожданный и такой желанный ребенок. Девочка тиха и послушна. В четыре года берется за карандаш и рисует изумительные картинки. Чудо, а не ребенок. Снова няни, прислуга. Они опять начинают выходить в свет.
Когда девочке исполнилось девять лет, ее сбивает машина. На Тверской, когда девочка возвращается из музыкальной школы. Сбивает насмерть. Теперь они не встают оба — муж лежит в кабинете, она в спальне. Лечат их лучшие доктора. Она поднимается первая — и начинает ухаживать за мужем.
Через год муж объявляет ей о том, что уходит. У него новая женщина, конечно же, молодая. У него новая жизнь. Они ждут ребенка. Она пытается отравиться, но ее спасают. Разменивают квартиру на Тверской — и она уезжает в Перово, в однокомнатную. Муж, правда, дает денег на содержание. Но это весьма скромное содержание. Ей надо привыкать жить по-новому. Она идет в районную школу библиотекарем. Там, среди людей, понемногу приходит в себя.
И через пару лет даже выходит замуж. За неплохого человека, вдовца, военного в чине майор. У майора десятилетняя девочка, дочь. Девочка с ней груба и неприветлива, но она терпелива и упорна. И их отношения более или менее, становятся похожими на нормальные. Они съезжаются и у нее снова трехкомнатная квартира. Достают по записи ковер, цветной телевизор. Подходит очередь на машину. Начинают строить дачу. Жизнь тяжела, но все-таки это жизнь. С мужем живут неплохо, а вот у дочки характер тяжелый. Но девочка очень талантлива, в точных науках — ей прочат большое научное будущее.
Далее, собственно, ничего особенного в жизни не происходит — хватит с нее событий. Живут они тихо, свой огород, цветы в палисаднике, варенье, отпуск в Кижи или Питер. На море она больше не ездит. После университета дочка уезжает в Америку — получает грант. Она, конечно же, там остается, она же нормальный человек. Выходит замуж, рожает сына. Сын растет успешным и положительным. Муж умирает от инфаркта в почтенном возрасте.
Дочка звонит два раза в неделю — ну, это уж обязательно. Присылает посылки, деньги. Зовет ее к себе. Но, знаете, не хочется быть обузой, да и потом какая там новая жизнь.
— Буду доживать эту. — Старуха откидывается на скамейке и тихо, беззвучно смеется.
Вероника потрясена. Она долго не может придти в себя, а потом провожает старуху до ее корпуса и долго гладит по руке.
Ночью, конечно, не до сна. Она дважды пьет снотворное и обезболивающее — под утро очень разболевается нога и спина. К завтраку она не спускается. И долго лежит в кровати в своих скорбных мыслях. Ей стыдно за то, что она так сильно переживает по мелочам — у мужа не клеится на работе, сын принес двойку, нет шубы и приличных сапог, в квартире давно пора делать ремонт — отваливается плитка и отходят обои. Ей стыдно за то, что она такая мелочная и неглубокая, за то что ее угнетают и расстраивают такие пустячные и незначительные вещи. И вообще ей почему-то стыдно, что жизнь ее в общем-то так безоблачна и благополучна. Она звонит домой — сегодня суббота и все домашние дома и долго говорит с мужем, говорит с ним горячо, и объясняется ему в любви, потом она просит к телефону сына и почему-то плачет, услышав его голос.
И еще она безумно боится встречи со старухой. Хотя, понятно. Сочувствовать и сокрушаться просто нету сил.
Поднимается она только к вечеру и перед ужином идет на массаж.
Массажистка, крупная, немолодая женщина с сильными руками и смешным именем Офелия Кузьминична, профессионально и мягко делает ей массаж. Она немного расслабляется и начинает приходить в себя.
Офелия Кузьминична спрашивает ее про ее новую подругу, и она понимает, что речь идет о старухе.
Она пытается рассказать ей что-то о своей невольной знакомой, но Офелия машет рукой — знаю, все знаю. Она сюда ездит уже который год. По бесплатной собесовской путевке. Морочит всем голову, обожает полечиться. А сама, между прочим, тот еще конь. Кардиограмма, как у молодой. Ну, конечно, суставы, артрит — это все понятно.
— Жизнь у нее, конечно, не сахар — продолжает Офелия. Сын всю жизнь сидел — как сел по малолетке в шестнадцать, вооруженный грабеж, что ли, так и пошло дело. Выйдет на полгода — и снова садится. Жить на воле не может. Она к нему ездила столько лет, а потом он вышел в очередной раз и вообще сгинул. Дочка родилась крепкая физически, красивая, но полный олигофрен. Дома с ней не справлялись. В десять лет отдала ее в интернат. Ездила к ней всю жизнь исправно — но та ее даже не узнавала. Только в руки смотрела — что ты привезла. В общем, слюни по подбородку. Муж ее первый бросил, ушел к молодой. Она, уже в летах, второй раз вышла замуж, за военного, что ли. У того девочка была, дочь. Стерва редкостная. Всю жизнь им испортила. А ведь она, старуха, столько в нее вложила, всю душу, все сердце. Дочка эта потом замуж вышла, на север уехала. Даже отца хоронить не приезжала. Сука та еще. Старухе вообще не пишет, не звонит. Ни копейки за все годы.
Офелия звонко хлопнула Веронику по мягкому месту:
— Ну, все, вставай, красавица. На ужин опоздаешь.
Вероника молча поднялась, оделась, кивнула и вышла из кабинета.
На ужин она не пошла. На следующий день опять началась бесконечная беготня по кабинетам. В обед в столовой старухи не было, впрочем, как и в ужин тоже. Видимо, уехала. Слава Богу! Иначе бы пришлось общаться — а это казалось Веронике невыносимым. На вечерней прогулке после ужина Вероника совсем успокоилась — старухи нигде не было, значит, точно, уехала. Сыграла последний спектакль — и занавес. Можно уезжать со спокойной душой. Чужую-то душу она расбередила до донышка, отыгралась. Артистка хренова. Впрочем, что ее осуждать — хотел человек чуть прикрасить свою жизнь, правда, таким странным и страшным образом. И, не всегда бывает понятно, что страшнее — правда или ложь.
Вероника присела на лавочку, прикрыла глаза и стала вдыхать запахи осеннего, вечернего леса.
И жизнь не показалась ей такой страшной и ужасной. Несмотря ни на что.
Купить книгу на Озоне