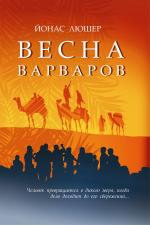- Йонас Люшер. Весна варваров. — М.: РИПОЛ классик, 2014.
В октябре в издательстве «РИПОЛ классик» выходит роман швейцарского писателя и философа Йонаса Люшера. Главный герой «Весны варваров» — обленившийся богатый швейцарец — отдыхает в роскошном отеле-оазисе Туниса, где в то же время молодые англичане из финансовых кругов играют свадьбу. Внезапное наступление кризиса влечет за собой банкротство Англии, свадебный пир оборачивается вакханалией, «весной варваров», вмиг отказавшихся от устоев цивилизации и всех приличий. Герой-швейцарец делает для себя целый ряд жутких открытий и в итоге оказывается в сумасшедшем доме, где и рассказывает на прогулке о своих отпускных впечатлениях. Диагноз, поставленный писателем современному обществу, звучит ужасно, но в книге он зафиксирован стильно, необычно и смешно.
— Нет, — сказал Прейзинг, — не о том ты спрашиваешь. Он встал посреди дорожки, чтобы подчеркнуть серьезность своего упрека. Невыносимая его привычка… Из-за нее мы гуляем по этой посыпанной гравием дорожке, как две старые, страдающие одышкой и избыточным весом таксы. И все же каждый день я именно с Прейзингом выхожу на прогулку, ведь он, несмотря на все досадные черты характера, для меня здесь лучший товарищ.
— Нет, — повторил Прейзинг, наконец тронувшись с места, — ты спрашиваешь не о том. Прейзинг говорил уж очень много, к тому же высказываниям своим он придавал чрезвычайное значение, да еще и знал наперед, как следовало бы поставить вопрос, дабы поток его словес устремлялся в нужное русло. Мне — в известной степени узнику здешних мест — ничего почти не оставалось, как только следовать намеченному им курсу.
— Погоди-ка, — продолжал он, — я сумею подыскать тому доказательства и ради исполнения такового намерения поведаю тебе некоторую историю.
Вот опять одна из привычек: использовать такие обороты речи, которые сохранились, как он доподлинно знал, единственно в его репертуаре. Подозреваю, впрочем, что эту дурь за последние недели волей-неволей позаимствовал у него и я сам. Порой возникали веские причины усомниться в том, что общение шло и ему, и мне на пользу.
— История весьма поучительная, — пообещал он. — История, сплошь состоящая из невероятных поворотов, опасных приключений и экзотических соблазнов.
Тот, кто ожидает теперь скабрезного рассказа, глубочайшим образом ошибается. Прейзинг никогда не упоминал о своей интимной жизни. Тут мне и опасаться не стоило — я слишком хорошо его знал. Да была ли та жизнь? Остается лишь строить предположения, с трудом воображая эдакое. Хотя и обмануться легко. Ведь я сам иногда удивляюсь, глядя в зеркало, что человек, в котором так мало жизни, способен был отдать кому-то ее частичку. Прейзинг, готовясь приступить к рассказу, задержал шаг, как будто бросая взгляд в прошлое, вроде бы представшее ему на горизонте, а горизонт у нас тут совсем неподалеку, ибо он образован верхним краем желтой стены. Еще Прейзинг прищуривал глаза, задирал повышенос и складывал трубочкой свои тонкие губы.
— Возможно, — завел он наконец рассказ, — вовсе ничего бы и не случилось, когда бы Проданович не отправил меня в отпуск.
Проданович — это не домашний врач, хотя именно он поместил сюда Прейзинга. Проданович — это некогда молодой и все еще блестящий сотрудник Прейзинга, тот самый, кто изобрел вольфрамовую схему CBC — электронный элемент, без которого во всем мире ни одна антенна радиосвязи не могла бы осуществлять свою работу и который спас унаследованное Прейзингом коммандитное товарищество по приему телевизионного сигнала и наружным антеннам от грозящего банкротства, а далее вывел его на немыслимые высоты лидерства в производстве схем-СВС на мировом рынке. Отец Прейзинга, повременив с уходом в иной мир ровно столько времени, сколько понадобилось самому Прейзингу, чтобы завершить экономическое образование, прерванное полуторагодовой учебой в частной школе вокального искусства в Париже, завещал сыну производство телевизионных антенн с тридцатью пятью работниками в то время, когда кабельное телевидение давно уже вступило в свои права. Фирма, выросшая из дедовской мануфактуры «Дроссель & Потенциометр», где предки Прейзинга ранили пальцы в кровь, перематывая тонкую медную проволоку, обеспечивала тогда едва ли не весь свой оборот производством многометровых, но почти безусых, а оттого действительно недорогих антенн, которые радиолюбители — увы, тоже вымирающая порода — имели обыкновение ставить на крышах.
Прейзинг, лично ни в чем не повинный, возглавил гиблую ту фирму, когда требовалось принять ряд действенных решений, то есть и сомневаться не стоит, что предприятие не дожило бы доныне, если бы тот самый Проданович, молодой специалист-метролог, не разработал вольфрамовую схему-СВС и не взял бразды правления в свои руки. Значит, Проданович был в ответе и за то, что Прейзинг со временем стал не просто состоятельным собственником, но еще и генеральным директором общества с полутора тысячами сотрудников и филиалами на пяти континентах. Для видимости хотя бы, ведь операционную деятельность динамичного предприятия, ныне носившего динамичное название Prixxing, давно вел Проданович вместе с командой успешных людей, готовых к принятию решений и созданию ценностей. Однако и Прейзинг как лицо фирмы был пока востребован, ибо Проданович знал, что одного у Прейзинга не отнять: он умеет внушить ощущение надежности, твердости духа семейной фирмы в четвертом поколении. Лишь в этом одном отказывал себе Проданович, сын боснийского буфетчика, ибо сам придерживался мнения, что балканщина символизирует нестабильность, а уж такого впечатления следует избегать любой ценой. Проданович, когда только позволял плотный график, с удовольствием проводил по городским школам непродолжительные встречи с трудновоспитуемыми, являя собой пример успешной интеграции в общество. Итак, этот самый Проданович, обладатель всех полномочий, отправил Прейзинга в отпуск. Именно так он поступал, когда назревала необходимость важных решений.
Прейзингу удалось, как я сразу догадался, с самых первых слов своего рассказа увильнуть от ответственности: мол, виновник последующих событий вовсе не он сам. Не пришлось ему и решать, куда ехать. Проданович, сама эффективность, всегда старался совместить приятное с полезным. В данном случае это означало, что Прейзингу надо слетать в Тунис, где в низеньком строеньице из гофрированной стали в промышленной зоне, каких немало вокруг Сфакса, прямо на дороге в столицу размещается одно из их предприятий-поставщиков. Хозяин сборочного завода Слим Малук — оборотистый делец, развернувший деятельность в таких несходных областях, как изготовление электронных приборов, торговля фосфатами и эксклюзивный туризм. Ему принадлежит целый ряд элитных отелей, Прейзинг станет его гостем. Малук искал сближения со всеми, кто имел какое-то отношение к телекоммуникациям, но не просто оттого, что за телекоммуникациями он видел будущее, теперь это каждый видит, а ради спасения фамильного предприятия. Четырем своим умным и, как заверял Прейзинг, внешне весьма приглядным дочерям он не мог передать — к великому сожалению, но таковы тунисские порядки — управление семейным холдингом, так что ответственность ложилась полностью на плечи его сына. На плечи Фуада Малука, преждевременно согбенные под моральной тяжестью изучения геоэкологии в Париже, что не позволяло ему возглавить фирму, где основной оборот делают фосфаты, которые впоследствии в виде искусственных удобрений лежат на салатных полях Европы. Фуад даже грозил отцу попытать счастья в каком то экологически чистом крестьянском хозяйстве департамента Ло. Слим Малук, человек не просто порядочный (Прейзинг полагал, что составил о нем верное представление), но еще и разумный, намеревался отойти от фосфатов и сделать упор на телекоммуникации, отчего и возлагал надежды на знакомство с Прейзингом.
Итак, Прейзингу предстояло бегство из туманного Зееланда прямиком в тунисскую весну. Твидовый пиджак и вельветовые брюки цвета бургундского вина он сменил на пиджак в мелкую клетку цвета яичного ликера и свободные хлопковые штаны с заутюженной складкой — костюм, с его точки зрения, недопустимый, однако подготовленный для него экономкой, которую он побоялся обидеть, а потому лишь мягко улыбнулся и уселся в ее машину (ведь собственной машины Прейзинг не имел), чтобы та отвезла его в аэропорт.
— Полет прошел на редкость приятно, — уверял меня Прейзинг. — Против обыкновения, я употреблял спиртное. Стюардесса меня не расслышала и вместо заказанного сока подала виски, но я не стал отказываться, я расчувствовался из-за того, что ее нескладная фигура столь резко не соответствовала бесчисленным стилизованным газелям, украшавшим ее униформу. Стюардесса была действительно нехороша собой, а пассажиры, считая себя лишенными одного из удовольствий, которое якобы оплатили вместе с приобретенным авиабилетом, пытались на ней отыграться. Справедливости ради следовало использовать любую возможность быть с нею полюбезнее, поэтому за первой порцией виски последовала вторая, а за второй порцией последовала третья. Слим Малук в сопровождении старшей из дочерей встречал Прейзинга в прохладном зале аэропорта Тунис-Карфаген, и, когда Прейзинг увидел, каким на зависть величавым взмахом руки Малук отогнал по жаре водителя такси от здания аэропорта и пригнал на его место своего шофера, он на миг едва не поверил сплетне, будто Малук является внебрачным сыном Роже Тринкье, автора пособия «La Guerre Moderne«1, и его алжирской любовницы, которая в ту ночь, когда французы оставили Магриб, с малюткой Слимом на руках бежала в Тунис через пустыню. Благодаря своим прелестям и освоенной машинописи, она вскоре устроилась здесь на место секретарши, а далее жены некоего второразрядного депутата из партии Неодестур, замышлявшего покушение на президента Бургибу, осуществить которое не позволил лишь инфаркт, разбивший парламентария посреди заседания и заодно принесший ему, погибшему при несении службы отечеству, посмертный орден, а его вдове, бывшей любовнице французского палача алжирцев, изрядную пенсию.
Но источник, как помнилось Прейзингу, недостоверен. Этот сюжет поведал ему некий человек по имени Монсеф Даг фус, который не просто был злейшим конкурентом Малука, но еще и предлагал Прейзингу сборку схем-СВС на своем заводе в пригороде Туниса по значительно более выгодной цене, причем откровенно признавался, что эта исключительно выгодная цена объясняется в первую очередь использованием труда беженцев из Дарфура, малолетних динка. Да еще и называл их ловкими ребятами. Прейзинг рад бы сразу отказаться, но ведь с детским трудом все не так-то просто.
Вспомнилось ему, как однажды они с Продановичем ужинали в клубе либералов-предпринимателей, а сосед по столу объяснял, насколько сложна вся история с этим детским трудом. Намного сложнее, чем того желал бы любой доброхот, да ведь дело-то совсем не простое, а при определенных обстоятельствах оно, может, и не худшее из зол. Сейчас Прейзинг не был уверен, что столкнулся с теми самыми определенными обстоятельствами, ведь тогда он с большим усилием вникал в пояснения молодого человека. Но на всякий случай он отложил решение, ведь хорошо бы сначала посоветоваться с Продановичем, так что Монсеф Дагфус, услышав весьма смутные отговорки, остался не при делах. Но в оценке он ошибся. Он принял Прейзинга за крупного игрока. Скомпрометировав Слима Малука, своего конкурента, сомнительным его происхождением, завлекая Прейзинга невероятно низкими ценами, но все равно не став ему деловым партнером, он пустил в ход тяжелую артиллерию и вызвал шестерых своих дочерей. Мол, предоставляется возможность выбора, бери любую, а по возрасту все они на выданье, правда, вторая слева уже помолвлена, но в случае необходимости отчего же не устроить жениху дорожную аварию, хотя дело это деликатное, да вдобавок и пять остальных ничем не уступают шестой, нареченной. «Voila!» — сказал он, указав на своих дочерей и разведя руками. «Voila!» — отозвался Прейзинг, ибо не знал, что сказать. Разумеется, Прейзинг был шокирован, но ведь он — убежденный сторонник культурного релятивизма, причем весьма далекого от шовинизма толка. Его либеральные взгляды — тепленький, как вода в детской ванночке, релятивизм. Тем не менее он всегда готов вынести перед собой на прогулку, подобно хоругви, этику добродетелей. Прейзинга, большого поклонника Аристотелева учения о «мезотес», всегда утешало, что эту самую «середину» не вычислить арифметическим способом, она определяется — да, вот именно — в каждом случае отдельно. А тут сталкивались миры. Тут следовало быть поосторожней. Труднейший для него случай, когда надо всерьез пораскинуть умом.
Я уж было испугался, что его рассказ клонится к магрибской Шехерезаде. Вот он, экзотический соблазн: Прейзинг перед лицом шести тунисских малолеток, предложенных ему отцом как choix de fromage, как сыр на выбор в ресторане «Кроненхалле». История все-таки грозила стать скабрезной.
— Но именно тогда, когда стало совсем невмоготу, — продолжал Прейзинг, — когда этот человек принялся мне пенять, что если дочери недостаточно хороши, то нет ли смысла выпроводить их отсюда, а взамен пригласить троих его сыновей, когда я приложил все усилия, заверяя его, что выбор мучителен, ибо каждая из шести неповторима в своей привлекательности, а сам внутренне пытался найти выход, чтобы вовсе отказаться от предложения, но не обидеть его смертельно, именно тут явился за ним прислужник, на лице — лихорадочные красные пятна. Пожар на одном из фосфатных заводов! Монсеф Дагфус, оставляя меня на попечение дочерей, которые трогательнейшим образом за мною ухаживали, пообещал вскоре вернуться, чтобы узнать о моем решении.
Однако этого не случилось. Покуда дочери под надзором старухи подносили мне чай и сладости, Монсеф Дагфус размахивал руками и дико орал, пытаясь загнать рабочих обратно в очаг пожара, чтобы те вступили в битву с огнем. Но ни взмахи, ни стращание не возымели действия, и тогда он схватил ведро песка с лопатой и шагнул, подавая пример личного мужества, прямиком к горящему складу, навстречу порожденной мощным взрывом ударной волне, оторвавшей Дагфусу голову, а его фосфатный завод, гофрированную сталь, допотопные конвейеры, французские экскаваторы и американские погрузчики разметавшей широким радиусом по каменистому ландшафту.
— Тот же слуга принес печальную весть, и я настроился на фольклорный траурный обряд. Громкие стенания, вырывание волос пучками, картинное расцарапывание искаженных горем лиц, обмороки и все такое прочее. Вместо этого шесть дочерей молча переглянулись, унесли стаканы и серебряный чайник, а меня выставили за дверь с недоеденной пахлавой в руке.
Правду ли рассказывал Прейзинг, нет ли — нипочем не разберешь, но суть не в том. Для Прейзинга суть в морали. По его мнению, в любой истории, достойной пересказа, содержится мораль. Обычно эти истории свидетельствуют о собственной его благоразумности, которую он столь высоко превозносит. Благоразумности, которую доктор Бечарт считает подлежащей лечению, но для которой даже через три недели после поступления Прейзинга все еще не подыскала точного определения в психопатологии.
Диагностика затрудненная, симптоматика неявная, к тому же нежелание пациента признать свою болезнь, проявлявшееся то вдруг в любезности и доброжелательности, то опять в твердолобом упрямстве, нисколько не упрощало дела.
Моя заурядная депрессия несравненно проще поддавалась диагностике и тем самым не представляла особого интереса. Хотя оба мы — что Прейзинг, что я — не могли признать себя способными к самостоятельным действиям. Ему удалось приписать этот явный порок к своим добродетелям. Я же, напротив, очень от него страдаю. Но попытка что-либо зменить означала бы действие.
— Так или иначе, — продолжал Прейзинг, — сведения поступили из недостоверного источника, да и без того поведение Слима Малука не давало ни малейшего повода усомниться в безупречном его происхождении. По всей форме усадил он меня рядом с дочерью Саидой на заднее сиденье французского лимузина, чьи мореходные качества на разбитых мостовых Туниса вызвали у меня в памяти скачку на верблюде — впрочем, о верблюдах несколько позже, — перебил Прейзинг сам себя. — Слим Малук захлопнул за мною дверцу, а сам сел за руль стоявшего совсем рядом, но не замеченного мною внедорожника. Прижав трубку к уху и обворожительно сделав нам ручкой, он умчался прочь. Мы увидимся снова лишь вечером. К глубочайшему сожалению, как он меня уверял, ссылаясь на исключительную занятость, но зато Саида позаботится обо мне и проводит в один из находящихся в ее ведении отелей, предоставив мне там кров на первую ночь. Жестом, исполненным достоинства и развеявшим мои последние сомнения относительно семейства Малук, указывала мне Саида на достопримечательности, которые проплывали за тонированными автомобильными стеклами. Краешек Тунисского озера, несколько метров авеню Хабиба Бургибы, супермаркет Magasin General, какие-то диковинные двери. Я с интересом крутил головой. Так, будто вижу все это впервые. Малуку необязательно знать, что около года назад я уже провел несколько дней в Тунисе по приглашению Монсефа Дагфуса, его конкурента.
Машина остановилась на одной из улочек близ Place de la Victoire перед выбеленным известью четырехэтажным зданием с синими оконными ставнями, со множеством стройных колонн и узорной кладкой в мавританском стиле. Дверца автомобиля открылась, и Саида объявила: L`Hôtel d`Elisha. Ах, Элисса, известная также под римским именем Дидона, основательница и правительница Карфагена…
1 «Современная война» (франц.).
Метка: Зарубежная литература
Майкл Каннингем. Снежная королева
- Майкл Каннингем. Снежная королева / Пер. с англ. Д. Карельского. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 352 с.
Майкл Каннингем, автор знаменитых «Часов» и «Дома на краю света», вновь подтвердил свою славу одного из лучших американских прозаиков. Тонко чувствующий современность, Каннингем написал роман «Снежная королева». Его герои братья Баррет и Тайлер, жители богемного Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, пребывающие в вечном поиске смысла жизни и своего призвания. Они так и остались детьми — словно персонажи из сказки Андерсена, они пытаются спасти себя и близких, никого не предать и не замерзнуть.
Ноябрь 2004
В спальне Тайлера и Бет идет снег. Снежинки — плотные студеные крупинки, а совсем не хлопья, в неверном сумраке раннего утра скорее серые, а не белые, — кружась, падают на пол и на изножье кровати.
Тайлер просыпается, сон сразу же почти бесследно улетучивается — остается только ощущение тревожной, чуть нервной радости. Он открывает глаза, и в первый момент рой снежинок в комнате кажется ему продолжением сна, ледяным свидетельством небесной милости. Но потом становится ясно, что снег настоящий и что его надуло в окно, которое они с Бет оставили открытым на ночь.
Бет спит, свернувшись калачиком, у Тайлера на руке. Он бережно высвобождает из-под нее руку и встает закрыть окно. Ступая босиком по тонко заснеженному полу, идет сделать то, что следует сделать. Ему приятно сознавать собственное благоразумие. В Бет Тайлер встретил первого человека в своей жизни еще более непрактичного, чем он сам. Проснись Бет сейчас, она наверняка попросила бы не закрывать окно. Ей нравится, когда их тесная, забитая вещами спальня (стопки книг и сокровища, которые Бет все тащит и тащит в дом: лампа в виде гавайской танцовщицы, которую в принципе еще можно починить; обшарпанный кожаный чемодан; пара хлипких, тонконогих стульев) превращается в игрушку — рождественский снежный шар.
Тайлер с усилием закрывает окно. В этой квартире все какое-то неровное и перекошенное. Если на пол посреди гостиной уронить стеклянный шарик, он укатится прямиком к входной двери. В последний момент, когда Тайлер уже почти опустил оконную раму, в щель с улицы врывается отчаянный снежный заряд — словно бы спешит использовать последний шанс… Шанс на что?.. На то, чтобы оказаться в убийственном для него тепле спальни? Чтобы успеть впитать жар и растаять?С этим последним порывом в глаз Тайлеру залетает соринка или, может быть, не соринка, а микроскопический кусочек льда, совсем крошечный, не больше самого мелкого осколка разбитого зеркала. Тайлер трет глаз, но соринка не выходит, она прочно засела у него в роговице. И вот он стоит и смотрит — одним глазом видно нормально, второй совсем затуманен слезами, — как снежная крупа бьется в стекло. Самое начало седьмого. За окном белым-бело. Слежавшиеся сугробы, которые день за днем росли по периметру парковки и походили раньше на невысокие серые горы, присыпанные тут и там блестками городской копоти, теперь сияют белизной, как на рождественской открытке; хотя нет, чтобы получилась настоящая рождественская открытка, надо особенным образом сфокусировать взгляд, удалить из поля зрения светло-шоколадную цементную стену бывшего склада напротив (на ней до сих пор потусторонней тенью проступает каллиграфически начертанное слово «цемент», как будто это строение, так давно заброшенное людьми, напоминает им о себе, шепча выцветшим голосом свое имя) и тихую, не отошедшую еще ото сна улицу, над которой сигнальным файером моргает и жужжит неоновая буква в вывеске винного магазина. Даже мишурные декорации этого призрачного, малолюдного квартала, где из-под окон у Тайлера уже год никак не уберут остов сгоревшего «бьюика» (ржавый, выпотрошенный, расписанный граффити, он выглядит причудливо-благостно в своей абсолютной ненужности), одеваются в предрассветном сумраке лаконично-суровой красотой, дышат поколебленной, но не убитой надеждой. Да, и в Бушвике так бывает. Валит снег, густой и безукоризненно чистый, — и есть в нем что-то от божественного дара, как если бы компания, поставляющая в кварталы получше тишину и согласие, в кои-то веки ошиблась адресом.
Когда не сам выбираешь место и образ жизни, полезно уметь благодарить судьбу даже за скромные милости.
А Тайлер как раз не выбирал этот мирно обнищавший район складов и парковок, где стены зданий отделаны древним алюминиевым сайдингом, где при строительстве думали только о том, как подешевле, где мелкие предприятия и конторы едва сводят концы с концами, а присмиревшие обитатели (в большинстве своем это доминиканцы, которые приложили немало сил, чтобы попасть сюда, и наверняка питали более смелые надежды, чем те, что сбываются в Бушвике) послушно тащатся на работу или с работы, самой что ни на есть грошовой, и весь их вид говорит о том, что бороться дальше бессмысленно и надо довольствоваться тем, что есть. Здешние улицы уже и не особенно опасны, время от времени кого-нибудь по соседству, конечно, грабят, но как будто нехотя, по инерции. Когда стоишь у окна и смотришь, как снег обметает переполненные мусорные баки (мусоровозы лишь изредка и в самые непредсказуемые моменты вспоминают, что сюда тоже стоит заглянуть) и скользит языками по растресканной мостовой, трудно не думать о том, что ждет этот снег впереди, — о том, как он станет бурой слякотью, а из нее ближе к перекресткам образуются лужи по щиколотку глубиной, где будут плавать окурки и комочки фольги от жвачки.
Надо возвращаться в постель. Еще одна сонная интерлюдия — и кто знает, может статься, что мир, в котором проснется Тайлер, окажется еще чище, будет укрыт поверх праха и тяжких трудов еще более плотным белым покрывалом.
Но ему муторно и тоскливо и не хочется в таком состоянии ложиться. Отойдя сейчас от окна, он уподобится зрителю тонкой психологической пьесы, которая не получает ни трагического, ни счастливого финала, а постепенно сходит на нет, пока со сцены не исчезнет последний актер и публика наконец не поймет, что представление окончено и пора расходиться по домам.
Тайлер обещал себе сократить дозу. Последние пару дней это у него получалось. Но сейчас, именно в эту минуту, возникла ситуация метафизической необходимости. Состояние Бет не ухудшается, но и не улучшается. Никербокер-авеню послушно застыла в нечаянном великолепии, перед тем как снова покрыться привычными грязью и лужами.
Ладно. Сегодня можно сделать себе поблажку. Потом он снова с легкостью возьмет себя в руки. А теперь ему необходимо поддержать себя — и он поддержит.
Тайлер подходит к прикроватной тумбочке, достает из нее пузырек и вдыхает из него по очереди каждой ноздрей.
Два глотка жизни — и Тайлер мигом возвращается из ночного сонного странствия, все вокруг снова обретает ясность и свой смысл. Он снова обитает в мире людей, которые соперничают и сотрудничают, имеют серьезные намерения, горят желанием, ничего не забывают, идут по жизни без страхов и сомнений.
Он снова подходит к окну. Если та принесенная ветром льдинка действительно вознамерилась срастись с его глазом, то ей это удалось — благодаря крошечному увеличительному зеркальцу он все теперь видит гораздо яснее.
Внизу перед ним все та же Никербокер-авеню, и скоро к ней вернется обычная ее городская безликость. Не то чтобы Тайлер на время об этом забыл — нет-нет, просто неминуемо грядущая серость ничего не значит, вроде того как Бет говорит, что морфий не убивает боль, а отодвигает ее в сторону, превращает в некий вставной номер шоу, необязательный, непристойный (А вот, поглядите, мальчик-змея! А вот женщина с бородой!), но оставляющий равнодушным — мы-то знаем, что это обман, дело рук гримера и реквизитора.
Боль самого Тайлера, не такая сильная, как у Бет, отступает, кокаин высушивает нутряную сырость, от которой искрили провода у него в мозгу. Бьющий по ушам фуз брутальная магия мгновенно переплавляет в кристальной чистоты и ясности звук. Тайлер облачается в привычное свое платье, и оно садится на нем как влитое. Зритель-одиночка, в начале двадцать первого века он стоит голышом у окна, грудь его полнится надеждой. В этот миг ему верится, что все в жизни неприятные сюрпризы (ведь он совсем не рассчитывал, что будет к сорока трем годам безвестным музыкантом, живущим в пронизанном эротикой целомудрии с умирающей женщиной и в одной квартире с младшим братом, который мало-помалу превратился из юного волшебника в усталого немолодого фокусника, в десятитысячный раз выпускающего из цилиндра голубей) складно ложатся в некий непостижимый замысел, слишком громадный для того, чтобы его понять; что в осуществлении этого замысла сыграли свою роль все упущенные им возможности и проваленные планы, все женщины, которым самой малости не хватало до идеала, — все то, что в свое время казалось случайным, но на самом деле вело его к этому окну, к нынешней непростой, но интересной жизни, к неотвязным влюбленностям, подтянутому животу (наркотики этому способствуют) и крепкому члену (тут они не при чем), к скорому падению республиканцев, которое даст шанс народиться новому, холодному и чистому миру.
В том новорожденном мире Тайлер возьмет тряпку и уберет с пола нападавший снег — кому, кроме него, этим заняться? Его любовь к Бет и Баррету станет еще чище, еще беспримеснее. Сделает так, чтобы они ни в чем не нуждались, возьмет дополнительную смену в баре, воздаст хвалу снегу и всему тому, чего снег коснется. Он вытащит их троих из этой унылой квартиры, достучится неистовой песнью до сердца мирозданья, найдет себе нормального агента, сошьет расползшуюся ткань, не забудет замочить фасоль для кассуле, вовремя отвезет Бет на химиотерапию, начнет меньше нюхать кокс, а с дилаудидом1 завяжет совсем и дочитает наконец «Красное и черное». Он крепко сожмет в обьятьях Бет и Баррета, утешит, напомнит, что в жизни очень мало вещей, о которых действительно стоит беспокоиться, будет кормить их и занимать рассказами, которые шире откроют им глаза на самих себя.
Ветер переменился, и снег за окном стал падать иначе, как если бы некая благая сила, некий громадный невидимый наблюдатель предугадал желание Тайлера мгновением раньше, чем тот понял, чего желает, и оживил картину — ровно и неспешно падавший снег вдруг вспорхнул трепещущими лентами и принялся чертить карту завихрений воздушных потоков; и тут — ты приготовился, Тайлер? — настает момент выпустить голубей, вспугнуть пять птиц с крыши винного магазина и почти сразу же (ты следишь?) развернуть их, посеребренных первым светом зари, против снежных волн, набегающих с запада и несущихся к Ист-Ривер (ее неспокойные воды вот-вот пробороздят укутанные белым, словно сделанные изо льда баржи); а в следующий миг — да, ты угадал — приходит время погасить фонари и выпустить из-за угла Рок-стрит грузовик с не потушенными пока фарами и гранатово-рубиновыми сигнальными огоньками, мигающими у него на плоской серебряной крыше, — само совершенство, восхитительно, спасибо.
1 Дилаудид — наркотический анальгетик, производное морфина.
Элиф Шафак. Честь
- Элиф Шафак. Честь. — СПб.: Азбука, 2014.
В начале октября в «Азбуке» впервые на русском языке выходит книга турецкой писательницы Элиф Шафак «Честь». История трех поколений одной семьи, находящейся в тисках многовековых традиций и понятий о долге и воздаянии за проступки, вызвала множество дискуссий на родине автора. Элиф Шафак описывает мир, в котором честь ценится гораздо выше, чем человеческая жизнь. Закон чести вынуждает шестнадцатилетнего подростка вести себя «как мужчина», что в результате приводит его к абсурдному убийству, а нескольких женщин — к смерти.
Сейчас, сидя в больничном коридоре, Пимби по-детски откровенно разглядывала ожидавших своей очереди мужчин и женщин. Кто-то курил, кто-то жевал принесенные из дома лепешки, некоторые потирали больные места и стонали от боли. Воздух насквозь пропах потом, дезинфекцией и микстурой от кашля.
Чем больше Пимби наблюдала за больными, тем сильнее она восхищалась доктором, с которым предстояло встретиться. Человек, способный излечить от всех этих тяжких недугов, наверняка не похож на других людей, решила она. Может быть, он пророк. Или маг. Не имеющий возраста волшебник, пальцы которого способны творить чудеса. Пимби изнемогала от любопытства и, когда их очередь наконец подошла, вслед за отцом с готовностью юркнула в дверь кабинета.
Внутри все оказалось белым. Но не таким белым, как мыльная пена на поверхности воды, когда они стирали одежду. Не таким белым, как снег, который покрывает землю зимними ночами. Не таким белым, как сыворотка, которую смешивают с черемшой, чтобы приготовить сыр. То был суровый, неестественный белый цвет, которого Пимби никогда раньше не видела. Такой холодный, что она задрожала. Стулья, стены, плитка на полу, смотровой стол и даже склянки и скальпели — все сверкало мертвенной белизной. Пимби прежде и в голову не приходило, что белый цвет может быть таким гнетущим, таким тягостным, таким пугающим.
Еще сильнее ее удивило, что доктор оказался женщиной, но женщиной, совершенно не похожей на ее мать, на ее теток и соседок. Точно так же, как кабинет поражал отсутствием цвета, доктор поражала отсутствием каких-либо привычных Пимби женских черт. Под белым халатом докторши она заметила серую юбку до колен, а на ногах тонкие мягкие шерстяные чулки и кожаные туфли. Квадратные очки делали женщину похожей на сердитую сову. Пимби никогда не видела сов, тем более сердитых, но была уверена, что они должны выглядеть именно так. Докторша разительно отличалась от женщин, которые работают в полях от рассвета до заката, покрываются морщинами, потому что им часто приходится щуриться на солнце, и рожают детей до тех пор, пока не произведут на свет достаточное число сыновей. Женщина, сидевшая перед Пимби, привыкла, чтобы все люди, включая мужчин, ловили каждое ее слово. Даже Берзо в ее присутствии поспешил снять шапку и смущенно опустил голову.
Доктор едва удостоила отца и дочь недовольным взглядом. Казалось, их присутствие в кабинете утомляет и раздражает ее. Ясно было, что в конце трудного дня ей вовсе не хочется возиться с такими жалкими людьми, как эти двое. Она не снизошла до разговора с ними, предоставив сестре задавать необходимые вопросы: «Какой породы собака? Не текла ли пена у нее из пасти? Не пугалась ли она при виде воды? Укусила ли она еще кого-нибудь? Осмотрели ли ее после случившегося?» Сестра говорила очень быстро, словно слышала тиканье часов, напоминавших, что время на исходе. Про себя Пимби порадовалась, что мать не поехала с ними. Нази не смогла бы поддержать разговор в таком темпе и наверняка еще больше встревожилась бы и поняла все неправильно.
Доктор выписала рецепт, а сестра сделала девочке укол в живот, отчего та заревела во все горло. Выйдя в коридор, Пимби все еще плакала, а любопытство, с которым на нее смотрели незнакомые люди, расстроило ее еще сильнее. Отец, который, выйдя из кабинета, поднял голову, распрямил плечи и снова стал прежним Берзо, постарался утешить дочку и шепнул ей на ухо, что она молодец и, если будет вести себя как хорошая девочка, он поведет ее в кино.
Слезы моментально высохли, и глаза Пимби радостно заблестели. Слово «кино» напоминало конфету в обертке: не знаешь, что скрывается внутри, но не сомневаешься, что это нечто восхитительное.
* * * В городе было два зрительных зала. Один использовался в основном для выступлений заезжих политиков и редко предоставлял свою сцену для местных актеров и музыкантов. Перед выборами и после них здесь собиралась толпа мужчин, и ораторы произносили зажигательные речи, наполненные обещаниями и обличениями, которые носились в воздухе подобно сердитым пчелам.
Второй зал был значительно скромнее размерами, но пользовался не меньшей популярностью. Его владелец предпочитал кино политическим дебатам и выкладывал контрабандистам немалые деньги за новые фильмы, которые ему доставляли вместе с чаем, табаком и прочими товарами. Благодаря этому жители Урфы имели возможность посмотреть картины самых разных жанров — чуть ли не все вестерны Джона Уэйна, «Человека из Аламо», «Юлия Цезаря», а также «Золотую лихорадку» и прочие комедии, главным героем которых был маленький человечек с черными усиками.
В тот день показывали какой-то черно-белый турецкий фильм, который Пимби от первого до последнего кадра смотрела с открытым ртом. Главная героиня, очень красивая, но бедная девушка, влюбилась в богатого юношу, избалованного и эгоистичного. Но он изменился под действием волшебной силы любви. Все вокруг, начиная с родителей юноши, пытались помешать влюбленным и разлучить их, но они продолжали тайно встречаться под ивой на берегу реки. Во время свиданий они держались за руки и пели песни, исполненные печали.
Пимби понравилось в кино абсолютно все — нарядное фойе, тяжелый занавес, глухая, предвещающая чудо темнота в зале перед началом сеанса. Ей не терпелось рассказать Джамиле об этом новом чуде. В автобусе по пути домой она снова и снова пела песню из фильма:
Твое имя начертано в книге моей
судьбы, Твоя любовь течет в моих венах.
Если ты улыбнешься другому,
Я убью себя или умру от печали.Распевая, Пимби покачивала бедрами и взмахивала руками. Все пассажиры хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Когда она наконец замолчала — скорее от усталости, чем от неожиданного стеснения, — Берзо расхохотался и смеялся так долго, что на глазах выступили слезы.
— Я и не знал, что у меня такая талантливая дочка, — сказал он, и в голосе его послышались нотки гордости.
Пимби уткнулась лицом в грудь отца, вдыхая запах лавандового масла, которым он смазывал усы. Тогда она даже не подозревала, что это одно из самых счастливых мгновений в ее жизни.
* * * Вернувшись домой, они застали Джамилю в ужасном состоянии: глаза распухли, лицо покрыто красными пятнами. Весь день она простояла у окна, покусывая нижнюю губу и теребя в руках прядь волос. Потом, внезапно и без всякой причины, залилась слезами. Несмотря на все попытки матери и сестер успокоить ее, она продолжала рыдать.
— А когда Джамиля начала плакать? — спросила Пимби.
— Да где-то в полдень, — пожала плечами Нази. — Почему ты спрашиваешь?
Пимби не ответила. Она узнала то, что хотела узнать. Когда ей сделали укол и она заплакала, ее сестра-двойняшка, отделенная от нее расстоянием в десятки миль, заплакала тоже. Люди говорят, что у близнецов одна душа. Но, похоже, общего у них даже больше. Между их телами тоже существует связь. Судьба и Достаточно. Если одна из них закрывает глаза, другая перестает видеть. Если одна из них вдруг поранится, у другой течет кровь. Если одной из них снится кошмар, сердце другой бешено колотится.
В тот же вечер Пимби продемонстрировала Джамиле танец, который видела в кино. По очереди изображая героиню, они целовались и обнимались, как влюбленная парочка в фильме, и при этом беспрестанно хихикали.
— Что это вы расшумелись?
Голос Нази звучал недовольно и резко. Она перебирала рис, рассыпанный на большом плоском блюде.
Глаза Пимби расширились от обиды.
— Мы просто танцуем.
— С чего это вы решили заняться танцами? —
буркнула Нази. — Вы что, намерены стать шлюхами?Пимби не знала, кто такие шлюхи, но не осмелилась спросить. Горячая волна обиды захлестнула ее с головой. Почему песня, которая так понравилась пассажирам автобуса, вызвала у матери лишь раздражение? Почему чужие люди оказались более доброжелательными, чем самый близкий человек на свете? Пока она размышляла над этими вопросами, Джамиля сделала шаг вперед, виновато потупилась и пробормотала:
— Прости, мама. Мы больше не будем.
Пимби, ощущая, что ее предали, метнула на сестру возмущенный взгляд.
— Если я вас и останавливаю, то для вашего же блага, — проворчала Нази. — Тот, кто сегодня слишком много смеется, завтра будет плакать. За все приходится платить — помните об этом.
— Не понимаю, почему мы не можем смеяться сегодня, завтра и всегда, — заявила Пимби.
Теперь настал черед Джамили хмуриться. Дерзость, проявленная сестрой, не только изумила ее, но и подставила под удар. Джамиля затаила дыхание, ожидая дальнейшего развития событий. Сейчас мать возьмет в руки скалку. Когда одна из девочек совершала какую-то провинность, Нази лупила скалкой обеих. По лицу она никогда не била, памятуя о том, что красота заменяет девушке приданое, но спинам и задницам доставалось изрядно. Девочек всегда удивляло, как одна и та же скалка способна причинять такую боль и помогать в приготовлении аппетитных пирожков, которые они обожали.
Но в тот вечер Нази изменила своему обыкновению и не стала наказывать дочерей. Вместо этого она сморщила нос, покачала головой и уставилась в пространство, словно хотела оказаться где-нибудь далеко отсюда. Когда она заговорила вновь, голос звучал спокойно и ровно:
— Скромность — это щит, которым женщина может оградить себя. Зарубите на своих носах: если вы утратите скромность, цена вам будет меньше истертого куруса1. Этот мир жесток и безжалостен.
Мысленно Пимби подкинула монету в воздух и поймала в ладонь. У монеты всего две стороны. Ты можешь победить или потерпеть поражение — другого выбора нет. Можешь стяжать почет или позор и, если окажешься в проигрыше, не рассчитывать на сочувствие и сострадание.
Дело в том, продолжала Нази, что женщин Создатель скроил из тончайшего белого батиста, а мужчин из плотной темной шерсти. Одним предназначено господствовать над другими — такова воля Аллаха. А главная обязанность всякого человека — безропотно покоряться Его воле. Дело в том, что на черном пятна не видны, а на белом даже самое маленькое, слабое пятнышко бросается в глаза. Именно поэтому, стоит женщине лишь немного согрешить, это моментально становится всеобщим достоянием. От такой женщины все отворачиваются, ее выбрасывают из жизни, словно шелуху от зерна. Если девушка утратит девственность до брака, пусть даже подарив ее любимому человеку, она лишится будущего. Что касается мужчины, на него не упадет даже тень порицания.
Таков был мир, в котором родились Розовая Судьба и Достаточно Красивая. В этом мире слово «честь» было не просто словом, но и именем. Но это имя давали только мальчикам. Только мужчины имели честь, будь они стариками, мужами в расцвете лет или же юнцами, на губах которых еще не обсохло материнское молоко. У женщин чести не было. Честь им заменял стыд. Но носить такое имя, как Стыд, никому не пожелаешь.
Пимби слушала мать и представляла ослепительно-белый кабинет доктора. Неприятное чувство, которое она испытала там, овладело ею с новой силой. Есть столько всяких цветов, помимо черного и белого, думала она: фисташково-зеленый, орехово-коричневый, голубой, как цветы барвинка. А помимо батиста и шерсти, есть бархат, шелк, парча и еще много-много красивых тканей. Почему же она должна пренебречь всем этим богатством и жить в двухцветном мире, скучном и плоском, как блюдо, на котором рассыпан рис.
По иронии судьбы, так часто проявлявшейся в жизни Пимби, наставления, раздражавшие ее в устах матери, она много лет спустя слово в слово повторяла своей собственной дочери Эсме в Англии.
1 Мелкая турецкая монета.
Томас Пинчон. V.
- Томас Пинчон. V. — М.: Эксмо, 2014. — 672 с.
Интрига романа «V.», написанного Томасом Пинчоном в 1963 году, строится вокруг поисков загадочной женщины, имя которой начинается на букву заявленную в названии. Из Америки конца 1950-х годов ее следы ведут в предшествующие десятилетия и в различные страны, а ее обнаружение может повлиять на ход истории. Как и другим книгам американского писателя, «V.» присуща постмодернистская атмосфера таинственности, которая сочетается с юмором и философской глубиной.
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой Бенни Профан, шлемиль
и одушевленный йо-йо,
окончательно отбивается от рук V.I В Сочельник 1955-го Бенни Профану, в черных «ливайсах», замшевой куртке, подкрадухах и здоровенной ковбойской шляпе, случилось миновать Норфолк, Вирджиния. Подверженный сентиментальным порывам, он решил заглянуть в «Могилу моряка», таверну своего прежнего корыта на Восточной Главной. Проник в нее он через «Аркаду», с чьего Восточно-Главного конца сидел старый уличный певец с гитарой и пустой банкой из-под «Стерно» для подношений. А на улице старший писарь пытался отлить в бензобак «пакарда-патриция» 54-го года, и пять или шесть младших матросов стояли кругом, ему потворствуя. Старик пел превосходным крепким баритоном:
Что ни вечер, на Восточной Главной — Рождество.
Здесь моряки подружек обретут,
Огни — рубин и изумруд —
Дружбу и любовь влекут,
Из моря корабли они зовут.
Мешок у Санты грезами набит,
И пиво бьет шампанским озорством.
Тут любят кельнерши любить
И не дают тебе забыть,
Что на Восточной Главной — Рождество.— Эгей, старшой, — завопил один бес. Профан свернул за угол. Как за нею водится, без особого предупреждения Восточная Главная напрыгнула на него.
Уволившись с Флота, Профан клал дороги, а когда работы не было — просто перемещался, вверх и вниз по восточному побережью, как йо-йо; и длилось это, может, года полтора. Проведя столько на стольких именованных мостовых, что и считать неохота, Профан стал относиться к улицам с легкой опаской, особенно — к таким. Все они вообще-то сплавились в единственную отвлеченную Улицу, о которой с полнолунием ему будут сниться ужасы. Восточная Главная, гетто для Пьяных Матросов, с которыми никто не знает, Что Делать, налетала на нервы со всею внезапностью обычного ночного сна, который обращается в кошмар. Собака в волка, свет в межесветок, пустота в затаившееся присутствие, вот тебе сопляк-морпех блюет посреди улицы, кельнерша с гребным винтом, наколотым на каждой ягодице, один потенциальный бесноватый, что присматривается, как бы получше сигануть в оконное стекло (когда кричать «Джеронимо»? до или после того, как стекло разобьется?), пьяный боцманмат плачет, забившись в переулок, потому что когда БП-ы в последний раз его таким поймали — укатали в смирительную рубашку. Под ногой, то и дело, начинался вибреж тротуара от берегового патрульного во многих фонарях оттуда, что ночной своей дубинкой выстукивал «Атас»; над головой, зеленя и уродуя все лица, сияли ртутные лампы, удаляясь асимметричной V к востоку, где темно и баров больше нет.
Прибыв в «Могилу моряка», Профан застал разгар небольшой потасовки между матросами и гидробойцами. Миг постоял в дверях, наблюдая; затем, осознав, что он уже и так одной ногой в «Могиле», нырнул вбок, чтоб не мешать драке, и прикинулся более-менее шлангом у латунных поручней.
— И чего не жить человеку в мире со своими собратьями, — поинтересовался голос за левым ухом Профана. То была кельнерша Беатрис, возлюбленная всего 22-го Дивизиона ЭМ, не говоря о прежнем судне Профана, военном корабле США эскадренном миноносце «Эшафот». — Бенни, — возопила она. Они понежничали, снова встретившись после такой долгой разлуки. Профан принялся рисовать в опилках сердечки, стрелки сквозь них, морских чаек, несущих в клювах транспарант, гласивший «Дорогая Беатрис».
Экипаж «Эшафота» отсутствовал — жестянка эта отчалила в Средь позавчера вечером под целый шторм нытья команды, долетавший аж до облачных Путей (как утверждала байка) голосами с корабля-призрака; даже в «Малом Ручье» слышали. Соответственно, сегодня вечером кельнерш имелось в наличии несколько больше обычного, обслуживали столики по всей Восточной Главной. Ибо говорится же (и говорится недаром), что стоит лишь судну вроде «Эшафота» отдать концы, как некие военно-морские жены в момент переоблачаются из штатского в официанточьи мундиры, разминают пивоносные руки и репетируют милые улыбки потаскуний; не успеет оркестр ОБ ВМС доиграть «Старое доброе время», а эсминцы еще продувают трубы, осыпая черными хлопьями будущих рогоносцев, что мужественно вытянулись по стойке смирно, отбывая с сожаленьем и скупыми ухмылками.
Беатрис принесла пиво. От какого-то столика в глубине донесся пронзительный вяк, она дернулась, пиво плеснулось через обод стакана.
— Боже, — сказала она, — опять Фортель. — Фортель нынче служил мотористом на минном тральщике «Порывистый» и скандалом на всю длину Восточной Главной. Росту в нем было пять футов без гака в палубных сапогах, и он вечно пер на рожон против самых здоровенных на судне, зная, что всерьез они его никогда не воспримут. Десять месяцев назад (перед тем, как его перевели с «Эшафота») Флот решил удалить Фортелю все зубы. В ярости Фортель кулаками пробил себе дорогу сквозь старшину-санинструктора и двух офицеров-стоматологов, и только после этого решили, что он свои зубы хочет сохранить на полном серьезе.
— Но подумай сам, — кричали офицеры, стараясь не расхохотаться и отмахиваясь от его крохотных кулачков: — Обработка корневого канала, абсцессы десен…
— Нет, — верещал Фортель. Наконец пришлось двинуть ему в бицепс уколом пентотала. Проснувшись, Фортель узрел апокалипсис, орал продолжительные непристойности. Два месяца он жутким призраком бродил по «Эшафоту», без предупреждения подпрыгивал и раскачивался на подволоке, будто орангутанг, пытался пнуть комсостав в зубы.
Стоял, бывало, на кормовом подзоре и ездил по ушам тем, кто б ни готов был его слушать, разглагольствуя ватным ртом с больными деснами. Когда же во рту все зажило, ему вручили комплект блестящих уставных мостов, верхнего и нижнего.
— Боже мой! — заревел он и попытался прыгнуть за борт. Но его скрутил гаргантюанских габаритов негр по имени Дауд.
— Ты чего это, малявка, — сказал Дауд, подымая Фортеля за голову и пристально разглядывая эти судороги робы и ропота, чьи ноги бились в ярде над палубой.
mdash; Ты зачем это хочешь пойти и такое учинить?
— Мужик, да я сдохнуть хочу, больше ничего, — вскричал Фортель.
— Ты разве не знаешь, — произнес Дауд, — что ценнее жизни у тебя имущества нет?
— Хо, хо, — ответил Фортель сквозь слезы. — Почему это?
— Потому, — сказал Дауд, — что без нее ты труп.
— А, — сказал Фортель. Неделю потом об этом думал. Успокоился, снова стал ходить в увольнения на берег. Перевод на «Порывистый» сбылся. Вскоре, после
Отбоя, машина начинала слышать странный скрежет от койки Фортеля. Так оно шло недель пару-тройку, пока однажды ночью, часа в два, кто-то не зажег в кубрике свет — Фортель сидел по-турецки на койке и точил зубы небольшим полудрачевым напильником. В следующий вечер выдачи денежного довольствия Фортель сидел за столом в «Могиле моряка» с прочей машиной, тише обычного. Около одиннадцати мимо качко пронесло Беатрис с подносом пива. Злорадно Фортель высунул голову, широко распахнул челюсти и впился свежезаточенными протезами в правую ягодицу кельнерши. Беатрис завопила, стаканы полетели, параболически сверкая и орошая «Могилу моряка» водянистым пивом.
Это стало у Фортеля любимым развлечением. По дивизиону, по эскадре, а то и по всему Атлантическому миноносному соединению поползли слухи. Не служащие на «Порывистом» или «Эшафоте» приходили посмотреть. От этого начиналось множество драк вроде происходящей нынче.
— Кого он цапнул, — спросил Профан. — Я не видел.
— Беатрис, — ответила Беатрис. Беатрис была еще одной кельнершей. Миссис Буффо, хозяйка «Могилы моряка», которую тоже звали Беатрис, выдвинула теорию: как маленькие дети всех женщин зовут мамой, так и моряки, по-своему равно беспомощные, должны всех кельнерш звать Беатрис. В целях дальнейшего осуществления этой материнской политики она установила у себя заказные пивные краны, выполненные из пенорезины, в виде гигантских грудей. С восьми до девяти в вечер жалованья тут происходило нечто, миссис Буффо называемое Часом Отсоса. Она его официально начинала, являясь из подсобки в кимоно, расшитом драконами, которое ей подарил воздыхатель с Седьмого флота, подносила к губам боцманскую дудку и давала сигнал «Команде Ужинать». По нему все кидались к пивным кранам и, если везло добраться, из них удавалось соснуть. Кранов таких было семь, и обычно на такую потеху собиралось в среднем по 250 моряков.
Вот из-за угла бара высунулась голова Фортеля. Он щелкнул Профану зубами.
— А вот, — сказал Фортель, — мой друг Росни Гланд, на борту недавно. — Он показал на длинного печального мятежника с огромным клювом — дылда подвалил вместе с Фортелем, волоча по опилкам гитару.
— Здрасьте, — сказал Росни Гланд. — Мне хотелось бы спеть вам песенку.
— В честь того, что ты стал РПК , — сказал Фортель. — Росни ее всем поет.
— Это в прошлом году было, — сказал Профан.
Однако Росни Гланд уперся ногой в латунный поручень, гитарой в колено и затрямкал. После восьми тактов эдакого он запел в темпе вальса:
Разнесчастный Понурый Крысеныш,
По тебе все рыдают тайком.
В кубриках и на мостике грустно,
Слезы льет даже жалкий старпом.
Ты списался и сделал ошибку,
Жопу драть тебе целились шибко,
Рапортов на тебя — знай держись.
Ну а мне б — только флотскую лямку,
Крысой посуху — это не жизнь.— Симпатично, — вымолвил Профан в стакан с пивом.
— Дальше — больше, — сказал Росни Гланд.
— О, — сказал Профан.
Сзади Профана вдруг окутали миазмы зла; на плечо ему мешком картошки обрушилась рука, а в поле периферического зрения вполз пивной стакан, окруженный крупной варежкой, неумело сработанной из шерсти недужного бабуина.
— Бенни. Как делишки, чахнут, хьё, хьё.
Такой смех мог исходить только от Профанова некогда-сослуживца Свина Будина. Профан обернулся. И впрямь. «Хьё, хьё» примерно отображает смех, образуемый подведением кончика языка к основаньям верхних центральных резцов и выдавливанием из глотки гортанных звуков. Звучал он, как Свин и надеялся, до ужаса непристойно.
— Старина Свин. Ты разве не пропускаешь передислокацию?
— Я в самоволке. Боцманмат Папик Год вынудил дать тягу. — Избегать БП лучше всего по трезвянке и со своими. Потому и «Могила моряка».
— Как Папик.
Свин рассказал ему, как Папик Год и кельнерша, на которой он женился, разбежались. Она отвалила и устроилась работать в «Могилу моряка».
Ох уж эта юная жена, Паола. Сказала, что ей шестнадцать, но поди пойми — родилась перед самой войной, и здание со всеми ее документами уничтожили, как большинство прочих зданий на острове Мальта.
Профан присутствовал при их знакомстве: бар «Метро», Прямая улица. Кишка. Валлетта, Мальта.
— Чикаго, — это Папик Год своим голосом гангстера. — Слыхала о Чикаго, — меж тем зловеще суя руку себе под фуфайку, обычный финт Папика по всей Средь-литорали. Вытаскивал обычно платок, а вовсе не волыну и не шпалер, сморкался в него и хохотал над той девчонкой, кому выпало сидеть напротив за его столиком. От американских киношек вырабатывались стереотипы — у всех, кроме Паолы Майистрал, которая и после его рассматривала так же, не раздув ноздрей, брови на мертвой точке.
Йэн Макьюэн. Сластена
- Йэн Макьюэн. Сластена. — М.: Эксмо, 2014.
Проза британского писателя Йэна Макьюэна пронизана чувственным эротизмом. Его рассказы и вовсе заставляют почувствовать себя вуайеристом. Роман «Сластена» не станет исключением. Во время холодной войны на Сирену Фрум, начитанную и образованную девушку, обращают внимание английские спецслужбы. Им нужен человек, способный втереться в доверие к молодому писателю Томасу Хейли. Сирена идеально подходит для этой роли. Кто же знал, что она очень влюбчива и ее интерес к Хейли очень скоро перестанет быть только профессиональным.
Кристоферу Хитченсу
1949–2011Если бы только я встретил на этом пути хоть одного безусловно злого человека.
Тимоти Гартон Эш «Досье»1 Зовут меня Сирина Фрум (почти cирена). Примерно сорок лет назад я выполняла секретное задание британской контрразведки. Миссия провалилась. Через полтора года после поступления на службу меня раскололи, и я покрыла себя позором, попутно разрушив жизнь любовника, хотя в этом была и его вина.
Не стану долго рассказывать о годах детства и юности. Я — дочь англиканского епископа; мы с сестрой выросли в епископском доме близ большого собора, в очаровательном городке на востоке Англии. В доме царили радушие, чистота, порядок и книги. Отношения между моими родителями были вполне приязненными, они любили меня, а я их. Я старше моей сестры Люси на полтора года, и хотя мы отчаянно ссорились в детстве, это не испортило наши отношения и, повзрослев, мы сблизились. Отцовская вера в Бога была тихой и разумной, не слишком нависала над нашей жизнью и позволила отцу беспрепятственно продвинуться в церковной иерархии, причем одним из преимуществ его сана стал наш уютный дом времен королевы Анны. Окнами дом выходил в огороженный сад со старыми травяными бордюрами, которые всегда ценились знатоками растений. Короче говоря, жизнь устойчивая, достойная зависти, почти идиллическая. Мы выросли в затененном саду, со всеми удовольствиями и ограничениями, что такая жизнь налагает.
Шестидесятые годы разнообразили, но не нарушали порядок нашего существования. Я пропускала школу, только если болела. Уже вполне взрослой девушкой я познала проникшие через садовую изгородь услады — обжималась (как это тогда называли) с парнями, а также провела опыты с табаком, алкоголем, чуточку — с гашишем, познакомилась с рок-н-роллом, яркими красками и атмосферой всеобщего доброжелательства. В семнадцать мы все были мятежниками — робкими и восторженными, но не забывали об уроках — заучивали и изрыгали неправильные глаголы, уравнения, мотивы литературных персонажей. Нам нравилось думать, будто мы — дрянные девчонки, но, вообще-то говоря, мы были вполне приличными. Мятежный дух шестьдесят девятого пришелся нам по душе. Он был неотделим от ощущения, что вскоре все мы покинем отчий дом, чтобы разъехаться по колледжам. Итак, в первые восемнадцать лет жизни со мной не случилось ничего странного или страшного, и поэтому я их пропускаю.
Будь моя воля, я бы выбрала ленивый факультет английского языка и литературы в каком-нибудь провинциальном университете, далеко на севере или на западе Англии. Мне нравились романы. Читала я быстро — могла проглотить две-три книги за неделю — так что три года за чтением романов вполне соответствовало бы моему характеру. Но для того времени я была «чудом природы» — девушкой с математическими способностями. Математика не слишком меня увлекала, почти не доставляла мне удовольствия, но мне нравилось быть первой, причем без особого труда. Я знала ответы на задачки, даже не понимая, как я до них дошла. Тогда как мои одноклассники тужились и бились в расчетах, я достигала решения посредством нескольких плавных шагов, отчасти интуитивных. Мне было бы сложно указать на источник своего знания. Разумеется, экзамен по математике требовал от меня гораздо меньше усилий, чем экзамен по английской литературе. К тому же в выпускном классе я была капитаном школьной сборной по шахматам. Нужен определенный полет воображения, чтобы понять, с каким изумлением взирали в те годы на девицу, приехавшую в соседнюю школу и сбившую там с жердочки нахохлившегося шахматного чемпиона. Однако математика и шахматы, равно как и хоккей, плиссированные юбки и пение псалмов, относились, в моем восприятии, сугубо к школьным занятиям. Я предполагала, что, раз уж я собралась в университет, мне следует отставить все детские забавы. Однако в своих предположениях я не приняла в расчет собственную мать.
Она была воплощением (или пародией) жены викария, затем епископа: потрясающая память на имена и лица прихожан, на их сетования и жалобы, манера неспешно, с достоинством прогуливаться по улице в развевающемся на ветру шарфике от «Эрмес», доброта и непреклонность в общении с прислугой и садовником. Безупречность и очарование по любым меркам, в любых обстоятельствах. Как ей удавалось разговаривать на равных с женщинами из городских кварталов — заядлыми курильщицами с напряженными лицами, — которые приезжали в действовавший при церкви клуб «Мать и дитя». Как убедительно она читала рождественскую сказку детям Барнардо1, собравшимся на ковре у ее ног в нашей гостиной. С каким тактом и достоинством она встречала архиепископа Кентерберийского, приглашенного к нам в дом на чай с печеньем после освящения в соборе реставрированной крестильной чаши, как ухаживала за ним. Люси и меня отослали на время визита наверх. А еще — вот оно, подвижничество — совершенная преданность и служение делу моего отца. Она поощряла его, служила ему, облегчала его труд на каждом повороте жизненного пути. Забота ее обнимала все — штопаные носки и выглаженный стихарь в платяном шкафу, безукоризненно убранный кабинет и глубочайшее субботнее молчание, повисавшее в доме, когда отец писал проповедь. Взамен она требовала — это моя догадка, конечно, — только того, чтобы он любил ее или, по крайней мере, никогда не оставлял.
Однако я долго не могла различить в характере матери камушка феминизма, скрывавшегося под ее вполне традиционной наружностью. Уверена, что мать ни разу не произнесла само это слово, но это не имеет значения. Ее категоричность меня пугала. Она говорила, что моя обязанность как женщины состоит в том, чтобы отправиться в Кембридж и поступить на факультет математики. Как женщины? В то время в нашей среде никто не говорил такими словами. Ни одна женщина не поступала так, «как следует женщине». Она говорила, что не позволит мне растратить свой талант. Мне предстояло проявить себя, стать необыкновенной. Сделать карьеру в инженерном деле или экономике. Весь мир у твоих ног — такие вот банальности. По отношению к моей сестре было несправедливо, что я была и умной, и красивой, тогда как она не блистала ни внешностью, ни талантами. Несправедливость только усугубится, если я обману надежды матери и не стану ставить перед собой высокие цели. Логика высказываний от меня ускользала, но я предпочла промолчать. Мать сказала, что никогда не простит ни мне, ни себе, если я ограничусь английской словесностью и стану домохозяйкой, лишь на йоту более образованной, чем она сама. Мне грозила опасность растратить свою жизнь. Ее слова были равнозначны признанию. Тогда, в первый и последний раз в жизни, она выразила при мне, прямо или косвенно, разочарование своей участью.
Потом она подключила к делу отца — «епископа», как называли его мы с сестрой. Вернувшись однажды днем из школы, я узнала от матери, что он ждет меня в кабинете.
В зеленом блейзере, вышитом геральдическим гербом и девизом Nisi Dominus Vanum («Если Господь не созиждет дома»), я уныло развалилась в клубном кожаном кресле, между тем как отец, возвышаясь над столом, перебирал бумаги, мурлыкал что-то себе под нос, вероятно, приводя в порядок мысли. Мне казалось, что он собирается пересказать мне притчу о талантах, но вместо этого отец перешел прямо к делу. Он навел справки. Кембриджский университет стремился показать, что «открывает двери в современный эгалитарный мир». Учитывая бремя тройного несчастья — превосходная школа, девушка, преимущественно «мужской предмет», — поступление было мне почти гарантировано. Если, однако же, я намеревалась поступать в Кембридж на английскую литературу (такого намерения у меня не было; епископ никогда не вдавался в подробности), мне придется гораздо труднее. Уже через неделю моя мать переговорила с директором школы. Подключились учителя-предметники, чьи аргументы повторяли или дополняли доводы родителей, и мне, конечно же, пришлось уступить.
Так мне пришлось отказаться от литературных штудий в университете Дарема или Аберистуита, где я наверняка была бы счастлива, ради Ньюнем-колледжа в Кембридже, где уже во время первого семинара, состоявшегося в Тринити-колледже, мне показали, какая я посредственность в математике. В осеннем триместре я впала в депрессию и разве что не бросила учебу. Неуклюжие парни, лишенные очарования и других человеческих качеств, таких как сострадание и порождающая грамматика2, талантливые кузены кретинов, которых я громила на шахматной доске, нахально смеялись мне в глаза, пока я сражалась с понятиями, представлявшимися им совершенно очевидными.
— Ах, безмятежная мисс Фрум, — саркастично восклицал один профессор каждый вторник, когда поутру я входила в его класс. — Безмятежнейшая. О, синеглазая! Приди и просвети нас.
Моим преподавателям и однокашникам было совершенно ясно, что не успеваю я именно потому, что я — красивая девчонка в мини-юбке, с вьющимися светло-русыми волосами ниже лопаток. На самом же деле я не справлялась из-за того, что, подобно большинству людей, была не слишком сильна в математике, по крайней мере на требовавшемся уровне. Я попыталась перевестись на английскую или французскую филологию или даже на антропологию, но там меня никто не ждал. В те годы правила соблюдались неукоснительно. В итоге этой долгой печальной истории я выстояла и умудрилась получить диплом бакалавра с отличием третьей степени.
Теперь, после того как я скомкала в пару абзацев годы моего детства и ранней юности, мне надлежит проделать то же с порой студенчества. Я никогда не каталась в плоскодонном ялике по реке Кем (с граммофоном или без), не ходила в «Футлайтс» — театры приводят меня в замешательство, — и меня не задерживала полиция во время беспорядков в Гарден-хаус.
1 Подразумеваются «Барнардовские приюты» — приюты для беспризорных и бездомных детей, названные в честь их основателя Томаса Барнардо.
2 В рамках подхода порождающей грамматики формируется система правил, при помощи которых можно определить, какая система слов оформляет грамматически неправильное предложение.
Изабель Альенде. Остров в глубинах моря
- Изабель Альенде. Остров в глубинах моря / Пер. с испанского Елены Горбовой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 447 с.
В издательстве «Иностранка» впервые на русском языке выходит исторический роман «Остров в глубинах моря» испанской писательницы Изабель Альенде. Это история о судьбе красавицы-мулатки по имени Зарите. У нее глаза цвета меда, смуглая кожа и копна вьющихся волос. Однако Зарите — рабыня и дочь рабов с острова Сан-Доминго, самой богатой колонии мира.
Показательная казнь
Пот и москиты, кваканье лягушек и щелканье хлыста, доводящие до полного изнеможения дни и наполненные страхом ночи — участь целого каравана рабов, надсмотрщиков, наемных солдат и четы хозяев — Тулуза и Эухении Вальморен. Три долгих дня займет у них этот путь от плантации до Ле-Капа, все еще главного порта колонии, хотя уже и не столицы, перенесенной в Порт- о-Пренс в надежде, что этот перенос поможет держать под контролем страну. Мера эта не оправдала возложенных на нее надежд: колонисты как могли обходили законы, пираты разгуливали по побережью и тысячи рабов пускались в бега, устремляясь к горам. Беглецы, с каждым разом все более многочисленные и отчаянные, нападали на плантации и путников с яростью, которой было на чем взрасти. Капитан Этьен Реле, «сторожевой пес Сан-Доминго», захватил пятерых вожаков, что было делом совсем не легким, ведь беглые рабы хорошо знали местность, передвигались со скоростью ветра и скрывались среди горных вершин, недоступных для лошадей. Вооруженные только ножами, мачете и сучьями, они не решались вступать в бой с солдатами в чистом поле; война была партизанской — с засадами, неожиданными атаками и отступлениями, ночными набегами, грабежами, пожарами и резней, истощавшей регулярные силы жандармского корпуса Маршоссе и армии. Рабы с плантаций были на стороне беглых: одни — потому что надеялись присоединиться к ним, другие — потому что их боялись. Реле никогда не упускал из виду преимущество беглых, отчаянных людей, защищавших свою жизнь и свободу, перед его солдатами, которые всего лишь выполняли приказы. Капитан был человеком из стали — сухим, худощавым, сильным — одни мускулы и нервы. Он был упорный и храбрый, с холодными глазами и глубокими морщинами на постоянно подставленном солнцу и ветру лице, немногословный и надежный, нетерпеливый и суровый. Никто не чувствовал себя в его присутствии комфортно — ни большие белые, чьи интересы он защищал, ни офранцуженные, составлявшие в его подразделении большинство. Гражданские уважали его, поскольку он способствовал поддержанию порядка, а солдаты — потому что он не требовал от них ничего, чего не мог бы сделать сам. Далеко не всегда Реле сразу удавалось напасть в горах на след мятежников. Много раз он пускался по ложному следу, но никогда не сомневался в том, что достигнет цели. Информацию он добывал такими жестокими способами, которые в обычное время в приличном обществе не были бы упомянуты, но со времен Макандаля даже дамы становились свирепы, если дело касалось восставших рабов. Те самые дамы, что раньше падали в обморок при виде скорпиона или от запаха дерьма, теперь не пропускали ни одной казни, а потом обсуждали их за столом в окружении стаканов с прохладительными напитками и тарелочек с пирожными.
Ле-Кап, с его красночерепичными крышами, многолюдными улочками, рынками и портом, в котором на якоре неизменно стояло несколько дюжин судов, что должны были отправиться в Европу с драгоценным грузом сахара, табака, индиго и кофе, — этот город все еще оставался Парижем Антильских островов. Так называли его в шутку французские колонисты, ведь все они объединялись одним стремлением — сколотить быстрое состояние и возвратиться в Париж, где можно будет забыть ненависть, витавшую над островом, словно комариные тучи и апрельское зловоние. Некоторые оставляли плантации в руках управляющих или администраторов, распоряжавшихся там по своему разумению, разворовывая все подряд и выжимая из рабов все соки до последней капли — до смертельного исхода, но этот убыток был заранее учтен и являлся ценой возвращения к цивилизации. Однако с Тулузом Вальмореном, который уже несколько лет провел на этом острове, словно заживо похороненный в поместье Сен-Лазар, все выходило совсем не так.
Главный надсмотрщик, Проспер Камбрей, закусил удила своих амбиций и действовал осторожно, поскольку хозяин его оказался недоверчив и не был легкой добычей, как Камбрей полагал поначалу. Но он все же надеялся, что долго Вальморен в колонии не протянет: кишка у него тонка и кровь жидковата — не то, что требуется на плантации. К тому же он взвалил на себя обузу — эту испанку, дамочку с хилыми нервами, которая спала и видела, как бы отсюда сбежать.
В сухие сезоны добраться до Ле-Капа можно за день — верхом на добрых лошадках, но Тулуз Вальморен путешествовал с женой в портшезе, а рабы шли пешком. Он оставил на плантации женщин, детей и тех мужчин, которые уже утратили волю и в показательном наказании не нуждались. Камбрей отобрал самых молодых — тех, у которых еще оставалось хоть какое-то представление о свободе. Как бы командоры ни истязали людей, преступить пределы человеческих возможностей они не могли. Дорога то и дело пропадала, к тому же стоял сезон дождей. Только собачий инстинкт и верный глаз Проспера Камбрея, креола, рожденного в колонии и прекрасно знакомого с местностью, не давали им заблудиться в лесной глуши, где чувства обманывают и можно бесконечно ходить по кругу. Все были напуганы: Вальморен опасался нападения беглых рабов или мятежа своих — не раз уже негры, почуяв возможность побега, с голыми руками шли против огнестрельного оружия, свято веря, что лоа защитят их от пули; рабы боялись хлыстов и злых духов леса, а Эухения — своих собственных видений. Камбрей испытывал трепет только перед живыми мертвецами — зомби, и этот страх имел отношение не к встрече с ними, ведь зомби встречаются редко, к тому же они стеснительны, а к перспективе самому стать одним из них. Зомби становится рабом колдуна, бокора, и даже смерть не сможет освободить его, ведь он и так уже мертв.
Проспер Камбрей не раз и не два пересекал этот район, гоняясь за беглыми рабами вместе с другими жандармами Маршоссе. Он умел читать книгу живой природы, замечая невидимые для других глаз следы, мог идти по следу, как лучшая из гончих, чуя запах страха и пота жертвы на расстоянии нескольких часов, мог по-волчьи видеть в темноте, мог догадаться о бунте и покончить с ним еще до того, как этот бунт успевал зародиться. Хвалился он тем, что при нем очень и очень немногим невольникам удалось сбежать из Сен-Лазара, а секрет был в методе: следует убить в рабе душу и сломать волю. Только страх и усталость были способны победить стремление к свободе. Работать, работать, работать до последнего издыхания, а оно не слишком долго заставляло себя ждать, ведь до старости не доживал никто: как правило, всего три-четыре года на плантации, никогда — свыше шести-семи. «Не перегибай палку с наказаниями, Камбрей, ты истощаешь моих людей», — не раз приказывал ему Вальморен, которого выворачивало от одного вида гноящихся язв и ампутированных конечностей, а во имя работы практиковалось и то и другое. Но хозяин никогда не возражал Камбрею в присутствии рабов: слово главного управителя не подлежит обжалованию, иначе дисциплины не будет. А ее Вальморен жаждал в первую очередь — борьба с неграми вызывала в нем отвращение. Он предпочитал, чтобы палачом был Камбрей, а сам он оставался бы в роли милостивого хозяина, — роли, которая как нельзя лучше соответствовала гуманистическим идеалам его юности. По мнению Камбрея, более рентабельно было замещать выбывших рабов новыми, чем беречь их: как только рабы окупали затраченные на них деньги, следовало загнать их на работе до смерти, а потом купить других, моложе и сильнее. И даже если кто-то раньше и имел сомнения в необходимости жесткой руки, то история Макандаля, негра-колдуна, эти сомнения полностью развеяла.
С 1751 по 1757 год, когда Макандаль сеял смерть среди белого населения колонии, Тулуз Вальморен был еще балованным ребенком, жил в небольшом шале под Парижем, собственности семьи на протяжении уже нескольких поколений, и даже имени Макандаля не слышал. Он понятия не имел, что отец его чудом избежал массовых отравлений в Сан-Доминго и что, если бы Макандаля не поймали, ураган мятежа смел бы весь остров. Казнь его решили отложить, дабы дать возможность плантаторам прибыть в Ле-Кап вместе со своими рабами: так негры раз и навсегда убедятся в том, что Макандаль смертен. «История повторяется, ничто не меняется на этом проклятом острове», — говорил Тулуз Вальморен своей супруге в дороге, на том же самом пути, который несколькими годами ранее проделал его отец, причем с той же целью — присутствовать на показательной казни. Он объяснял ей, что показательная казнь — это наилучшее средство, чтобы сломить дух мятежников; так решили губернатор и интендант, в кои- то веки проявившие единодушие. Он надеялся, что это зрелище несколько успокоит Эухению, однако просчитался, поскольку и вообразить не мог, что поездка обернется настоящим кошмаром. Он уже был близок к решению повернуть назад в Сен-Лазар, но права на это не имел, ведь плантаторы обязаны были держать единый фронт в противостоянии с неграми. К тому же ему было известно, что за его спиной ходят разные слухи: поговаривают, что он женился на полоумной испанке, что сам он высокомерен и пользуется всеми привилегиями своего социального положения, но при этом не выполняет своих обязанностей в Колониальном совете, где кресло Вальморенов пустует со времени смерти его отца. Шевалье-то был фанатичным монархистом, а вот сын его презирает Людовика XVI — нерешительного правителя, в заплывших жиром руках которого пребывает в данный момент французская монархия.
Паринуш Сание. Книга судьбы
- Паринуш Сание. Книга судьбы / Пер. английского изд. Л. Сумм. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 560 с.
В романе, который был дважды запрещен в Иране, но тем не менее стал мировым бестселлером, рассказывается о пяти десятилетиях жизни женщины, чьих родных и близких преследовали, сажали за решетку, освобождали, отправляли на казнь или объявляли героями. Можно терпеть голод и лишения, продолжать работать и воспитывать детей. Труднее всего пережить предательство большинства, послушно идущего за лидером.
Миновали новогодние праздники, а я все еще сидела дома.
Робкие намеки насчет курсов шитья не увенчались успехом. Ахмад и Махмуд не собирались выпускать меня из дома
ни под каким предлогом, а отец не вмешивался. Для него
я словно умерла.Скука одолела меня. Переделав дела по дому, я поднималась наверх, в гостиную, и подолгу смотрела на тот участок
дороги, который был виден из окна. Вот и вся связь с внешним миром. Даже это приходилось держать в тайне: прознают братья, замуруют мое окно. А я надеялась когда-нибудь
углядеть в эту щель Парванэ или Саида.К тому времени я уже поняла, что выйти из отчего дома
смогу лишь чьей-то женой. То было единственное решение
проблемы, все члены семьи на том согласились. Мне каждый камень в этом доме сделался ненавистен, но я не могла
предать милого моего Саида — и зачем? Чтобы одну тюрьму
сменить на другую? Я готова была ждать его до конца моей
жизни, и пусть меня за это хоть на плаху тащат!Появились первые сваты. Предупредили: к нам придут с визитом мужчина и три женщины. Мать хлопотала, мыла все в доме, расставляла по местам. Махмуд приобрел гарнитур — диваны в красной обивке. Ахмад принес фрукты и сладости.
Удивительно, как они все спелись. Цеплялись за соломинку:
только бы не упустить жениха. За соломинку, за мусор, плывущий по реке — увидев потенциального жениха, я могла сравнить его только с унесенным водой мусором. Плотного сложения, на макушке уже облысевший, хотя ему еще не было
тридцати, и он громко причмокивал, поедая фрукты. Он
торговал на базаре, там же, где и Махмуд. Мне повезло: жених и его три родственницы высматривали жену пухленькую,
в теле, и я им не приглянулась. В ту ночь я уснула спокойная
и счастливая. Наутро мать пересказала это приключение госпоже Парвин со всеми подробностями и многими приукрашиваниями. Когда она стала жаловаться на постигшее семью горькое разочарование, я чуть было не расхохоталась.— Вот обида! — приговаривала она. — Не везет бедной девочке. А ведь жених не только богат, он из хорошей семьи. И молод, и женат не был.
(Забавно: он был почти вдвое старше меня, а матушка
считала его юнцом — с таким-то брюхом и лысиной!)— Конечно, между нами говоря, госпожа Парвин, его тоже
можно понять. Девица у нас чересчур тоща. Его мать сказала
мне: «Ханум, обратитесь к врачу». И мне кажется, негодяйка
что-то с собой сделала, чтобы выглядеть совсем уж больной.— Послушать вас, дорогая, можно подумать, будто речь идет
о парне лет двадцати, — засмеялась госпожа Парвин. — Я видела их, когда они выходили. Даже к лучшему, что девушка им
не приглянулась. Масумэ слишком хороша, чтобы отдать ее
пузатому коротышке.— Что тут скажешь? Раньше мы возлагали на девочку большие надежды. Не только я, что я — отец ее говорил: «Масумэ выйдет замуж не за простого человека». Но после такого
скандала кто ж посватается? Придется ей либо выйти за человека ниже ее по положению, либо стать второй женой.— Глупости! Погодите, пока все успокоится. Люди скоро забудут.
— Кто забудет? Прежде чем свататься, люди все проверяют,
всех расспрашивают. Приличному человеку мать и сестры
не разрешат жениться на моей злосчастной дочери. Вся
округа знает, что она натворила.— Погодите, — повторила госпожа Парвин. — Они забудут.
К чему так спешить?— Ее братья настаивают. Говорят, им не будет покоя, пока она
остается в доме. Они не могут людям в глаза смотреть. Люди…
люди и через сто лет ничего не забудут. И Махмуд хотел жениться, а теперь не может привести в дом жену, пока эта девчонка здесь. Он говорит, что не доверяет ей, она и молодую жену с пути собьет.— Чепуха! — отмахнулась госпожа Парвин. — Бедняжка невинна, как малое дитя. И ничего такого уж страшного не произошло. Юноши всегда будут влюбляться в красивых девочек — и что, сжечь ее на костре, если кто-то на нее поглядел? Разве это ее вина?
— О да, да, я же знаю мою дочку! Пусть она порой недостаточно усердна в посте и молитве, но ее сердце предано Аллаху. Только позавчера она сказала, что мечтает отправиться
в Кум, в паломничество к гробнице имама Абдул-Азима. Пока
мы жили дома, она, бывало, каждую неделю сходит помолиться к гробнице благословенной Масумэ. Не поверите, как
она горячо молилась! Во всем виновата та скверная девчонка,
Парванэ. Чтобы моя дочь по своей воле впуталась в такую историю? Никогда!— Не надо торопиться. Быть может, юноша вернется и женится на ней и все уладится. Он ведь неплохой мальчик, детки приглянулись друг другу. Все о нем очень хорошо отзываются. А скоро он станет врачом.
— О чем вы толкуете, госпожа Парвин? — возмутилась мать. —
Ее братья говорят, что раньше отдадут ее ангелу смерти Азраилю, чем тому негодяю. И что-то он не спешит постучаться
к нам в дом. Что Аллаху угодно, то и будет. Судьба каждого
написана у него на лбу от рождения, и каждый получит то,
что назначено ему в удел.— Значит, и не надо торопиться. Пусть сбудется, что суждено.
— Но ее братья говорят, что пятно позора не будет смыто,
пока мы не выдадим ее замуж и не избавимся от нее. Сколько
еще нам держать ее взаперти? Они опасаются, что отец пожалеет ее и смягчится.— И стоило бы пожалеть бедняжку. Она так красива. Дайте
ей время оправиться и увидите, какие объявятся женихи.— Аллахом клянусь, я каждый день готовлю ей рис с курятиной. Суп из ноги ягненка, кашу пшеничную с мясом. Я посылаю Али купить овечью голову и ножки, готовлю холодец ей
на завтрак. Все стараюсь, чтобы она прибавила в теле, не казалось больной и приглянусь порядочному человеку.Мне припомнилась сказка, прочитанная в детстве. Чудовище похитило ребенка, но девочка была такой тощей, что
чудовище не стало ее сразу есть, а заперло и приносило ей
угощение, чтобы девочка поскорее разжирела и превратилась в лакомое блюдо. Вот так и мое семейство решило меня
откормить и бросить чудовищу в пасть.Меня выставили на продажу. Теперь главным событием в нашем доме стал прием гостей, явившихся с серьезными намерениями. Братья и мать пустили слух о том, что подыскивают мне супруга, и повалил всякий люд. Некоторые женихи
оказались столь никудышными, что даже Махмуд и Ахмад
их отвергли. Каждую ночь я молилась о возвращении Саида
и по меньшей мере раз в неделю просила госпожу Парвин
сходить в аптеку и узнать, нет ли новостей. Доктор сказал, что
Саид написал ему всего один раз, а письмо, которое доктор
послал в ответ Саиду, вернулось нераспечатанным — должно
быть, адрес был неверный. Саид растаял, как снег, и впитан
землей. По ночам я порой выходила в гостиную помолиться
и поговорить с Богом, а потом вставала у окна и следила, как
тени движутся по улице. Несколько раз я замечала знакомую
мне тень под аркой дома напротив, но стоило мне открыть
окно, тень исчезала.Одна только мечта манила меня в постель по ночам,
убаюкивала, помогала забыть страдание и боль этих одно-
образных дней: мечта о жизни с Саидом. Я представляла
себе маленький, уютный дом, убранство каждой комнаты.
Я обустраивала свой маленький рай. Я придумала нам детей — красивых, здоровых, счастливых. То была мечта о вечной любви и нерушимом блаженстве. Саид был образцовым
мужем: мягкий, с кроткими манерами, добрый, разумный,
внимательный. Мы никогда не ссорились, он в жизни меня
не унизил. О, как я его любила! Любила ли хоть одна женщина своего мужа так, как я любила Саида? Если б мы могли жить в мечтах!В начале июня, едва завершились выпускные экзамены, семья Парванэ переехала. Я знала, что они подумывают о переезде, но не думала, что это произойдет так скоро. Потом
я узнала, что они хотели уехать даже раньше, но решили дождаться, пока Парванэ закончит школу. Ее отец давно уже
говорил, что наш район испортился. Он был прав. В нашем
районе было хорошо только таким, как мои братья.Жаркое утро. Я подметала комнату и еще не отодвинула ставни, как вдруг услышала голос Парванэ. Я выбежала
во двор. Фаати открыла дверь. Парванэ пришла попрощаться. Мать добралась до двери первой и придержала ее, не дав
Парванэ войти. Она вырвала у Фаати конверт, который той
дала Парванэ, и велела:— Уходи! Уходи немедленно, пока мои сыновья не увидели
тебя и не задали ей взбучку. И ничего больше не приноси.Я услышала сдавленный голос Парванэ:
— Госпожа, я всего лишь написала несколько слов на прощание и свой новый адрес. Проверьте сами.
— В этом нет нужды! — отрезала мать
Я обеими руками ухватилась за дверь и попыталась ее открыть. Но мать держала дверь крепко, а меня пинком оттолкнула прочь.
— Парванэ! — закричала я. — Парванэ!
— Ради Аллаха, не наказывайте ее так жестоко! — взмолилась
Парванэ. — Клянусь, она не сделала ничего дурного.Мать захлопнула дверь. Я сел на пол и заплакала. Прощай, моя подруга, моя защитница и наперсница.
Последним соискателем моей руки выступил приятель Ахмада. Я часто гадала, как братья выискивали этих мужчин.
Неужели Ахмад прямо так и сказал другу: у меня, дескать,
имеется сестра на выданье? Они меня рекламировали?
Что-то сулили? Препирались из-за меня, как торговцы на базаре? Уверена, как бы они ни взялись за дело, все это было крайне для меня унизительно.Асгар-ага, мясник, брат-близнец Ахмада — и возрастом, и грубыми ухватками, и обликом. И вдобавок необразованный.
— Мужчина должен зарабатывать деньги силой своих рук, —
рассуждал он, — а не скорчившись в уголке над бумагами, как
полуживой писец, который ничего тяжелее ручки не поднимет.— У него есть деньги, и он сумеет справиться с девчонкой, — настаивал Ахмад.
А что до моей худобы, Асгар-ага сказал:
— Не беда, я принесу ей столько мяса и жира, что через месяц она с бочку толщиной сделается. Глазенки-то у нее бойкие.
Мать его, старая, страшная женщина, безостановочно ела и вторила каждому слову сына. Да и все одобряли речи Асгара-аги. Мать так и сияла: молодой, неженатый. Ахмад
дружил с ним и во всем поддерживал, тем более что после
драки в кафе «Джамшид» Асгар-ага поручился за него и Ахмада не арестовали. Отец — и тот согласился, потому что мясная
лавка приносила хороший доход. А Махмуд сказал:— Он торговый человек, это нас устраивает, и он сумеет справиться с девчонкой, не позволит ей разболтаться. Чем скорее мы это устроим, тем лучше.
Никому и дела не было до моих мыслей, и я не пыталась
даже заговорить о том, как противна мне мысль стать женой
грязного, невежественного, грубого парня, от которого даже
в тот день, когда он пришел свататься, воняло сырым мясом и бараньим жиром.На следующее утро госпожа Парвин в панике прибежала к нам.
— Говорят, вы решили выдать Масумэ за мясника Асгара-агу.
Ради Аллаха, и не вздумайте! Этот юнец — хулиган. Он не расстается с ножом. Пьяница, бабник. Я его знаю. По крайней мере расспросите людей, что он за человек.— Не шумите так, госпожа Парвин, — остановила ее мать. —
Уж наверное Ахмад лучше его знает. И он все нам рассказал
о себе. Ахмад верно говорит: мало ли что молодой человек
творил до женитьбы, все это он отставит, как только обзаведется женой и детишками. Он поклялся могилой отца
и даже прозакладывал свои усы, что после женитьбы ничего подобного себе не позволит. Да и где нам сыскать лучше?
Он молод, Масумэ станет первой женой, он богат, у него
две мясные лавки, и характер у него твердый. Чего еще желать?Госпожа Парвин поглядела на меня с такой жалостью,
с таким сочувствием, словно видела перед собой приговоренную к казни. На следующий день она сказала мне:— Я просила Ахмада не настаивать, но он знать ничего не хочет. — Так впервые она призналась вслух в тайной связи с моим братом. — Он сказал мне: «Держать ее дома небезопасно». Но ты-то почему ничего не пытаешься сделать? Разве ты
не понимаешь, что за несчастье тебя ждет? Или ты согласна
выйти замуж за этого грубияна?— Велика ли разница? — равнодушно возразила я. — Пусть делают, что хотят. Пусть готовят свадьбу. Они же не знают, что
любой мужчина, кроме Саида, получит лишь мой труп.— Помилуй нас Аллах! — выдохнула госпожа Парвин. —
Не вздумай такое повторять! Это грех. Выкинь подобные
мысли из головы. Ни один мужчина не заменит тебе твоего
Саида, но не все мужчины так плохи, как этот нескладеха. Подожди — скоро, быть может, явится жених получше.Я пожала плечами и сказала:
— Мне все равно.
Она ушла, все такая же встревоженная. По пути она заглянула в кухню и что-то сказала матушке. Мать обеими руками
ударила себя по лицу, и с того момента я все время находилась
под охраной. Они убрали подальше пузырьки с лекарствами, не позволяли мне притронуться ни к бритве, ни к ножу,
а стоило мне подняться наверх, один из братьев уже спешил
следом. Меня это смешило. Они в самом деле думали, что мне
ума хватит выброситься из окна второго этажа? Нет, у меня
имелся план понадежнее.Разговоры о помолвке и самой свадьбе на время поутихли: ждали сестру жениха. Она была замужем, жила в Керманшахе и в ближайшие десять дней не могла приехать в Тегеран.
— Я не могу действовать без согласия и одобрения сестры, —
сказал Асгар-ага. — Я обязан ей не меньше, чем матери.В одиннадцать утра я услышала со двора стук в парадную
дверь. Мне открывать не разрешалось, и я стала звать Фаати.Матушка крикнула мне из кухни:
— На этот раз можно. Открой дверь и посмотри, кому это так
не терпится.Только я приоткрыла дверь, как в наш двор влетела госпожа Парвин.
— Девочка моя, какая же ты счастливица! — прокричала
она. — Не поверишь, какого я нашла тебе жениха! Само совершенство — как луна, как букет цветов…Я стояла и глядела на нее, разинув рот. Матушка вышла из кухни и спросила:
— В чем дело, госпожа Парвин?
— Дорогая моя! — отвечала соседка. — У меня для вас замечательные новости. Я нашла жениха нашей Масумэ. Из достойной семьи, образованный. Клянусь, один волос с его головы стоит больше, чем сотня таких грубиянов, как тот мясник.
Позвать их к вам завтра под вечер?— Погодите! — сказала матушка. — Не так быстро. Что это
за люди? Откуда они?— Замечательная, выдающаяся семья. Я знаю их вот уже десять лет. Сколько платьев я им сшила, и для матери, и для дочерей. Старшая дочь, Монир, замужем, ее муж владеет имением в Тебризе, и она живет там. Мансуре, вторая дочь, училась
в университете. Два года назад она вышла замуж и теперь растит здорового, красивого мальчишку. Младшая сестра еще
не закончила школу. Все люди верующие. Отец на пенсии. Он
хозяин такого заведения — фабрики или как это называется, —
где печатают книги. Как это правильно назвать?— А сам жених?
— О, я вам еще не рассказала о женихе. Прекрасный молодой
человек. Учился в университете. Не знаю, какие науки он изучал, но теперь он работает в этом заведении, которое принадлежит его отцу. Где печатают книги. Ему примерно тридцать лет, он красавчик. Когда я ходила подгонять им одежду,
я успела глянуть: храни его Аллах, хорошего роста, черноглазый, брови темные, кожа оливковая…— А где же они видели Масумэ? — поинтересовалась матушка.
— Они ее не видели. Я им про нее рассказала: какая замечательная у нас девушка, и красивая, и хозяйственная. Мать хочет поскорее женить сына, она меня уже как-то спрашивала,
нет ли у меня на примете подходящих невест. Так я им скажу,
чтобы приходили к вечеру?— Нет! Мы дали слово Асгару-аге. На следующей неделе его
сестра приедет из Керманшаха.— Полно! — воскликнула госпожа Парвин. — Вы еще ничего
им не пообещали. У вас даже не было церемонии помолвки.
Невеста вправе передумать и посреди брачной церемонии.— А как же Ахмад? Страшно себе представить, какой шум он поднимет — и по праву. Он будет обижен. Ведь он дал слово Асгаруаге, не может же он вот так запросто взять свое слово обратно.
— Не беспокойтесь, Ахмада я беру на себя.
— Стыдитесь! — укорила ее матушка. — Что это вы такое говорите? Да простит вас Аллах!
— Вы меня неверно поняли. Ахмад дружит с Хаджи и прислушивается к его советам. Я попрошу Хаджи поговорить с ним. Подумайте о своей невинной дочери, об этой бедняжке! Мясник любит пускать в ход кулаки. Напьется — и вовсе ума
лишится. У него и сейчас имеется женщина на содержании.
Думаете, она так просто от него откажется? Да ни за что!— Какая женщина? — переспросила озадаченная матушка. — Вы сказали — женщина живет?
— Неважно, — отмахнулась госпожа Парвин. — Я имею в виду: у него есть другая.
— Тогда зачем ему моя дочь?
— Как официальная жена, чтобы рожала ему детей. Та, другая, бесплодна.
— Откуда вы все знаете?
— Хозяюшка, я знаю таких, как он.
— Откуда? Как вы можете говорить подобные вещи? Постыдились бы!
— А вы сразу думаете плохое. Мой родной брат был в точности таким. Я росла с ним. Ради Аллаха, бедная девочка попадет из огня в полымя. Вот вы на семью моего жениха посмотрите — совсем других людей увидите.
— Сначала нужно поговорить с ее отцом. Посмотрим, что он
скажет. И если у них такая замечательная семья, почему они
не ищут невесту среди своих?— По чести сказать, не знаю. Наверное, такое Масумэ счастье. Аллах позаботился о ней.
С удивлением и недоверием я слушала восторженные
речи соседки. Трудно мне было понять эту женщину: ее поступки как будто противоречили друг другу. И с какой стати
она так хлопочет о моей судьбе? Уж не свою ли какую игру ведет?Отец с матушкой проспорили чуть ли не весь день. Махмуд какое-то время тоже твердил свое, а потом махнул рукой:
— Наплевать! Поступайте, как знаете, только избавьтесь от нее
поскорее. Выдайте ее замуж, и пусть наступит наконец покой.Еще удивительнее повел себя Ахмад. В ту ночь он пришел домой поздно, а когда проснулся и матушка подступилась
к нему с вопросом о новом женихе, он и спорить не стал. Пожал плечами и сказал:— Почем мне знать? Делайте, что хотите.
Надо же, как госпожа Парвин умела его уговорить!
Терри Пратчетт. Дело табак
- Терри Пратчетт. Дело табак. — М.: Эксмо, 2014. — 480 с.
Похожий на преподавателя по защите от темных искусств (хоть писатель и не одобрит этого сравнения!) британский рыцарь Терри Пратчетт продолжает даже в столь почтенном возрасте бороться с плоскостью мира. Тридцать девятая книга из цикла – «Дело табак» – впервые вышла на русском языке в начале августа. В деревне, где вдали от городской суеты и больших проблем отдыхает командор Городской стражи Сэмюэль Ваймс, нечем заняться в свободное время. Однако скучать приходится недолго: местные обитатели что-то скрывают, поэтому Ваймс начинает свое расследование.
Посвящается Робу — в промежутках между выходными.
Эмме, которая помогла мне понять гоблинов.
И Лин — как всегда.Представления об окружающем мире у гоблинов облечены в форму культа или, если угодно, религии под названием «коготт». Если вкратце, это необычайно сложная система воззрений, основанных на идее воскрешения и священности всех телесных выделений. Основной догмат коготта гласит: то, что исходит из тела гоблина, некогда, несомненно, являлось его частью, и, следовательно, с ним надлежит обращаться почтительно и должным образом хранить, чтобы в свое время предать погребению вместе с владельцем. Пока владелец жив, упомянутые выделения хранятся в коготтных горшочках — примечательных изделиях, о которых речь пойдет дальше.
И тут появляется неприятное осознание того, что достигнуть этой цели может лишь существо, обладающее внушительным богатством, массой свободного места и покладистыми соседями. Поэтому в реальной жизни большинство гоблинов соблюдают так называемый «хад» — более распространенную и менее строгую форму коготта, которая предполагает хранение ушной серы, обрезков ногтей, а также слизи из носа. Вода, в общем и целом, не считается коготтом, поскольку просто циркулирует по телу, не становясь его частью, и гоблины полагают, что нет никакой очевидной разницы в воде до употребления и, так сказать, после (к сожалению, это дает понять, какой сомнительной чистоты воду они пьют в своих подземных логовищах). Сходным образом, фекалии считаются едой, которая просто перешла в иное состояние. Как ни странно, зубы не представляют для гоблинов никакого интереса; они считают их чем-то вроде грибов, и волосам они тоже не придают особого значения — впрочем, их у гоблинов все равно немного.
Тут патриций Ветинари, правитель Анк-Морпорка, перестал читать и уставился в пустоту. В следующее мгновение в пустоте возник силуэт Стукпостука, личного секретаря (который, нужно заметить, годами упражнялся сливаться с пустотой).
Стукпостук сказал:
— У вас задумчивый вид, милорд.
К этому наблюдению он присовокупил самый почтительный знак вопроса, который повис в воздухе.
— Я обливаюсь слезами, Стукпостук, обливаюсь слезами.
Стукпостук перестал смахивать невидимую пыль с блестящей черной поверхности лакированного стола.
— Пастор Овсец весьма убедительно излагает, не правда ли, сэр?
— О да, Стукпостук. Но основная проблема никуда не делась, и заключается она вот в чем: человечество сумело примириться с гномами, троллями и даже орками, как бы они ни были временами устрашающи, и знаешь почему, Стукпостук?
Секретарь осторожно сложил тряпочку, которой вытирал пыль, и взглянул в потолок.
— Осмелюсь предположить, милорд, это потому, что в их жестокости мы узнаем свою?
— Отлично сказано, Стукпостук, я еще воспитаю из тебя настоящего циника. Хищники уважают друг друга, не так ли? Иногда они даже уважают добычу. Лев порой способен лечь рядом с ягненком, пускай в итоге на ноги поднимется только лев. Но он никогда не ляжет рядом с крысой. Крысы, Стукпостук. Целая раса опустилась до уровня крыс!
Патриций Ветинари грустно покачал головой, и неизменно бдительный Стукпостук заметил, что пальцы его светлости в третий раз за день вернулись к странице, озаглавленной «Коготтные горшочки». И вдобавок в процессе патриций разговаривал сам с собой, что было весьма необычно…
«По традиции горшочки делает сам гоблин, из чего угодно, начиная с драгоценных камней и заканчивая кожей, деревом и костью. Из кости получаются самые изящные и тонкие, как яичная скорлупа, вместилища, когда-либо существовавшие в мире. Разграбление гоблинских поселений охотниками за сокровищами и месть разгневанных гоблинов — вот в чем доныне заключаются отношения людей и гоблинов».
Патриций Ветинари откашлялся и продолжал:
— Я цитирую пастора Овсеца, Стукпостук. «Должен признать, что гоблины живут на грани смерти, в основном, потому что их туда оттеснили. Они выживают там, где не выживет больше никто. Их обычное приветствие — „ханг“ — означает „держись“. Я знаю, им приписывают ужасающие преступления, но и мир никогда не был к ним добр. Скажем прямо — те, чья жизнь висит на волоске, прекрасно понимают жуткую алгебру необходимости, которая не знает милосердия. Когда же необходимость становится крайней, женщины делают коготтные горшочки под названием „душа слез“, самые красивые, украшенные резьбой в виде цветов и омытые слезами…».
Стукпостук, идеально рассчитав время, поставил на стол перед своим господином чашку кофе, как раз когда патриций Ветинари дочитал до конца и поднял глаза.
— Жуткая алгебра необходимости, Стукпостук. Мы-то знаем, что это такое, правда?
— О да, сэр. Кстати говоря, сэр, мы получили сообщение от Алмазного короля троллей, который благодарит нас за непоколебимую позицию в отношении тролльих наркотиков. Отлично сделано, сэр.
— Я бы даже не назвал это уступкой, — заметил, отмахнувшись, Ветинари. — Ты знаешь мое мнение, Стукпостук. Я, в общем, не возражаю, если люди принимают всякие вещества, от которых им становится лучше и веселее, ну или они видят маленьких танцующих фиолетовых человечков или даже собственного бога, почему бы и нет. В конце концов, это их мозг, и общество не имеет на него никаких прав, лишь бы в это время они не работали за станком. Но продавать троллям наркотики, от которых у бедняг в буквальном смысле взрывается голова, — это самое настоящее убийство, тяжкое уголовное преступление. И я рад отметить, что командор Ваймс полностью согласен со мной по данному вопросу.
— Да, сэр, и, с вашего позволения, напоминаю, что в скором времени он уезжает. Вы желаете его проводить?
Патриций покачал головой.— Думаю, что не стоит. Наверняка он не в лучшем настроении, и, боюсь, мое присутствие только усугубит ситуацию.
Стукпостук с едва заметной ноткой соболезнования в голосе произнес:
— Не вините себя, ваша светлость. В конце концов, и вы, и командор Ваймс в руках высших сил.
Его светлость герцог Анкский, командор сэр Сэмюэль Ваймс из анк-морпоркской городской Стражи яростно тыкал за голенище карандашом, чтобы унять зуд. Но тщетно. Никогда это не помогало. От носков у него чесались ноги. Сто раз он собирался сказать жене, что вязание не входит в число ее многочисленных блистательных достоинств. Но Ваймс предпочел бы вообще остаться без ног. Ведь Сибилла бы страшно огорчилась.
Носки действительно были ужасные, толстые, бугристые, сплошь в узлах, так что приходилось покупать обувь на полтора размера больше. Он так и делал, потому что Сэмюэль Ваймс, который ни в один храм не входил с религиозными намерениями, боготворил госпожу Сибиллу и каждый день с крайним удивлением сознавал, что она испытывает к нему сходные чувства. Он сделал ее своей женой, а она его — миллионером; благодаря Сибилле нищий, одинокий, циничный, мрачный коп стал богатым влиятельным герцогом. Впрочем, свой цинизм Ваймс умудрился сохранить, и даже запряжка быков, накачанных стероидами, не вытащила бы копа из души Сэма Ваймса. Этот яд проник слишком глубоко, впитался в становой хребет. И теперь Сэм Ваймс чесался и подсчитывал плюсы, пока у него не закончились цифры.
А среди минусов была бумажная работа.
Бумажная работа существовала всегда. Хорошо известно, что всякая попытка сократить количество бумаг ведет к их увеличению.
Разумеется, для бумажной работы у Ваймса были люди, но рано или поздно ему, как минимум, приходилось что-то подписывать, а если не удавалось увернуться, так даже читать. И положить этому конец было невозможно; в конце концов, в полицейской работе всегда есть вероятность, что где-то взлетит на воздух очередной сортир. Инициалы Сэма Ваймса на бумаге извещали мир, что это его сортир и, следовательно, его проблемы.
Он окликнул через открытую дверь сержанта Задранец, которая исполняла обязанности ординарца.
— Еще что-нибудь, Шелли? — с надеждой спросил Ваймс.
— Не в том смысле, как вы думаете, сэр. Но, полагаю, вам приятно будет узнать, что я минуту назад получила клик от временно исполняющего обязанности капитана Пикши из Щеботана, сэр. Он говорит, что дела у него идут неплохо, сэр, и «а ля» ему очень даже нравится1.
Ваймс вздохнул.
— Еще что?
— Тихо как в колодце, — сказала гномиха, выглядывая за дверь. — Жарко, сэр. Слишком жарко, чтобы драться, слишком липко, чтобы воровать. По-моему, чудесно, сэр.
— Где стражники, там и преступление, — буркнул Ваймс. — Запомни это, сержант.
— Я помню, сэр, хотя, на мой вкус, лучше звучит, если слова поменять местами.
— Я так понимаю, нет никаких шансов, что меня отпустят без экзекуции?
Сержант Задранец явно встревожилась.
— Простите, сэр, но, боюсь, увильнуть не удастся. Капитан Моркоу официально заберет у вас значок в полдень.
Ваймс стукнул кулаком по столу.
— Я посвятил всю жизнь городу и не заслуживаю такого обращения!
— С вашего позволения, командор Ваймс, вы заслуживаете гораздо большего.
Ваймс откинулся на спинку кресла и застонал.
— И ты туда же, Шельма?
— Простите, сэр. Я знаю, вам нелегко.
— Меня вышвыривают отсюда после стольких лет! Ты же знаешь, как я просил! А такому человеку, как я, просить нелегко, можешь не сомневаться. Я умолял!
На лестнице послышались шаги. Ваймс вытащил из ящика стола коричневый конверт, что-то сунул в него, сердито лизнул, запечатал плевком и бросил на стол. Конверт звякнул.
— Вот, — произнес он сквозь стиснутые зубы. — Мой значок. Как велел патриций Ветинари. Сдаю добровольно. Никто не скажет, что его у меня отобрали!
В кабинет вошел капитан Моркоу, пригнувшись под притолокой. В руках он держал какой-то сверток, а за спиной у него теснились несколько ухмыляющихся стражников.
— Прошу прощения, сэр, верховная власть и все такое. По-моему, вам повезло, что вас отправляют в отпуск всего на две недели. Госпожа Сибилла изначально настаивала на месяце.
Моркоу протянул Ваймсу сверток и кашлянул.
— Мы с ребятами тут скинулись, командор, — произнес он с натянутой улыбкой.
— Предпочитаю то, что звучит разумнее, например «старший констебль», — сказал Ваймс, забирая сверток. — Знаешь, я тут подумал: если мне надают побольше титулов, я, в конце концов, найду тот, с которым смогу смириться.
Он разорвал бумагу и извлек маленькое разноцветное ведерко и лопатку, к общему восторгу притаившихся зевак.
— Мы знаем, что вы едете не на взморье, сэр, — начал Моркоу, — но…
— И очень жаль, что не на взморье! — жалобно произнес Ваймс. — Там бывают кораблекрушения. Контрабандисты. Утопленники. Преступники так и кишат! Хоть что-то интересное.
— Госпожа Сибилла говорит, вам будет, чем развлечься, сэр, — сказал Моркоу.
Ваймс застонал.— В деревне-то? Чем можно развлечься в деревне? Ты знаешь, почему она называется деревней, Моркоу? Потому что там, черт побери, нет ничего, кроме проклятых деревьев, которыми почему-то полагается восхищаться, хотя на самом деле они просто сорняки-переростки! Там скучно! Сплошное воскресенье! А еще мне придется общаться со всякими шишками!
— Сэр, вам понравится. Я не помню, чтобы вы когда-нибудь брали выходной, разве что, когда бывали ранены, — сказал Моркоу.
— Да и то он непрерывно ворчал и беспокоился, — произнес голос в дверях. Он принадлежал госпоже Сибилле. Ваймса изрядно обижало то, что стражники слушались его жену. Он, разумеется, до безумия обожал Сибиллу, но не мог не заметить, что в последнее время его любимый сандвич с беконом, салатом и помидором превратился из традиционного сандвича с БЕКОНОМ, салатом и помидором в сандвич с САЛАТОМ, ПОМИДОРОМ и беконом. Разумеется, жена пеклась о его здоровье. И все вокруг словно сговорились. Почему ученые не откроют какой-нибудь овощ, который вреден для здоровья? И что не так с луковой подливкой? В конце концов, в ней же лук! И желудок он прочищает, будь здоров. Это ведь полезно, не так ли? Что-то такое он точно читал.
Две недели отпуска, в течение которых за каждым приемом пищи будет надзирать жена. Об этом нестерпимо было даже думать,… но Ваймс все равно думал. И потом еще Юный Сэм, который рос как сорная трава и всюду совал свой нос. Две недели на свежем воздухе, по словам Сибиллы, пойдут мальчику на пользу. Ваймс не спорил. Бессмысленно было спорить с Сибиллой: даже если ты думаешь, что победил, оказывается, на самом деле тебя неверно информировали. Это какая-то магия, совершенно не доступная мужьям.
По крайней мере, ему позволили выехать из города в доспехах. Они были частью Сэма Ваймса, такие же потрепанные, как и он сам, с той разницей, что вмятины на доспехах чинились при помощи молотка.
Ваймс, держа на коленях сына, смотрел на удалявшийся город, а карета везла его навстречу двум неделям буколических грез. Он чувствовал себя изгнанником. Но, с другой стороны, в городе просто обязано было случиться какое-нибудь ужасное убийство или дерзкое ограбление, которое по очень важным соображениям морали (на худой конец) потребовало бы присутствия главы Стражи. Оставалось лишь надеяться.
Сэм Ваймс со дня вступления в брак знал, что у его жены есть дом в деревне. В частности, потому что Сибилла подарила этот дом ему. Точнее, она перевела на мужа все владения своей семьи (упомянутая семья состояла из одной лишь Сибиллы), следуя старомодному, но очаровательному убеждению, что владеть собственностью должен супруг2. И она настояла на своем.
Из деревни регулярно, в зависимости от сезона, на Лепешечную улицу прибывала телега, груженная фруктами и овощами, сыром и мясом. Все это выращивалось и производилось в поместье, которого Ваймс никогда не видел. И не горел желанием видеть. Про деревню он точно знал, что она хлюпает под ногами. Да, конечно, под ногами хлюпали большинство анк-морпоркских улиц, но, черт побери, они хлюпали правильно — и он хлюпал по ним с тех самых пор, как только выучился ходить (и, что неизбежно, падать).Официально поместье носило название Кранделл, хотя обычно его называли Овнец-Холл. Овнецам принадлежал отрезок форелевого ручья длиной в милю, а также паб, как запомнил Ваймс из документов. Владеть пабом — да, вполне понятно; но как можно владеть форелевым ручьем? Ведь твой отрезок, пока ты на него смотришь, уплывет вниз по течению, разве нет? И перед тобой окажется вода, которая раньше принадлежала твоему соседу, живущему выше по течению, и этот надутый сноб, возможно, сочтет тебя браконьером. Вот сукин сын. А рыба вообще плавает, где ей вздумается. Так откуда тебе знать, которая из них твоя? Может быть, она вся помечена? С точки зрения Ваймса, это было вполне по-деревенски. Жить в деревне значит постоянно держать оборону.
1 Обмен кадрами с щеботанской жандармерией себя оправдал: в Щеботане учились работать в духе Ваймса, а еда в столовой Псевдополис-ярда заметно улучшилась трудами капитана Эмиля, хоть в ней и было слишком много «а ля».
2 И радоваться, что при решении почти всех хозяйственных вопросов ему отводится скромное второе место. Госпожа Сибилла полагала, что слово ее дорогого супруга должно быть законом для городской Стражи, но в ее случае является всего лишь вежливым предложением, которое следует милостиво принять к сведению.
Татьяна де Ронэ. Русские чернила
- Татьяна де Ронэ. Русские чернила. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. — 352.
В издательстве «Азбука» вышла книга-бестселлер Татьяны де Ронэ «Русские чернила», по сюжету которой молодой писатель в поисках своих корней попадает в Санкт-Петербург. Пораженный сделанным там открытием, он создает роман, который приносит ему громкий успех. Однако с призраками прошлого не так легко покончить.
Вдохновением для самой Татьяны де Ронэ послужили те же причины: интернациональность собственной семьи и история ее русской прабабушки.Те клиенты отеля, что начали день в море, собирались на берег к обеду. Моторные катера с гудением шли вдоль роскошных яхт и парусников, стоявших на якоре в заливе, доставляли пассажиров и уносились обратно, чертя за собой пенный след. Николя наблюдал за потоком прибывающих. Вот ступила на берег какая-то весьма аристократическая семья, вероятно римляне или флорентинцы. Впереди с достоинством выступали бабушка с дедушкой, следом шествовали мать и отец семейства, а за ними целая команда вышколенных детей. Девочки все как одна в платьях в цветочек, с лентами в волосах, мальчики в белых рубашках и бермудах. Немного погодя на берег сошли две сестры-близняшки невиданной красоты. Одна прижимала к груди ярко-синюю сумку работы знаменитого нью-йоркского ювелира, другая вела на поводке веселого щенка лабрадора, который чуть не свалился в воду, немало позабавив Николя. На сестрах были громадные солнечные очки, а прически копировали небрежный начес Натали Портман. Они легко и грациозно спрыгнули на пирс, хохоча над проделками щенка.
Было около двух часов дня. Николя решил все- таки подняться в номер. В прохладном полумраке Мальвина спала, уютно устроившись на постели. Он осторожно положил ей руку на лоб. Лоб был влажный, но не горячий. Ничего не оставалось, кроме как идти обедать в одиночестве.
Его усадили за тот самый столик, за которым он завтракал. Французы снова оказались слева. Муж с аппетитом набросился на еду. Он играл в теннис и не успел переодеться. Щеки у него горели, на висках блестели капельки пота, на белом поло под мышками виднелись влажные пятна. Дама была в тюрбане, который вовсе ей не шел, и деловито, тщательно пережевывая, поглощала кусочки пармской ветчины. Оба не обменялись ни словом. Справа брюнетка с пышной грудью в одиночестве расправлялась с брускеттой. Семейство бельгийцев заказало охлажденное белое вино. Швейцарцы вяло клевали салат и, увидев, что Николя смотрит в их сторону, раскланялись с ним. Он тоже кивнул. Спрятавшись под зонтиком, он потихоньку наблюдал за кипевшей на террасе жизнью. Его поклонница Алессандра обедала в компании собственного клона, только старше: несомненно, это была ее мать. К счастью, они не могли его видеть. Члены аристократического семейства, словно сошедшего со страниц «Ярмарки тщеславия», выказывали друг к другу преувеличенное внимание и на протяжении всего обеда без конца целовались. Он забавлялся, глядя на них и жуя свой сэндвич с крабовым мясом. Однако, когда появились двойники Натали Портман, он отложил сэндвич в сторону. Близняшки были похожи как две капли воды, а на руках у них красовались абсолютно одинаковые часы «Hermès Cape Cod». Запыхавшийся лабрадор устроился у их ног. Официант принес ему мисочку с водой, и он принялся шумно лакать. Николя напряг слух, чтобы понять, на каком языке они разговаривают.
— А ты нагнись еще чуть-чуть, приятель, и точно свалишься со стула, — раздался у него за спиной гнусавый голос.
Николя вздрогнул и обернулся. Какой-то сутулый тип лет сорока, в мятой футболке и линялых джинсах, одиноко сидел неподалеку, держа в руке бокал розового вина. Он еще что-то проговорил, и Николя с удивлением узнал романиста Нельсона Новезана, лауреата Гонкуровской премии. Они не раз пересекались на разных встречах, телепередачах и литературных салонах. Удивительно, что Новезан, слывший человеком нелюдимым, его признал.
— Ну что, лапуля, все тип-топ? — медленно процедил Новезан тягучим голосом, шатаясь, подошел к столику Николя и плюхнулся на стул напротив него.
Романист, несомненно, уже порядком выпил. Он закурил сигарету, держа ее, по обыкновению, большим и указательным пальцем. Характерная привычка.
— Все отлично, — весело ответил Николя.
Вблизи кожа Новезана выглядела землистой и
несвежей, свалявшиеся сальные волосы, похоже, не одну неделю не знались с водой.— Ты в отпуске, парень?
— Нет, я приехал, чтобы писать.
— Вот как? Я тоже, — зевнул Новезан, обнажив желтые зубы. — Приехал в этот храм роскоши, чтобы писать. Я очень доволен работой. Идет как по маслу. Мой лучший роман. Выйдет на будущий год. Вот увидишь, ох и шуму будет! Мой издатель просто на седьмом небе. И я тоже.
Он щелкнул пальцами официанту и заказал еще вина.
— Ты тут уже бывал раньше?
— Нет, в первый раз.
Ироническая улыбка.
— Так я и думал. Славное местечко. Отто, здешний директор, — мой друг. У меня тут каждый год постоянный номер. Шикарный, с лучшим видом. Авторы бестселлеров хорошо живут, а?
Николя кивнул и натянуто улыбнулся, как совсем недавно Алессандре.
Тут прибыла очередная порция вина.
— Они вечно злятся, потому что я не заказываю их местные хреновые вина.
Новезан нетвердой рукой плеснул себе еще розового.
— Сколько тебе лет, малыш?
— Двадцать девять.
Романист хрюкнул:
— И что ты знаешь о жизни, в двадцать-то девять лет?
— А вам самому сколько лет? — парировал Николя.
Его так и подмывало двинуть романисту по нечищеным зубам.
Тот пожал плечами и молча запыхтел сигаретой. За последние десять лет романист выпустил четыре книги, и две из них стали бестселлерами в Европе и Америке. Николя проглотил их все залпом, еще когда учился на подготовительных курсах, и Новезан его околдовал. А потом романист превратился в раздувшуюся от высокомерия литературную притчу во языцех. Чем больше росла его известность, тем грубее он обходился с журналистами и читателями. Его брутальные, женоненавистнические романы были великолепно написаны. Читатели их либо обожали, либо ненавидели, середины не
было. Равнодушным не оставался никто. Недавно на книжном салоне в Швейцарии он прилюдно оскорбил свою ассистентку за то, что опоздало вызванное ею такси. Николя вспомнил, как невозмутимо она держалась, когда Новезан бушевал и при всех осыпал ее ругательствами.— Хорошо сыграно, приятель, — рыкнул Новезан, отхлебнув изрядный глоток розового.
— Как вы сказали?
Романист снова зевнул:
— Ну этот финт с паспортом. Я говорю, идея была просто у нас под носом. Погляди на меня: отец француз, родился за границей, мать англичанка. А я парижанин по рождению… Я бы тоже мог додуматься.
Николя умолк, потрясенный. На что намекает этот тип?
— Парень, это зернышко валялось под ногами у всех, кого из-за нового дебильного закона заставили доказывать, что они французы. А ты его склевал и написал книгу. И хорошо продается твоя книжонка?
— Неплохо, — ответил Николя безразличным тоном, понимая, что сейчас сорвется.
Он всякий раз закипал, когда слышал слово
«книжонка».— Ну хотя бы примерно, сколько продано? —
еле ворочая языком, настаивал Новезан.Он был абсолютно уверен, что ущучил наконец этого парня.
Николя выдержал паузу перед тем, как добить противника. Глаза его скользнули по столику, где сидели близняшки, потом по желтой стене корпуса, где спала Мальвина.
— Тридцать миллионов экземпляров по всему миру, — бросил он.
Несколько долгих минут Новезан не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. А Николя вдруг почувствовал, как весь его гнев испарился. Он уже презирал себя за то, что похвастался. На кого он рассчитывал произвести впечатление? На этого потасканного, стареющего, легковесного писателя, который в сравнении с ним смотрелся просто дряхлым?
— Вы один сюда приехали? — вежливо поинтересовался он.
— С женщиной в комнате нет никакой возможности писать. Стало быть, трахаешь ее, и она отчаливает, вот так.
И Новезан сделал весьма красноречивый и грубый жест. Николя не смог удержаться от улыбки. Он встал и надвинул на лоб каскетку.
— Пойду поплаваю. Составите мне компанию?
Новезан помахал рукой:
— Нет, спасибо, я пошел вкалывать, дружок. Еще многое надо доделать. Это местечко — просто источник вдохновения! Не могу остановиться. А ты?
Николя не ответил. Новезан тоже поднялся с места, нетвердо держась на тощих ногах. Они расстались, огрев друг друга по спине, как два закадычных приятеля. Прежде чем войти в лифт, Николя проверил «Блэкберри». К его немалому огорчению, на «Фейсбуке» появилась фотография, сделанная утром у бортика бассейна. Ее выложил некто по имени Алекс Брюнель. В его профиле красовалось зеленое яблоко «гренни смит», так что определить личность фаната было невозможно. Алекс Брюнель запаролил свою страницу. К счастью, под снимком не указали, где он сделан. И нашлось уже четыреста сорок пять пользователей, которым фото понравилось. Так было не впервые. Фанаты засекали его в автобусе, в метро, где он по-прежнему охотно ездил. Они без конца щелкали
его на мобильники, а потом в знак почтения помещали снимки на его стене. До сих пор это его не особенно раздражало. Но сейчас, вглядевшись в снимок, он различил на черно-белом пляжном зонтике буквы «GN» — «Gallo Nero». Если кто-то действительно захочет узнать, где он находится, это не составит труда. Но что он мог сделать? Ничего. Ведь говорила же ему Дельфина: «Это твоя плата, Николя. Разве ты сам этого не хотел?» Он прокрутил комментарии: «Мм, секси!», «Неотразим!», «Эй, Николя, возьми меня с собой!», «Италия или Греция?», «Браво!». К счастью, никто не назвал «Галло Неро». Если он удалит фото, то рискует обидеть Алекса Брюнеля, кто бы он ни был. И он (или она) вывесит еще одно. Николя научился осторожно вести себя с фанатами. От рассерженного поклонника хорошего не жди. Он бросил беглый взгляд в свой «Твиттер». Ни один из подписчиков не упоминал о его эскападе в Италию. На всякий случай он проверил свою страницу в Гугле. Ничего. В «Твиттер» он заглядывал редко, как и на свою страничку. А поначалу оттуда просто не вылезал, ведь так здорово находить название книги и фильма на всех сайтах и во всех блогах. Правда, не все отзывы были хорошими, попадались и такие, что больно ранили: «Бросьте агитировать читать это жуткое дерьмо Николя Кольта. И как только этому типу удалось продать столько экземпляров?» Эту фразу в «Твиттере» перепостили сотни раз. Когда он вернулся на пляж, Мальвина уже ждала его. Она немного порозовела и объяснила, что ее вырвало и теперь ей гораздо лучше. Николя рассказал о своей встрече с Нельсоном Новезаном, копируя знаменитый оскал гонкуровского лауреата, поднятую домиком бровь и характерную манеру держать сигарету.— Отправь это в «Твиттер» вместе с его фото, —
улыбнулась Мальвина.— Я пока не захожу в «Твиттер», — ответил он и жестко добавил: — Я теперь стреляный воробей.
Мальвина спросила, видел ли он свое фото в
«Фейсбуке». Она набрела на него в своем айфоне. Он в ответ проворчал, что недоволен: хотелось бы уединения, хотя бы трех дней покоя для них обоих. Трех дней солнышка.— Интересно, кто это вывесил, — пробормотала
Мальвина.— Да чихал я на него, — прошептал Николя, целуя ее шелковистые волосы.
Карстен Йенсен. Мы, утонувшие
- Карстен Йенсен. Мы, утонувшие / Пер. с дат. Г. Орловой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. — 704 с.
Международный бестселлер, переведенный на двадцать языков, «Мы, утонувшие» датского писателя Карстена Йенсена впервые публикуется на русском издательством «Иностранка». Речь в романе идет о жизни портового городка Марсталь. Войны и кораблекрушения, аферы и заговоры, пророческие сны и чудесные избавления от опасностей — что бы ни происходило, море как магнит продолжает манить марстальцев поколение за поколением.
САПОГИ
Лаурис Мэдсен побывал на небесах, но вернулся на землю благодаря своим сапогам.
Не то чтобы он взлетел уж очень высоко — не до клотика, скорее на высоту гротарея на фрегате. Лаурису Мэдсену довелось стоять у райских врат, лицезрея самого святого Петра, пусть хранитель ключей и повернулся к нему задницей.
Лаурису Мэдсену было суждено умереть. Но смерть отвергла его, после чего он преобразился.
Еще до путешествия к райским вратам он прославился тем, что единолично начал войну. Отец его, Расмус, сгинул в море, когда малышу было шесть, а в четырнадцать Лаурис нанялся на марстальский корабль под названием «Анна». Всего через три месяца «Анна» потерпела крушение в Балтийском море, но экипаж спасся благодаря подоспевшему им на помощь американскому бригу, и с тех пор Лаурис Мэдсен мечтал об Америке.
Диплом штурмана он получил в восемнадцать во Фленсбурге и в тот же год вторично стал жертвой кораблекрушения, на сей раз у побережья Норвегии, близ Мандаля. Там, холодной октябрьской ночью, он стоял на омываемом волнами рифе, высматривая, нет ли возможности спастись. Пять лет Лаурис бороздил мировые океаны. Он обогнул мыс Горн, слышал крики пингвинов в чернильно-черной ночи, побывал в Вальпараисо, на западном побережье Америки и в Сиднее, где деревья зимой роняют не листья, а кору и повсюду скачут кенгуру. Встретил девушку по имени Салли Браун с глазами-виноградинами, мог порассказать о Фортоп-стрит, Ла-Боке, Берберском побережье и Тигровой бухте. Он пересек экватор, поприветствовал царя Нептуна, почувствовал пресловутый толчок на линии сечения земной поверхности и в честь этого события пил соленую воду, рыбий жир и уксус, крестился смолой, сажей и клеем, был брит ржавым ножом с зазубринами на лезвии и лечил порезы солью и известью, облобызал рябую охряную щеку Амфитриты и сунул нос в ее флакончик с нюхательной солью, наполненный обрезками ногтей.
Лаурис Мэдсен повидал мир.
Но мир повидали многие. А он вернулся, одержимый одной идеей: все в Марстале казалось ему слишком мелким, и, будто же- лая доказать это, Лаурис безостановочно говорил на языке, который называл «американским» (он с год проплавал на военном фрегате «Неверсинк», где и освоил заморское наречие).
— Гивин нем белонг ми Лаурис Мэдсен1, — говорил он.
От Каролины Грубе с Нюгаде было у него три сына: Расмус, названный в честь деда, Эсбен и Альберт — и старшая дочь Эльсе. Невысокие молчаливые Расмус, Эсбен и Эльсе походили на мать. Альберт же уродился в отца. Уже в четыре года он ростом сравнялся с Эсбеном, который был старше его на три года, и все возился с английским пушечным ядром. В упорных попытках поднять его малыш вставал на коленки, взгляд его стекленел, но чугунное ядро было слишком тяжелым.
— Хив эвэй, май джолли бойс! Хив эвэй, май буллис!2 — громко подбадривал Лаурис, глядя на экзерсисы младшего сына.
Ядро это в свое время пробило крышу их дома на Корсгаде; дело было во время осады Марсталя англичанами в 1807 году. Бабушка так испугалась, что прямо на кухонном полу разрешилась Лаурисом. Теперь же, если только Альберт не укатывал его прочь, ядро лежало на кухне, и Каролина пользовалась им как ступкой, чтобы толочь горчичные зерна.
— Да ты и сам был ничего себе, — как-то сказал Лаурису отец, — такой здоровенный. Урони тебя аист, ты пробил бы крышу не хуже английского ядра.
— Финггу3, — говорил Лаурис, поднимая палец. Он хотел научить детей американскому языку.
«Фут» означало ногу: он показывал на сапог. «Маус» — рот.
Садясь за стол, он скалился и почесывал живот:
— Хангре4. — И все понимали, что он голоден.
Мать звалась «миссис», отец — «папа тру»5. В отсутствие отца они говорили «мама» и «папа», как и другие дети, — все, кроме Альберта, который находился с отцом в особых отношениях.
Дети назывались по-разному: пикинини, буллис и хартис6.
«Лаиким тумас»7, — говорил Лаурис Каролине и делал губы трубочкой, будто желая поцеловать ее.
Она смущенно прыскала и злилась:
— Не будь таким дураком, Лаурис.
В Шлезвиг-Голштинии, по другую сторону Балтийского моря, началась война с немцами. Это случилось в 1848 году, и первым об этом узнал старик де ля Порт, таможенный инспектор, поскольку временное революционное правительство, сидящее в Киле, направило ему «Прокламацию», а также требование сдать таможенную кассу.
Весь Марсталь пришел в волнение, мы сразу решили организовать гражданскую оборону. Во главе ее встал молодой учитель из Рисе, которого с того момента мы называли «генералом». На самых высоких точках острова были устроены сигнальные огни, представлявшие собой водруженные на высокие шесты бочки со старыми снастями и смолой; из них свисали веревки. При приближении врага бочку взрывали, возвещая тем самым, что война надвигается с моря.
Огни устроили и на горе Кнастербьерг, и в дюнах у мыса Вайснес, а по побережью ходил патруль, наблюдая за морем.
Вся эта военная суматоха сильнейшим образом повлияла на Лауриса, и так ни к чему уважения не питавшего. И вот однажды вечером, возвращаясь домой из Эккернфёрдской бухты и проходя мимо Вайснеса, он подошел вплотную к берегу и заорал так, что чертям стало тошно: «Немцы, за мной гонятся немцы!»
Через несколько минут на вершине утеса взорвалась бочка. Вслед за тем запылал костер на Кнастербьерге, и огонь продолжил шествие вглубь острова, до Сюнесхоя, находившегося почти в двадцати километрах от первой бочки, и вот уже весь остров Эрё превратился в пылающий костер.
Лаурис покачивался на волнах, костры разгорались, и он вдосталь насмеялся над переполохом, который учинил. Но, придя в Марсталь, обнаружил, что, несмотря на поздний час, повсюду горят огни и на улицах полным-полно народу. Одни нечленораздельно выкрикивали приказы, другие плакали и молились, а по Маркгаде носились люди, пылавшие жаждой битвы, вооруженные косами, вилами, а кое-кто и ружьями. Молодые матери в ужасе бегали по улицам с орущими младенцами на руках, уверенные, что немец первым делом поднимет на штыки их потомство. У колодца на углу Маркгаде и Вестергаде шкиперская жена ругалась со служанкой. Женщина решила спрятаться в колодце и велела девушке первой прыгнуть в черную яму.
— После вас, — отвечала та.
Мы, мужчины, тоже друг другом командовали. Слишком уж у нас в городе тесно от шкиперов, чтобы кто-то кого-то там слушался, и единодушие мы проявили лишь в одном — средь множества других громких слов дружно произнесли торжественную клятву, что жизнь свою продадим дорого.
Волнения достигли дома пастора Захариассена на Киркестраде, как раз принимавшего гостей. Одна дама от переживаний лишилась чувств, а двенадцатилетний сын пастора Людвиг вознамерился защищать отчизну кочергой. Семья учителя Исагера, по совместительству псаломщика, также приготовилась отразить нападение захватчика. Все его двенадцать сыновей, в тот вечер собравшиеся дома, чтобы отпраздновать день рождения толстой фру Исагер, получили от мамаши по горшку с золой и приказ кидать золу на голову немцам, если тем втемяшится атаковать их жилище.
Во главе толпы, что валила по Маркгаде в сторону Канатного двора, шел старый Йеппе. Он махал вилами и громко призывал немцев нападать, если хватит смелости. Карманы столяра, старика Лавеса Петерсена, раздулись от пуль; как он маршировал, браво вскинув ружье на плечо! Правда, на полпути ему пришлось повернуть назад — оказалось, он забыл дома порох.
У марстальской мельницы стояла мельничиха госпожа Вебер с вилами наготове и требовала позволения вступить в бой. То ли по причине всеобщей растерянности, то ли из-за того, что внешность у этой дамы была куда как приятнее, чем у нашего брата мужика, мы тут же приняли ее в свои воинственные ряды.
Лауриса, человека впечатлительного, так воодушевил всеобщий подъем, что он кинулся домой за оружием. Каролина с четырьмя детьми в испуге спряталась под столом в гостиной; тут ее муженек ворвался в дом и бодро прокричал:
— Вылезайте, дети, мы идем на войну!
Раздался глухой стук: Каролина ударилась головой о столешницу. С трудом выпутавшись из скатерти, она выпрямилась в полный рост и в ярости заорала:
— Ты что, совсем рехнулся, Мэдсен? Не пойдут дети ни на какую войну!
Расмус и Эсбен радостно скакали.
— Мы хотим на войну! Мы хотим на войну! — кричали они хором. — Можно? Ну можно?
Малыш Альберт прикатил свое ядро.
— Вы что, все с ума посходили? — закричала мать и отвесила тому, кто оказался ближе, оплеуху. — А ну, марш под стол!
Лаурис кинулся в поисках оружия на кухню, но не нашел ничего подходящего.
— Где сковородка? — крикнул он жене в гостиную.
— Так я ее и отдала! — заорала Каролина. — Не видать тебе моей сковородки как своих ушей!
Лаурис растерянно оглядывался по сторонам.
— Возьму тогда метлу, — сообщил он и кинулся прочь из комнаты. — Ну мы сейчас немцу и зададим!
Громко хлопнула входная дверь.
— Нет, ты слышал? — прошептал Альберту старший, Расмус. — Папа ни слова не сказал по-американски.
— Чокнутый! — бросила мать, вновь забравшись в свое темное убежище — под стол, и покачала головой. — На войну — с метлой!
Вызвав всеобщее ликование, Лаурис присоединился к разгоряченной толпе. Слыл он, правда, человеком заносчивым, зато был рослым и сильным, и всем казалось, что иметь его в своих рядах очень полезно. И тут мы увидели метлу.
— А ничего другого не нашел?
— Для немца сойдет, — ответил он, потрясая ею над головой. — Мы их отсюда выметем.
Мы были в себе уверены и посмеялись этой шутке.
— Оставим вилы, несколько штук, — сказал Ларс Бёдкер. —
Заскирдуем мертвых немцев.
Мы вышли в открытое поле. До Вайснеса было полчаса ходьбы, но нам не терпелось, в крови еще горел огонь. Добравшись до Драйбаккене, мы увидели, как над островом вздымается пламя, — это зрелище лишь усилило наше воинственное настроение. И тут в темноте послышался стук копыт. Мы застыли. Враг приближался!
Хотя план застать немцев на побережье врасплох рухнул, на нашей стороне по-прежнему было знание местности. Лаурис со своей метлой принял боевую стойку, мы последовали его примеру.
— Подождите меня! — раздалось сзади.
Это вернулся маленький столяр, ходивший за порохом.
— Ш-ш-ш! — зашипели мы. — Немец где-то рядом.
Стук копыт приближался, но теперь стало слышно, что лошадь одна. И вот из мрака возник всадник. Лавес Петерсен вскинул ружье и прицелился. Но Лаурис положил руку ему на ствол и сказал:
— Это счетовод Бюлов.
Счетовод сидел верхом на потной лошади, черные бока которой вздымались после быстрой скачки. Он поднял руку:
— Возвращайтесь домой. Нет возле Вайснеса никаких немцев.
— Но бочки же горят! — потрясенно вскричал Лавес.
— Я говорил с береговой стражей, — ответил Бюлов. — Ложная тревога.
— А нас вытащили из теплых постелей! И зачем? Да низачем! Госпожа Вебер скрестила руки на груди и окинула нас суровым
взглядом, будто искала, на кого наброситься за неимением врага.— Зато теперь мы знаем, что готовы к обороне, — примиряюще сказал счетовод. — Но лучше, чтобы враг вообще не появился.
Мы вяло согласились. И хотя в словах счетовода был здравый смысл, разочарование оказалось велико. Мы уже приготовились взглянуть в глаза и немцу, и смерти, но не встретили ни тех, ни ее на побережье Эрё.
— Пусть только попробуют сунуться! — сказал Ларс Бёдкер.
Внезапно почувствовав усталость, мы двинулись к дому. Заморосил холодный ночной дождь. В молчании мы дошли до мельницы, где госпожа Вебер покинула наши безутешные ряды. Она встала перед нами, держа свои вилы наперевес, будто ружье, и произ- несла с угрозой в голосе:
— Хотела бы я знать, что за шутник поднял честных людей с постелей посреди ночи и отправил их на войну.
И мы все уставились на Лауриса, возвышавшегося среди нас с метлой на плече.
Но Лаурис не попытался спрятаться, не опустил глаз. Вместо этого он посмотрел на нас, запрокинул голову и захохотал, подставляя лицо дождю.
Но вскоре шутки кончились: нас призвали на флот. По соседству от нас, в городе Эрёскёбинг, причалил военный пароход «Гекла». Выстроившись в очередь, мы по команде, один за другим, запрыгивали с пристани на борт баркаса, который должен был доставить нас на корабль. Мы ведь до сих пор переживали из-за того, что в тот ноябрьский вечерок повоевать так и не пришлось, но уж теперь ждать оставалось недолго, и настрой был боевой.
— Эгей, вот они идут, бравые датские парни с вещмешками! — крикнул Клаус Якоб Клаусен.
Маленький, жилистый, он вечно хвастался, рассказывая, как один татуировщик из Копенгагена, по прозвищу Острый Фредерик, заявил, что ни разу не втыкал иглы в руку тверже, чем у Клауса. Отец его Ханс Клаусен был лоцманом, и дедушка был лоцманом, и сам он не сомневался, что пойдет по их стопам: накануне ночью Клаус Якоб Клаусен видел вещий сон и уверовал, что вернется с войны живым.
В Копенгагене нас определили на фрегат «Гефион». Лаурис же единственный попал на линейный корабль «Кристиан Восьмой», грот-мачта которого была столь высока, что расстояние от клотика до палубы в полтора раза превышало высоту колокольни в Марстале. Стоило только взглянуть вверх, как дух захватывало и голова кружилась, но подобное головокружение вселяет в мужчину гордость: мы знали, что призваны совершить великие деяния.
Лаурис смотрел нам вслед. «Кристиан Восьмой» ему подходил. Как по-хозяйски он примется расхаживать по палубе — бывалый моряк, который целый год ходил на американском военном корабле «Неверсинк»! И все же нам казалось, что, увидев, как мы поднимаемся по сходням «Гефиона», он хоть на мгновение да почувствовал себя брошенным.
1 Меня зовут Лаурис Мэдсен (искаж. англ.).
2 Тащите, мои мальчики! Тащите, забияки! (искаж. англ.)
3 Палец (искаж. англ.).
4 Голодный (англ. искаж.).
5 Истинный, настоящий отец (англ.).
6 Малыши (искаж. ит.), забияки, сердечки (искаж. англ.).
7 Очень тебя люблю (искаж. англ.).