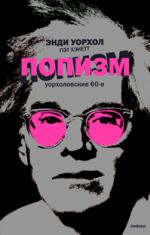Отрывок из книги Иржи Грошека «Файф-о-клок», выходящей на днях в издательстве «Амфора». «Файф-о-клок» — это действительно смешной
сборник, состоящий из романа «Файф», пяти интервью с
Иржи Грошеком и повести «Пять фацеций „а-ля рюсс“»
Интервью первое
ФИЛОСОФИЯ КАК ИГРА
1. «Правда и ложь как синонимы трагического и комического»
Ощущение после Вашей прозы: грандиозная выдуманная правда. Это такая же реальность, как смерть: она будет точно, но никто до конца в нее не верит. Как Вы ощущаете ложь? Что такое творческая ложь и возможно ли без нее творчество?
Как говорила одна моя знакомая, женщина по происхождению, «правду надо говорить всегда! Только — не всю…». На самом же деле «творческая ложь» и «творческая правда» — одно и то же. Например, образ Валерии составляют реальные женщины — сколько и в каких «пропорциях», об этом знаю только я. Носик — оттуда, ушки — отсюда, хвостик — из античности. Но это отнюдь не собирательный образ из моих жен и подружек. Просто, как «доктор Франкенштайн», — я сотворил себе приятельницу. Да, возможно, получился монстр, но — в реальной жизни она была еще хуже! (Курсив Иржи Грошека.)
И вообще, всякую мистификацию составляют вполне реальные вещи. Все дело именно в пропорциях. Как я ощущаю ложь? Я в нее верю — от рассвета до обеда. После чего иду пить пиво в ближайший бар и наблюдаю скучную правду. Что в добрую кружку помещается всего лишь пол-литра. Что люди в баре спорят ни о чем, поскольку завтра они вернутся обратно и будут спорить о том же самом. И вот я сижу там и, глядя на них, думаю, что в действительности подлинной правды нет. Поскольку все вышесказанное — я вам наврал. А насколько творчески и в каких пропорциях — судить не мне…
«Бани, вино и любовь!» — где реальность любви расстается с реальностью плоти? Где и то и другое становится подлинностью? О героях «Легкого завтрака» можно сказать: «Смерть танцует их» (перефразировка Г. Самойлова). Дает ли смерть ответ на вопрос о подлинности любви? (Ха, забавная формулировка, особенно если учесть, что Вы еще пребываете на этом свете. Но как творческий мистификатор Вы можете дать ответ.).
Да что же вы все — о смерти да о смерти? Разве это самая «реальная реальность»? От того, что умерла моя бабушка, я не стал ее меньше любить… Смерти — тоже нет. Я знаю об Агриппине, я помню о Нероне, я не забуду своего преподавателя — значит, все они живы и даже общаются между собой. Бабушка моя на что-то пеняет Нерону, Агриппина спорит с моей женой, я беседую с дядюшкой Клавдием — это, надеюсь, не шизофрения, а мой микрокосмос. Полагаю, что обо мне тоже не забудут. Ведь и самые незначительные люди хранятся в памяти человечества. Все — от первого до последнего. «Бани, вино и любовь ускоряют смертную участь» — вот, и я помню о шутнике, который начертал эту фразу на столовой ложке. Кстати, была на той же самой ложке и вторая надпись: «Принося жертву — побереги грыжу!» Эта надпись мне кажется смешнее, если уж мы заговорили о смерти… И тут мы опять возвращаемся к соразмерности. Правда и ложь как синонимы трагического и комического. Или — в другой последовательности?
2. «Писатели предназначены для бережной реанимации истин»
В «Легком завтраке» мне привиделась сцена встречи «Изольды» с «Сатириконом», за которыми подглядывает «Молот ведьм». И на самом-то деле «Завтрак» — это декларация против «Молота ведьм» как учебника цензоров (Вы понимаете, что все книги упоминаются здесь в качестве символов). Именно против цензоров, а не общественной цензуры в лице читателей. На образ Нерона навешано столько ярлыков, что хотелось растрясти этот образ, как осеннюю осину. Я не историк, никогда не стремился к этому и никогда им не буду. Поэтому у меня другие задачи и другие методы их осуществления. А любовные сцены в «Легком завтраке» — это тест на лицемерие.
Более всего меня раздражают банальности и мнимые аксиомы. А банальность — это зверски избитая истина. Иногда мне хочется кричать: «Позовите полицию! На моих глазах чуть не убили истину! Покараульте этих подонков, покуда я отвезу ее в реанимацию!» Я скромно оцениваю свои способности, но писатели и предназначены для бережной реанимации истин. До первозданного вида. Истин, которых, быть может, и нет. Но даже подвергая аксиомы сомнению, я только этим и занимаюсь. Софисты, доказывая, что дважды два — пять, тоже подтверждают, что два плюс два — четыре.
Не странно ли объяснять читателю смысл произведения и сколько независимых трактовок оного Вы допускаете?
Я допускаю арифметическую прогрессию трактовок. Смысл любого произведения в неком интеллектуальном, художественном коде. В кино, в литературе, в живописи — интеллектуальный код один. Могут быть разные по мастерству шифровальщики и, естественно, дешифровальщики. Человек, не владеющий этими навыками, воспринимает любые художественные произведения как простые слова — книга, кино, полотно… Другое дело, что для такого читателя существует множество книг и безо всякого интеллектуального кода. Другое дело, что у иного писателя никакого интеллектуального кода и нет. И никакие объяснения тут не помогут.
Как постсоциалистический писатель чувствуете ли Вы, когда пишете, опасность приблизиться к совковой литературе (и слиться с ней)? В чем секрет преодоления?
Что есть «совковая литература»? Это когда читатель наводит порядок на своих книжных полках и все «подпорченные» произведения выметает, то есть — на совок и в мусорную корзину? Как автор я, естественно, боюсь «слиться» с подобной литературой. Ибо можно нарожать таких уродов, что несчастные «спартанские» читатели замучаются сбрасывать их со скалы. Как читатель — я хитрее… У нас с женой раздельное хозяйство: у нее свои книжные стеллажи, у меня — свои. Раз в месяц, после рейда по книжным магазинам, мы всей семьей играем в «трибунал». То есть составляем «тройку» — я, жена и Магвай,- чтобы устроить судилище. Так вот что я вам скажу: это самый неправедный суд на свете. Магвай книг не читает, поскольку он персидский кот; я читаю мало, потому что — нахал; жена дочитывает все за нас- в луч шем случае до половины. Но все мы имеем определенное суждение о современной литературе. Магвай считает, что это пустая трата денег; я считаю, что я нахал; а жене запрещено восхвалять какого-нибудь автора в присутствии Иржи Грошека. После судилища я внимательно осматриваю свои книжные стеллажи и аккуратно переставляю «неприятные» мне книги на полки жены. После чего жена осматривает свои книжные стеллажи и аккуратно переставляет книги, которые не будет дочитывать, — дальше. После чего мы начинаем аккуратно их раздаривать. Потому что некоторых авторов просто никто не хочет у нас брать. Поэтому мы настоятельно рекомендуем для прочтения все не понравившиеся нам книги. Можете себе представить, что думают люди о наших литературных предпочтениях?! Зато в нашей библиотеке нет неприят ных нам книг! Это и есть ответ на вторую часть Вашего вопроса — «в чем секрет преодоления совковой литера туры». Вначале я редактирую то, что написал вчера, за тем — передаю жене, а она запихивает эти листочки в до мик Магвая. Поэтому самое отрицательное отношение к современной литературе именно уМагвая- она мешает ему жить. А жена аккуратно рекомендует всем почи тать Иржи Грошека…
3. «Бог создал пиво, а черт изобрел кружку»
В «Легком завтраке» много секса. Но секс — это ведь не коммерческий ход в прозе, ну хотя бы не в первую очередь коммерческий ход? В сексе тривиальное и божественное встречаются, но какова главная мысль, читаемая во всех любовных сценах и описаниях «Легкого завтрака»?
Сексуально-коммерческий ход в прозе- это когда писательница успешно занимается проституцией. Именно писательница, потому что на писателя мало кто позарится. А тривиальное и божественное в литературном сексе встречаются, когда книга Барбары Картленд лежит на книге Данте. (Кстати, я надеюсь, что еще в состоянии ответить, какова моя главная мысль в любовной сцене.)
Раз уж мы заговорили об удовольствиях, то впору вспомнить о спиртном. Один знакомый писатель вывел формулу взаимовыручки алкоголя и творчества. Алкоголь выпивается творцом, творчество перестает сносить его крышу и подтачивать фундамент. Другой вариант: алкоголь, напротив, влияет на стимуляцию творческого процесса. Что скажете Вы на сей счет и сколь ценными считаете произведения, по сути посвященные алкоголю или замешанные на нем («Москва-Петушки» Ерофеева, к примеру)?
«Осмелюсь предположить, что вначале Бог создал пиво. Черт изобрел кружку. А древние чехи построили Прагу, где все замечательным образом соединилось. То есть, глядя на пражское пивное изобилие, можно с уверенностью сказать „Бог с нами!“. А пересчитывая кружки — выбрать пешеходный маршрут себе по вкусу. Ибо, как сказано в пивной молитве: „Все бренно, и только жажда моя — неизменна!“» (самоцитата).
Романа Ерофеева — не читал и лицемерно добавляю- к сожалению, поскольку мог бы заказать эту книгу и ознакомиться. Но не буду. Потому что не хочу, глядя на пустые бутылки, с умилением вспоминать о социалистическом прошлом. Опять же — ничего плохого не вижу в романах, «по сути посвященных алкоголю». Ну выделил писатель эту тему, ну и выделил. С точки зрения литературы «роман об алкоголе» ничем не отличается от «романа о кофе». Другое дело, с каким качеством это написано. И чем обусловлен повышенный читательский интерес к писателю, который углубляется в алкогольную тему. Не ищет ли он, читатель, здесь родственные пороки? С ухмылкой рассказывая соседу за рюмкой, что «жутко пил старина Хэм» или «допился до чертиков Ерофеев». То есть, по сути дела, читатель проявляет здесь обывательский интерес, а не литературный, и это- прискорбно. С моей точки зрения, на алкогольную тему надо писать на трезвую голову. Но люди все разные, и творцы — тоже.
Если говорить обо мне — я не пишу даже после кружки пива, не редактирую и не строю литературных планов. То есть алкоголь несовместим с моим творчеством, которое построено, простите за самонадеянность, на трезвом расчете. Я всегда пытаюсь создать некую литературную конструкцию. Вычерчиваю схему построения романа и монтирую отрывки. Вдохновения у меня нет, и поэтому мне не надо его стимулировать алкоголем.
Другое дело, что время от времени я «изучаю» эту тему, с большим или меньшим отравлением организма. (Примечание переводчика как жены: Что, безусловно, тормозит творческие процессы и задерживает написание новых произведений.)
4. «Регалии всегда можно заложить в ломбард»
Какое значение придаете Вы писательским регалиям? К примеру, в России для многих и многих эталон — корочка члена Союза писателей. И даже иные маргиналы «попадают», вначале демонстративно плюясь на корочки и членство, а заполучив оное, помалкивая или произнося тирады о том, как все можно оправдать.
К писательским «регалиям» я отношусь хорошо. В любом случае их можно заложить в ломбард. От литературной премии — тоже не откажусь. Однако никакого значения «писательским регалиям» не придаю. Если только это не алмаз «Кохинур». Как они выглядят- эти регалии? Отвечайте скорее!!!
А также- каким тиражом издаются «корочки», к какому литературному жанру они принадлежат и сколько платят за них авторского гонорарУ? Я готов приступить к написанию трилогии «корочек», если сумма меня устроит…
Если серьезно, то «союзы писателей» достались нам еще от тех времен. Если они кому-то до сей поры нужны- то бога ради! Другое дело, нельзя допускать, чтобы престарелые и молодые обормоты, объединенные в союз, утверждали, что только они члены-писатели, а другие — так, погулять вышли. Как если бы члены «Союза читателей» утверждали, что только они правильно переворачивают странички, а все остальные делают это непрофессионально. Надеюсь, что мы не вернемся к диктатуре в литературе.
Тут уместно говорить о злободневности в литературе. Хотя Ваш роман создает ощущение «злободневности метафизической», которая будет актуальна всегда. Но вот что для Вас лично злободневность и как Вы относитесь к так называемой злободневной литературе? (Гребенщиков сказал, что для творца памфлет — не помеха.)
Отвечу коротко, поскольку само словосочетание «злободневная литература» к творчеству, то есть созиданию, не имеет никакого отношения. Деструктивная злоба и созидательное творчество — несовместимы. Писатель и философ должны стоять «над схваткой» (никуда не ходить и телеграмм никому не показывать). Может быть, я переоцениваю читателя, но стараюсь в своем творчестве предоставить ему сделать выводы. А также не хулю и не хвалю своих героев — я им сопереживаю. Кому нужны выводы и резолюция автора — пусть обращаются к другому автору. Поскольку я не «папа», к которому пришел «крошка-сын» за разъяснениями — «что такое хорошо, а что такое плохо». (И что этот «папа» рассказал на самом деле? Никто не помнит.)
5. «Автор доволен собою почти всегда, а литература им — в единичных случаях»
Что такое для Вас подлинная философия и какую роль, по Вашему мнению, должен играть философ в современном мире?
«С малого начал, тридцать миллионов оставил. Философии не обучался» — эпитафия Тримальхиона. Вторая часть служит эпитафией и мне. Я не занимаюсь разработкой новых мировоззрений, хотя время от времени, «паря в пространстве, думаю о судьбе светил». Можно сказать, я наряду со всеми поставляю философам материал для обобщений. Хотя, вероятно, подобный мне типаж свел с ума не одного Ницше. Я расцениваю философию как игру вроде «веришь — не веришь». Сегодня я убеждаю читателя в том, завтра- в этом. Меня нисколько не настораживает перемена взглядов по ходу дискуссии. Наоборот, чем убежденнее «философ», чем яростнее он отстаивает свою точку зрения, тем дальше я стараюсь от него отсесть, дабы в пылу своей убежденности он не треснул меня палкой. Поскольку я самый отвратительный слушатель, из меня никогда не получится последователя, преемника и благодарного ученика. Меня только лишь забавляет данная точка зрения в данную минуту, а через полчаса может заинтересовать диаметрально противоположная шизофрения. Поэтому и роль, которую должен играть философ в современном мире (я бы выделил слово «играть»), мне кажется, это та роль, которая может расшевелить общество. То есть круглосуточная поставка мировоззрений — оптом и в розницу. И чтобы ко мне не цеплялись въедливые критики, добавлю: далеко не все мировоззрения и концепции я приемлю. Но и публично осуждать их не буду. Поскольку серьезно их не воспринимаю, как серьезно не воспринимаю то, о чем я написал или подумал, например, год назад. Все познается не в сравнении, а — в развитии. Можно расценивать отклонения в обществе как юмор. Слушая диалог психиатра и пациента, не всегда с уверенностью можно сказать, кто болен. Поскольку психиатр серьезно относится к своей работе, а я — нет.
А какие темы в литературе вообще интересуют Вас и какие не интересуют категорически?
Если я отвечу, что все литературные темы, жанры и фабулы мне интересны, то это будет выглядеть сродни ответу на предыдущий вопрос. Так нет же! Мне ненавистно все, что сделано в литературе начиная с Гомера. Потому что это весьма осложняет поиски новой темы, жанра или фабулы. На кого оглядывался Гомер? Только на египетские пирамиды. Современный писатель, в меру своей эрудиции, должен переработать несоизмеримо больше информации. Или выйти в чисто поле литературы, аки Гомер. «Есть тут кто аль нет никого?!!» «Я есть альфа и омега; я первый, и я последний!!!» Подобная наглость поощряется, но далеко не всегда заканчивается к обоюдному удовлетворению — литературы и автора. (Кстати, автор доволен собою почти всегда, а вот литература автором — в единичных случаях.) Европейские писатели многие литературные вопросы перевели в область категорического императива, мол, это так, как есть, — и не надо трепать «вечные темы» как бобик тряпку. «Тварь ли я дрожащая или право имею?!!» «Быть или не быть?!» Славянские авторы по-прежнему начинают с азов, поэтому на развитие сюжета им требуется больше времени. И если исходить из того, что каждый писатель всю жизнь пишет один роман, собрание сочинений славянского автора — только пролог этого романа. Другое дело- «американизмы», когда психологические мотивы героя толкуются исключительно по Фрейду. «Почему он вдруг перерезал жителей двух кварталов? — А в детстве его мать утопила его любимого плюшевого мишку! Вот он и тронулся!» Поэтому, может, и хорошо, что славянские авторы пытаются разобраться в который раз, из чего был сделан плюшевый мишка, жаль только, что в ущерб сюжету. Поскольку, если в литературе особенно увлекаться философскими вопросами, можно с «водой» выплеснуть читателя. А потом спрашивать: «А был ли мальчик?»
Что из художественных произведений занимает высшие строчки в хит«параде Вашей души? (Например: „Чук и Гек“, „Улисс“, „Давно я не лежал в колонном зале…“ и т. д.)
Я думаю, что „Чук и Гек“- это грустная повесть о сибирских лайках. Не может быть, чтобы люди носили такие имена. Жена мне объяснила, что это — повесть о детях. А я все равно думаю, что о сибирских лайках. Далее в хит-параде:
Умберто Эко, „Имя розы“ — великий роман, остальные два его романа — по нисходящей. Вечный»Улисскак библия для писателя: можно открыть, прочитать пару страниц на сон грядущий и закрыть с чувством собственного бессилия. Джон Фаулз — «Волхв», «Червь», «Башня из черного дерева».
Можно продолжать и дальше, но в моей библиотеке две тысячи томов.
Хочу сказать спасибо Анне Владимировой — русской жене и переводчику, иначе бы мы вообще не поняли друг друга.
Вопросы: Артур Медведев и Мария Мамыко
Опубликовано: «Философская газета», 2002