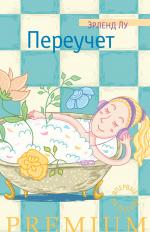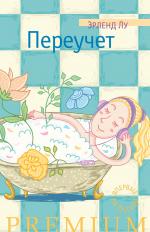- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 156 с.
Говорят, чужая душа — потемки, а внутренний мир человека искусства — тем более. Так что если вы то и дело ждете вдохновения и дарите миру свои творения, это повод обратить внимание на новый роман норвежца Эрленда Лу «Переучет». А уж если вы непризнанный и неоцененный поэт, как героиня книги, Нина Фабер, стоит внимательно отнестись к изложенным в тексте мыслям и переживаниям. Чтобы не повторить ее судьбу и не попасть под трамвай. Дважды.
Нина Фабер после долгого перерыва вновь начинает писать стихи и возлагает огромные надежды на свой новый поэтический сборник «Босфор», который должен вернуть ее творчество в поле зрения читателей и литературных критиков. Но после нескольких разгромных рецензий она буквально слетает с катушек. За день, описанный в книге, Нина совершает череду поступков, выходящих за грани приличия и даже — закона. Случайное убийство Бьерна Хансена, который отменил встречу с читателями Нины, оправдавшись переучетом в книжном магазине, не вызывает у нее ни капли сожаления. Этого мало, и обиженная писательница начинает охоту на Рогера Кюльпе, несчастного студента, не понимающего в поэзии ровным счетом ничего, но написавшего ужасный отзыв на «Босфор». Кто дал ему, некомпетентному выскочке, право так рассуждать о ее стихах — вот что волнует героиню в первую очередь:
Судя по всему, заключает Нина, у этого Кюльпе нет никаких оснований писать о ее стихах или кого другого и уж во всяком случае называть ассоциации заезженными. Сутью поэзии как раз является личное истолкование того, что все видят и переживают и даже могут описать, но не такими словами, как Нина, или Кюльпе, или я не знаю кто. Но если человек мыслит исключительно категориями массового истребления людей (студент увлекается литературой о геноциде и репрессиях), то личные заметки на тему любви, старости или мостов в Стамбуле, вероятно, кажутся ему заезженными. Нину колотит от ярости. Да как он смеет! И как он посмел…
Писательница ужасно одинока. Нет никого, с кем она была бы по-настоящему близка. Лу подчеркивает это и создает трагикомедию, добавляя в повествование забавно-грустные сюжеты из жизни Нины, одним из которых становится эпизод общения с ежиком Юсси.
Нет, он (ежик) не относится к ней плохо, он вообще не испытывает к ней никаких чувств, только к молоку. Для Юсси Нина — некое неизбежное зло, увязанное с появлением молока. Завидев Нину, ежик понимает, что близится молоко, оживляется и радуется, а Нина толкует это как доказательство связи между ней и Юсси.
Эрленд Лу делит историю на восемь этапов, во время которых в сознании героини тоже происходит «переучет». Ее действия кажутся нелогичными, реплики — порой бессмысленными. Но когда она рыдает, сидя на тротуаре, впервые за весь день находится человек, который готов ее поддержать. Молодая женщина, поклонница Нины Фабер, казалось бы, может дать ей стимул «возродиться из пепла» после душевного опустошения. Ведь если есть хоть один человек, которому близка твоя поэзия, в творчестве появляется смысл.
Логика автора принципиально другая. Хотя Нина Фабер не гонится за славой, ей ужасно обидно за себя и свои стихи. Она растоптана и морально уничтожена безразличием критиков, которые, по сути, решают, быть или не быть книге. И они поставили на сборнике Нины крест. Как и Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», Эрленд Лу заостряет вопрос об ответственности рецензентов за свои слова. Оба — Латунский, незаслуженно забраковавший роман Мастера, и Кюльпе, разгромивший сборник «Босфор», — караются авторами за небрежное отношение к литературе.
Нина мучительно ищет способ избавиться от «литературно-критического узла», в котором она запуталась. Писательница уходит в себя, и даже физические страдания не могут перекрыть душевную боль. Ей досадно за то, что успех приходит к жалким, ничего из себя не представляющим «юным дарованиям», у которых есть влиятельные покровители. За то, что признание зависит от моды на стихотворную тематику. И если ты не вписываешься в общее направление, литературной премии тебе не видать.
Тактичная лирика Нины была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном, крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия, вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом доставалась другим.
Неужели после стольких неудач и разочарований героине остается только сдаться? В ее стихах часто повторяются фразы «Раньше у меня было больше. Теперь меньше». Меньше надежды, сил, веры в себя и в других людей. Лу играет с читателем, заставляя поверить в трагическую концовку и как будто обрывая предпоследнюю главу. Но пережив столкновение с трамваем, Нина трижды восклицает: «Я поэт!» Она жива и не остановится, она будет писать.
Метка: Азбука
Пьер Леметр. До свиданья там, наверху
- Пьер Леметр. До свиданья там, наверху / Пер. с французского Д. Мудролюбовой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 544 с.
Историко-психологический роман «До свиданья там, наверху» Пьера Леметра, получившего за него в 2013 году Гонкуровскую премию, наконец переведен на русский язык. Выжить на Первой мировой, длившейся четыре года, — огромное везение. Так почему герои романа, художник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим товарищам? Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их жизнями капитан Анри д’Олнэ-Прадель с легкостью зарабатывает миллионы на гробах.
НОЯБРЬ
19181 Все те, кто думал, что война скоро закончится, уже давно умерли. На войне, разумеется. Вот почему в октябре Альбер достаточно скептически воспринял слухи о Перемирии. Он доверял им не больше, чем распространявшимся вначале пропагандистским утверждениям о том, что пули бошей настолько мягкие, что, как перезрелые груши, расплющиваются о форму, заставляя французских солдат взвизгивать от смеха. За четыре года Альбер повидал целую кучу тех самых скончавшихся от смеха, получив немецкую пулю. Он, конечно, отдавал себе отчет, что отказ поверить в то, что Перемирие вот-вот наступит, сродни магической уловке: чем сильнее надеешься на мир, тем меньше веришь в перемены, которые его предвещают, — чтобы не сглазить. Однако волны вестей о грядущем Перемирии день ото дня становились все упорнее, и уже повсюду твердили, что войне, похоже, скоро конец. Даже печатались призывы — совсем уж маловероятные — демобилизовать старослужащих, которые уже несколько лет тянут лямку на фронте. Когда наконец перспектива Перемирия стала реальной, даже у самых закоренелых пессимистов забрезжила надежда выбраться живыми. В результате в наступление никто особенно не рвался. Говорили, что 163-му пехотному дивизиону предстоит попытаться переправиться через Маас. Кое-кто еще поговаривал о том, что надо расправиться с неприятелем, но в целом в низах, если смотреть со стороны Альбера и его товарищей, после победы союзников во Фландрии, освобождения Лилля, разгрома австрияков и капитуляции турок фанатизма сильно поубавилось, чего не скажешь об офицерах. Успешное наступление итальянских войск, взятие Турнэ англичанами, а Шатийона американцами… словом, было понятно, что лед тронулся. Многие войсковые части принялись намеренно тянуть с наступлением, четко обозначилось разделение на тех, кто, как Альбер, охотно дожидался бы конца войны, посиживая с сигаретой на вещмешке и строча письма домой, и тех, кто жаждал напоследок поквитаться с бошами. Демаркационная линия проходила аккурат между офицерами и всеми остальными. Ну и чего тут нового? — думал Альбер. Начальники жаждут оттяпать у противника как можно больше территории, чтобы за столом переговоров выступать с позиции силы. Еще чуть-чуть, и они станут уверять вас, что лишние тридцать метров могут и впрямь изменить ход конфликта и погибнуть здесь и сейчас куда полезнее, чем накануне.
К этой категории и принадлежал лейтенант д’Олнэ-Прадель. Говоря о нем, все отбрасывали имя, фамилию Олнэ, частицу «де», а заодно и дефис и называли его попросту Прадель, знали, что ему это как нож по сердцу. Действовало безотказно, так как он считал делом чести не выказывать недовольства. Классовый рефлекс. Альбер его недолюбливал. Может, потому, что Прадель был красив. Высокий, стройный, элегантный, густые, очень темные вьющиеся волосы, прямой нос, тонкие, изящно очерченные губы. И темно-синие глаза. На вкус Альбера, так отвратная рожа. При этом вечно сердитый вид. Есть такие нетерпеливые типы, что не признают умеренных скоростей: они либо мчатся во весь опор, либо тормозят, третьего не дано. Прадель наступал, выпятив плечо вперед, будто собирался раздвинуть мебель, он резко накидывался на собеседника и вдруг садился — его обычный ритм. Это было даже забавно: он со своей аристократической внешностью выглядел одновременно страшно цивилизованным и жутко брутальным — как и эта война. Может, как раз поэтому он отлично вписался в военный пейзаж. К тому же крепкий тип — гребля и теннис, точно.
Чего еще Альбер терпеть не мог в Праделе — так это волосы. Ими поросло все, даже фаланги пальцев, черные волоски торчали из воротничка рубашки, доходя до самого кадыка. В мирное время ему явно приходилось бриться несколько раз в день, чтобы выглядеть прилично. На некоторых женщин этот волосяной покров наверняка производил впечатление — самец, дикий, мужественный, испанистый. Даже на Сесиль ничего… Впрочем, и без Сесиль Альбер на дух не переносил лейтенанта Праделя. А главное, он ему не доверял. Потому что в душе Прадель был нападающим. Ну нравилось ему идти на штурм, в атаку и чтобы все ему покорялись.
С недавних пор лейтенант малость поутих. Видно, с приближением Перемирия его боевой дух резко сдал, подорвав патриотический порыв. Мысль о конце войны была способна доконать лейтенанта Праделя.
Он выказывал признаки нетерпения, что внушало беспокойство. Его раздражал недостаток рвения у подчиненных. Прадель расхаживал по траншее, сообщая солдатам фронтовые сводки, но, сколько бы он ни вкладывал воодушевления, вещая, что мы раздавим врага и прикончим его последней пулеметной очередью, в ответ раздавалось лишь невнятное брюзжание, люди покорно кивали, потупившись. За этим стоял не просто страх смерти, а страх, что придется умереть сейчас. Погибнуть последним, думал Альбер, все равно что погибнуть первым — глупее не придумаешь.Но именно это им и предстояло.
До сих пор в ожидании Перемирия все было относительно спокойно, и вдруг внезапно все пришло в движение. Сверху спустили приказ подобраться к бошам вплотную и поглядеть, что у них творится. Однако и без генеральских погон нетрудно было догадаться, что боши делают ровно то же, что и французы: ждут не дождутся конца войны. Так нет же, было велено убедиться в этом лично. Начиная с этого момента никто уже не мог восстановить точную последовательность событий.
Для выполнения рекогносцировки лейтенант Прадель отправил в разведку Луи Терье и Гастона Гризонье. Трудно сказать, почему именно их — первогодка и старика, может, чтобы соединить энергию и опыт. В любом случае и то и другое оказалось бесполезным, потому что жить посланным оставалось не больше получаса. По идее они не должны были забираться слишком далеко. Им предстояло углубиться на северо-восток метров на двести, в нескольких местах перекусить колючую проволоку, потом доползти до второго ряда проволочного заграждения, наскоро оглядеться и двигать назад, чтобы доложить, что все в порядке, тем более что заранее было ясно, что там и смотреть-то не на что. Терье и Гризонье, впрочем, не слишком опасались подобраться к неприятелю вплотную. Если они и обнаружат бошей, то, учитывая сложившуюся в последние дни ситуацию, те позволят им посмотреть и вернуться, — все ж какое-никакое развлечение. Только вот когда наши наблюдатели, согнувшись в три погибели, добрались до немецкой линии обороны, их подстрелили, как кроликов. Просвистели пули. Три. Затем воцарилась тишина; противник счел, что дело сделано. Наши было попытались разглядеть, что там стряслось, но так как Терье и Гризонье отклонились к северу, то нам не удалось засечь, где именно их подбили.
Солдаты вокруг Альбера затаили дыхание. Потом раздались крики. Сволочи! Чего еще ждать от этих бошей? грязные подонки! варвары! и все такое. К тому же погибли солдат-первогодок и «дед». Какая, в общем-то, разница, кто погиб, но всем казалось, что застрелили не просто двух французских солдат, а два символа. Короче, все пришли в ярость.
В следующие минуты артиллеристы из тыла с несвойственной им быстротой снарядами 75-го калибра жахнули по немецким оборонительным линиям (и откуда только узнали, что стряслось?).
И понеслось.
Немцы открыли ответный огонь. Французы без промедления подняли всех в атаку. Пора свести счеты с этими гадами! На календаре было 2 ноября
1918 года.Кто ж знал, что не пройдет и десяти дней, как война будет окончена.
К тому же напали-то в День поминовения усопших. Даже если не придавать значения символам, а все же…
Снова в полной сбруе, подумал Альбер, готовясь лезть на эшафот (это лестница, по которой выбирались из траншеи, — понятна перспектива?), чтобы без оглядки ринуться на вражеские ряды. Парни, выстроившись друг за другом, вытянувшись как струна, нервно сглатывали слюну. Альберт стоял третьим в цепочке, вслед за Берри и молодым Перикуром, тот обернулся, будто хотел удостовериться, что все точно здесь. Их взгляды встретились. Перикур улыбнулся Альберу — будто мальчишка, собравшийся отколоть номер. Альбер попытался выдавить улыбку, но не смог. Перикур вернулся в строй. В ожидании сигнала к атаке в воздухе физически повисло напряжение. Французы, оскорбленные поведением бошей, теперь сосредоточились на овладевшей ими ярости. Над головами снаряды с обеих сторон прочерчивали небо, удары сотрясали землю даже в траншеях.
Альбер поглядел вдаль, высунувшись из-за плеча Берри. Лейтенант Прадель, стоя на приступке, в бинокль изучал вражеские ряды. Альбер снова встал в строй. Если бы не шум, он мог бы поразмыслить о том, что именно привлекло его внимание, но пронзительный свист не прекращался, пресекаемый лишь разрывами снарядов, сотрясавшими тело с головы до ног. Попробуй-ка сосредоточиться в таких условиях!
В данный момент парни застыли в ожидании сигнала к атаке. Стало быть, самое время приглядеться к Альберу.
Альбер Майяр, стройный молодой человек, малость флегматичный, скромный. Он был не слишком разговорчив, у него лучше ладилось с цифрами. До войны он служил кассиром в отделении банка «Унион паризьен». Работа ему не слишком нравилась, но он не увольнялся из-за матери. Как-никак единственный сын, а мадам Майяр обожала любых начальников. Подумать только, Альбер — директор банка! Ясное дело, она немедленно преисполнилась энтузиазма: уж Альбер («с его-то умом») не преминет добраться до самого верха служебной лестницы. Слепое обожание власти она унаследовала от отца, тот был помощником заместителя главы департамента в министерстве почты, и тамошняя административная иерархия казалась ему олицетворением мироустройства. Мадам Майяр любила всех начальников без исключения. Без различия их качеств и происхождения. У нее имелись фотографии Клемансо, Морраса, Пуанкаре, Жореса, Жоффра, Бриана…
С тех пор как скончался ее супруг, возглавлявший бригаду облаченных в униформу музейных смотрителей Лувра, знаменитости доставляли ей незабываемые ощущения. Альбер, скажем прямо, не горел на работе, но не перечил матери — все же так с ней легче. И тем не менее он пытался строить собственные планы. Хотел уехать, мечтал о Тонкине, правда так, туманно. Во всяком случае, хотел оставить бухгалтерию и заняться чем-нибудь другим. Но он был не слишком скор, ему на все требовалось время. К тому же вскоре появилась Сесиль, он немедленно втюрился: глаза Сесиль, губы Сесиль, улыбка Сесиль и, само собой, грудь Сесиль, попка, о чем тут еще можно думать?!
В наши дни Альбер Майяр считался бы не слишком высоким — метр семьдесят три, — но в то время это было вполне. Девицы поглядывали на него. Особенно Сесиль. Ну в общем… Альбер долго пялился на Сесиль, и в результате — когда на тебя так смотрят, почти не сводя глаз, — она, естественно, заметила, что он существует, и в свою очередь посмотрела на него. Лицо у него было трогательное. Во время битвы на Сомме пуля оцарапала ему висок. Он здорово испугался, но в итоге остался лишь шрам в форме скобки, который оттянул глаз чуть в сторону — такой тип лица. Когда Альбер получил увольнение, очарованная Сесиль мечтательно погладила шрам кончиком указательного пальца, что вовсе не способствовало поднятию боевого духа. В детстве у Альбера было бледное, почти круглое личико, с тяжелыми веками, придававшими ему вид печального Пьеро. Мадам Майяр, решив, что сын такой бледный оттого, что у него малокровие, отказывала себе в еде, чтобы кормить его хорошей говядиной. Альбер много раз пытался объяснить ей, что она заблуждается, но мать не так-то легко было переубедить, она находила все новые примеры и доводы, страх как не хотела признать, что была не права, даже в письмах пережевывала то, что случилось давным-давно. Ужасно утомительно. Поди знай, не потому ли Альбер, как началась война, сразу записался в добровольцы. Узнав об этом, мадам Майяр разохалась, но она так привыкла работать на публику, что было невозможно определить, что за этим кроется — тревога за сына или желание привлечь к себе внимание. Она вопила, рвала на себе волосы, впрочем быстро взяла себя в руки. Так как о войне у нее были самые расхожие представления, она тотчас прикинула, что Альбер («с его-то умом») вскорости отличится и его повысят; вот он в первых рядах идет в атаку. Она уже вообразила, что он совершает геройский поступок, его немедленно производят в офицеры, он становится капитаном, бригадиром, а там и генералом, на войне такое случается сплошь и рядом. Альбер, не вникая в ее речи, собирал чемодан.
С Сесиль все вышло совсем по-другому. Война ее не пугала. Во-первых, это «патриотический долг» (Альберт был удивлен, он ни разу не слышал этих слов из ее уст), и потом, на самом деле нет никаких причин страшиться войны, ведь это почти что формальность. Все так говорят.
У Альбера-то закрадывались некоторые сомнения, но Сесиль была сродни мадам Майяр — у нее имелись твердые представления. Ее послушать, так война продлится недолго. И в это Альбер почти что готов был поверить; Сесиль, с ее руками, нежным ротиком и всем прочим, могла заявить Альберту все, что угодно. Кто не знает Сесиль, тот вряд ли поймет, думал Альбер. Для нас с вами эта Сесиль всего лишь хорошенькая девушка. Но для него — совсем другое дело. Каждая клеточка ее тела состояла из особых молекул, ее дыхание источало особенный аромат. Глаза у нее были голубые, конечно, вам от этих глазок ни жарко ни холодно, но для Альбера это была пропасть, бездна. Или хоть взять ее губы — на миг поставьте себя на место нашего Альбера. С этих губ он срывал такие горячие и нежные поцелуи, что у него сводило живот и что-то взрывалось внутри, он ощущал, как ее слюна перетекает в него, он упивался, и эта страсть была способна творить такие чудеса, что Сесиль была уже не просто Сесиль. Это было… Так что пусть она себе утверждает, что с войной справятся в два счета, Альберу так хотелось, чтобы в два счета Сесиль справилась и с ним…
Теперь-то он, ясное дело, смотрел на вещи совсем иначе. Он понимал, что война — всего лишь гигантская лотерея, где вместо шариков крутятся настоящие пули, и уцелеть в этой войне все четыре года и есть настоящее чудо.
А оказаться похороненным заживо, когда до конца войны рукой подать, — это уж точно вишенка на торте.
А между тем дело шло именно к этому. Погребен заживо. Альбертик.
Сам виноват, что не повезло, сказала бы его матушка.
Лейтенант Прадель повернулся к своему подразделению, его взгляд уперся в первую шеренгу, стоявшие справа и слева смотрели на него как на мессию. Лейтенант кивнул и набрал воздуха в грудь.
Несколько минут спустя Альбер, пригнувшись, бежал в кромешном аду, ныряя под артиллерийскими снарядами и свистящими пулями, изо всех сил сжимая винтовку, грузный шаг, голова втянута в плечи. Солдатские башмаки вязли в земле, так как в последние дни шел непрерывный дождь. Одни рядом с ним орали как сумасшедшие, чтобы захмелеть и расхрабриться. Другие держались так же, как он, — сосредоточенно, живот скрутило, в горле пересохло. Все бросились на врага, движимые последней вспышкой гнева, жаждой мести. Это, наверное, срикошетило объявленное Перемирие. Людям довелось пережить столько, что теперь, в самом конце войны, когда погибло множество товарищей, а столько врагов остались в живых, им, наоборот, хотелось устроить бойню и покончить со всем этим раз и навсегда. Они разили не глядя.
Тик-так-бумм!
- Алан Мур, Дэйв Гиббонс. Хранители. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 528 с.
Не надо быть книжным червем, чтобы понять, что владение самым полным в мире изданием графического романа «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса прерогатива не только коллекционеров и гиков. Килограммовый фолиант в суперобложке, для создания которой использована страница буклета Британского конвента любителей комиксов, внушает отверзающему его священный трепет. Вдохнув аромат типографской краски, вы переноситесь в стоящий на пороге ядерной катастрофы Нью-Йорк 1985 года.
Герои комикса, созданные на основе персонажей серии Charlton Comics, существуют в замкнутом кропотливо выстроенном мире, невероятно похожем на наш, но населенном суперлюдьми, которые находятся вне закона. Усилием воли изменяющий атомную структуру Доктор Манхэттен, обладающий совершенным умом Озимандия, наиболее человечный из всех Ночная Сова, ведущий двойную жизнь Роршах, агрессивный Комедиант и чувственная Шелковая Тень разобщены и не вынашивают совместных планов по борьбе с преступностью.
Несмотря на то, что супергероями они называются условно (лишь Доктор Манхэттен может продемонстрировать сверхъестественные способности), а сняв маски и костюмы, и вовсе перестают отличаться от простых американцев, каждый из персонажей ведет гонку на выживание со своими моральными принципами. По словам Алана Мура, «заурядные, лишенные телепатии, не подвергавшиеся мутациям и не слишком высокомерные гуманоиды» в какой-то момент стали казаться ему более ценными, чем «любители поворачивать вспять реки и потрясать планеты».
Героиня фильма «Люси» Люка Бессона утверждает, что в мире реально существует лишь одна единица измерения — время. Эту же мысль почти на тридцать лет раньше обозначили создатели комикса «Хранители». Иллюзия тикающих за спиной часов, после остановки которых произойдет неминуемый взрыв, не развеивается до конца романа.
«Будущего нет. Прошлого нет. Понимаешь? Время едино. Оно как драгоценный камень, только люди упорно смотрят на каждое ребро алмаза по очереди, хотя общая структура видна в каждой грани», — рассуждает Доктор Манхэттен — единственное существо на планете, способное в секунду изменить ход истории всего человечества. Например, уменьшить потери Соединенных штатов во Вьетнамской войне или помочь Америке получить преимущество перед СССР в гонке вооружений.
«Утром: дохлый пес в переулке, на раздавленном брюхе след покрышки. Этот город меня боится. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. Когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть… У них ведь был выбор, у них у всех. Они могли пойти по стопам хороших людей вроде моего отца или президента Трумэна… А теперь весь мир стоит на краю и смотрит вниз, в преисподнюю, все эти либералы, интеллектуалы и краснобаи… И вдруг оказывается, что им нечего сказать», — слова из дневника Роршаха, до последнего отстаивающего свою правду, станут эпитафией на смерть случайных американцев, оказавшихся не в том месте не в то время, эпитафией, зачитанной под композицию Тайлера Бэйтса The American Dream.
Формат комикса — это всегда набор иллюстраций, которые благодаря фантазии читателей превращаются в связную историю. От того, насколько она привлекательна, зависит, станут ли картинки подсказками в литературном квесте. Обращая внимание на задний план рисунков в «Хранителях», можно предугадать развитие событий, до того как Алан Мур и Дэйв Гиббонс раскроют карты.
Обложки и эскизы, постеры и афиши, пошаговая прорисовка отдельных сцен, личная переписка создателей комикса, их напутственные слова и сомнения, отрывок из сценария, постраничный комментарий, разъясняющий некоторые интертекстуальные моменты и песни Боба Дилана, с которого все началось, — этими артефактами наполнено абсолютное издание графического романа конца XX века.
Говорят, чтобы предотвратить нечто ужасное, иногда нужно совершить плохой поступок. Этому принципу, недолго думая, следуют все супергерои. Они-то точно знают, что время принять решение уже пошло.
Эрленд Лу. Переучет
- Эрленд Лу. Переучет. — СПб.: Азбука, 2014. — 160 с.
В издательстве «Азбука» выходит новый роман Эрленда Лу «Переучет». Поэтесса Нина Фабер, чья «тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента», была не замечена жюри главной в Скандинавии литературной премией. Уехав в Стамбул, Нина долго хранила молчание и лишь десятилетие спустя решилась выпустить новый сборник стихов «Босфор». Но разгромная и вопиюще несправедливая рецензия в университетской газете лишила поэтессу терпения: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам.
Бытовало мнение, что в семидесятых Нину Фабер обошли главной на всю Скандинавию литературной премией. Тактичная лирика Нины была
по-своему хороша, но вечно диссонировала с политической мелодией момента. Пока все вдохновлялись Мао, она писала о дремлике болотном,
крыльях стрекозы и превратностях погоды в городах, куда не ступала ее нога. Громкая премия,
вкупе с ее денежным наполнением, раз за разом
доставалась другим. Ее получали датчане, финны, шведы, неловко сказать, исландцы. Деньги и
признание не были бы Нине лишними. Другим,
видимо, тоже.В восьмидесятые у тонкой, ломкой лиричности
не было шанса тягаться с формализмом и экспериментом, не говоря уже о втором-третьем-пятом уровнях в мегатексте девяностых.Начало нового тысячелетия вернуло Нине
шанс, но ее вера в себя ослабела, а в ближайшем
кругу ее списали с поэтических счетов. Нине не
работалось, у нее все подряд не клеилось. Она собачилась с сыном, переругалась с друзьями и в целом была разочарована в жизни, баловавшей ее
не больше мачехи.Нина пустилась во все тяжкие. Старые приятели из Совета по делам литературы выбили ей
трехлетнюю творческую стипендию. Нина расплакалась от радости. И пропала с радаров на несколько лет. Поговаривали, что она пьет, вроде пишет,
кажется, завела роман в Стамбуле. Внезапно она
вернулась, сняла домик с тремя сотками в городском садовом товариществе (она полжизни значилась в листе ожидания) и помирилась с сыном
Людвигом. Умерила питейный раж и отпраздновала шестьдесят пять без шума и пыли.Четырнадцать месяцев подряд она писала, обложившись сотнями страниц черновиков и записей, привезенных из Стамбула. Сочинялось на
одном дыхании, совестно работой назвать. Нина
цвела. Сто семьдесят стихотворений представила она на суд прежнего своего редактора, найдя
его после двенадцатилетнего перерыва. Они ровесники, Като Волд был женат, но, естественно,
развелся, снова женился и опять развелся, он
обладатель завидной должности в престижном
издательстве, хотя в своем цеху далеко не главный гений. Было время, Като трепетал перед литературой, но те дни давно миновали. Зато человек Като приличный. Часто ходит в театр и на
лыжах и не рвется облапошить человека без повода. В основу стихотворного цикла, названного
Ниной «Босфор», легли ее впечатления от пейзажа за окном стамбульской квартиры. Вдохновляясь импрессионистами, она описывала один и
тот же вид из окна, город, мост, улочки, в зависимости от погоды и настроения пробуждающие час от часу и тем более день ото дня несхожие ассоциации.Като Волд прочел, и ему понравилось. Он не
ждал от Нины ничего, тем более такого уровня.
Вместе они отобрали восемьдесят стихотворений.
Книга откроет перед Ниной двери, закрытые десятки лет, и вернет ей уверенность в себе. Сообщит читателю, что Нина не только жива, но и пишет как никогда хорошо. Так, по крайней мере, показалось Като. Он не преминул даже сказать, что
и «Книжный клуб» не устоит перед таким соблазном, и хотя на деле тот устоял, восторгов и ожиданий насчет «Босфора» поначалу было много.Сама Нина книгой была довольна, но не разделяла уверенности Като и издательства в том,
что успех предрешен. Мир очень изменился. Авторитетные литературные критики, частью знакомые ей по альковным делам, вышли в тираж,
их заменили юные законодатели мод завтрашнего дня, а с ними как-то и не переспишь. Не то чтобы
Нина в постели добывала восторженные рецензии на свои книги, но она тепло вспоминала то
фантастическое время, когда граница между пишущей братией и критиками была приятно эфемерной и люди с обеих сторон, да что там, со всех
сторон составляли одну, как говорится, большую
семью. Практично и душевно было все устроено.
Но этот поезд ушел, давно и безвозвратно, и сентябрьским утром в начале второго десятилетия
нового века, в день выхода «Босфора» в свет, Нина Фабер начеку и на взводе, даром что и так была вся на нервах последние недели. Срывалась и
раздражалась по любому пустяку. Впрочем, последние лет десять это ее привычное состояние.
Она давно все про себя поняла. Когда-то ей были
открыты все пути. Она могла получить любую
специальность, стать медицинским работником
например. Эта мысль преследует Нину. Ее жизнь
могла быть иной. Доктор Фабер. Сам по себе титул неизбежно вызывал бы трепет и уважение
окружающих. Не говоря уже о наполнении пенсии в те же ее шестьдесят семь лет. Или стала бы
окружным судьей. Да мало ли прекрасных работ.
Хоть бы и совсем скромно — учителем. Жила
бы, как люди обычно живут, на обычные деньги,
плюс оплаченный отпуск и соцпакет. А так стала
дилетантом, считает Нина. Раньше не была, а теперь стала. Она полагала, что с возрастом и опытом придут основательность и спокойствие, но
все наоборот, сильнее становятся только стресс и
страх не оказаться в отличницах. Чувство, что она
обязана что-то доказать, стало гораздо сильнее.*
Себя Нина считает никчемной. Да, у нее бывали счастливые минуты, слова легко подчинялись
ей, и она сочиняла из них тексты, издавала, но
механика этого дела недоступна рациональному
объяснению, Нина ею не владеет. Кое-что ей в
жизни удалось, свидетельством тому книги, но
как она умудрилась написать их, неизвестно. Нина не приручила стихи, они рождаются сами,
когда вздумают, отчего не чреватое ни деньгами,
ни всеобщими восторгами стихоплетство легко
обесценивается, особенно в глазах самой Нины,
тем более в мрачный период, из коих ее жизнь по
преимуществу и состоит.Нина судит себя беспристрастно и видит, что
иногда преуспевает в незачетных активностях, но
все анкетно-статусное не дается ей, вся эта конкретная сторона жизни, практическая, межличностная. Нина всегда ненавидела вопрос, где она
работает. Люди в основном имеют нормальную
работу, некоторые служат даже экспертами. Услуги, предлагаемые ими, востребованы, за них платят серьезные деньги. Господи, не раз думала Нина, в самый тучный свой год я зарабатываю в несколько раз меньше простого электрика, а они
учатся совсем недолго и на всю жизнь обретают
хлебную профессию. Поменять провода, поставить розетки или распределительный щиток —
нужда в этом есть всегда. А ее стихи игнорируют
законы электромагнетизма, не способствуют росту ВВП, рассчитаны на фантазеров и мечтателей. В свое время у нее был круг читателей, но ее
ровесники, когда-то бредившие стихами, давно
стали как все и переключились на биографии политиков.*
Вначале Нина гордилась принадлежностью к
насту, к тонкой прослойке рисковых и бедовых
идеалистов, они выгрызают истинную сущность
жизни из каждого мгновения, данного остальным
лишь для забот о размере будущей пенсии, но уже
много лет как она презирает всех писак, включая
себя, а также все, что написала или пишет. Хотя
машинально то и дело мысленно ставит метку,
собирая впрок всякий сор для будущих стихов.
А они прут и прут, сами, почему так происходит,
неизвестно, но они рвутся наружу, как бы Нина
ни артачилась. Аж тошно. Хотя теперь-то уж что,
столько лет она таким манером жила, теперь только зубы стиснуть и дотерпеть. Еще два года, и она
получит пенсию. Да, минимальную, социальную,
а все же стабильность. Деньги каждый месяц. Если питаться разваренным горохом, а иногда разводить из него супчик с беконом, то можно жить
неделями на несколько сотенных, главное пить не
начать, но с этим она почти завязала. Отсутствие
планомерности и дотошности — вот что Нина
всерьез в себе презирает. С ранней молодости мечтала она, например, сдать на пилота легкого самолета, но упорно отодвигала мечту покружить над пустыней на потом, когда появятся лишние
деньги, отчего-то она всегда видела себя в кабине
кукурузника именно над барханами: ветер собрал
пески в причудливые зыбкие звезды, и Нина с
воздуха фотографирует их для престижного журнала. Из этого ничего не вышло, Нина сдалась, и
не столько из-за денег, хотя и это оставалось проблемой, но признав, что ей не хватит дотошности
и четкости. Она никогда не учтет всех нюансов,
что подлежат учету. К гадалке не ходи, не совсем
оптимальные погодные условия не удержат ее от
полета. И станет она новостью в разделе происшествий, типа: спортивный самолет потерпел аварию, врезавшись в тумане в горный склон или
выработав в ноль топливо где-то в северном Хельгеланне. В царстве поэзии интуиция изредка помогает ей, но в реальном мире дефицит четкости
означает смерть. Эта нехватка дотошности давно
породила в Нине презрение к себе, для избавления от него она с переменным успехом практиковала работы в саду, чтение, хождение босиком по
росе, временами алкоголь. В это сентябрьское утро страх и напряжение достигли апогея. Что, если
вновь фиаско? Сможет ли она жить дальше с тем
же ощущением приниженности? Она хочет опять
расправить плечи, вовремя оплачивать счета, а в
глубине души мечтает, конечно же, что взойдет ее звезда.
Элиф Шафак. Честь
- Элиф Шафак. Честь. — СПб.: Азбука, 2014.
В начале октября в «Азбуке» впервые на русском языке выходит книга турецкой писательницы Элиф Шафак «Честь». История трех поколений одной семьи, находящейся в тисках многовековых традиций и понятий о долге и воздаянии за проступки, вызвала множество дискуссий на родине автора. Элиф Шафак описывает мир, в котором честь ценится гораздо выше, чем человеческая жизнь. Закон чести вынуждает шестнадцатилетнего подростка вести себя «как мужчина», что в результате приводит его к абсурдному убийству, а нескольких женщин — к смерти.
Сейчас, сидя в больничном коридоре, Пимби по-детски откровенно разглядывала ожидавших своей очереди мужчин и женщин. Кто-то курил, кто-то жевал принесенные из дома лепешки, некоторые потирали больные места и стонали от боли. Воздух насквозь пропах потом, дезинфекцией и микстурой от кашля.
Чем больше Пимби наблюдала за больными, тем сильнее она восхищалась доктором, с которым предстояло встретиться. Человек, способный излечить от всех этих тяжких недугов, наверняка не похож на других людей, решила она. Может быть, он пророк. Или маг. Не имеющий возраста волшебник, пальцы которого способны творить чудеса. Пимби изнемогала от любопытства и, когда их очередь наконец подошла, вслед за отцом с готовностью юркнула в дверь кабинета.
Внутри все оказалось белым. Но не таким белым, как мыльная пена на поверхности воды, когда они стирали одежду. Не таким белым, как снег, который покрывает землю зимними ночами. Не таким белым, как сыворотка, которую смешивают с черемшой, чтобы приготовить сыр. То был суровый, неестественный белый цвет, которого Пимби никогда раньше не видела. Такой холодный, что она задрожала. Стулья, стены, плитка на полу, смотровой стол и даже склянки и скальпели — все сверкало мертвенной белизной. Пимби прежде и в голову не приходило, что белый цвет может быть таким гнетущим, таким тягостным, таким пугающим.
Еще сильнее ее удивило, что доктор оказался женщиной, но женщиной, совершенно не похожей на ее мать, на ее теток и соседок. Точно так же, как кабинет поражал отсутствием цвета, доктор поражала отсутствием каких-либо привычных Пимби женских черт. Под белым халатом докторши она заметила серую юбку до колен, а на ногах тонкие мягкие шерстяные чулки и кожаные туфли. Квадратные очки делали женщину похожей на сердитую сову. Пимби никогда не видела сов, тем более сердитых, но была уверена, что они должны выглядеть именно так. Докторша разительно отличалась от женщин, которые работают в полях от рассвета до заката, покрываются морщинами, потому что им часто приходится щуриться на солнце, и рожают детей до тех пор, пока не произведут на свет достаточное число сыновей. Женщина, сидевшая перед Пимби, привыкла, чтобы все люди, включая мужчин, ловили каждое ее слово. Даже Берзо в ее присутствии поспешил снять шапку и смущенно опустил голову.
Доктор едва удостоила отца и дочь недовольным взглядом. Казалось, их присутствие в кабинете утомляет и раздражает ее. Ясно было, что в конце трудного дня ей вовсе не хочется возиться с такими жалкими людьми, как эти двое. Она не снизошла до разговора с ними, предоставив сестре задавать необходимые вопросы: «Какой породы собака? Не текла ли пена у нее из пасти? Не пугалась ли она при виде воды? Укусила ли она еще кого-нибудь? Осмотрели ли ее после случившегося?» Сестра говорила очень быстро, словно слышала тиканье часов, напоминавших, что время на исходе. Про себя Пимби порадовалась, что мать не поехала с ними. Нази не смогла бы поддержать разговор в таком темпе и наверняка еще больше встревожилась бы и поняла все неправильно.
Доктор выписала рецепт, а сестра сделала девочке укол в живот, отчего та заревела во все горло. Выйдя в коридор, Пимби все еще плакала, а любопытство, с которым на нее смотрели незнакомые люди, расстроило ее еще сильнее. Отец, который, выйдя из кабинета, поднял голову, распрямил плечи и снова стал прежним Берзо, постарался утешить дочку и шепнул ей на ухо, что она молодец и, если будет вести себя как хорошая девочка, он поведет ее в кино.
Слезы моментально высохли, и глаза Пимби радостно заблестели. Слово «кино» напоминало конфету в обертке: не знаешь, что скрывается внутри, но не сомневаешься, что это нечто восхитительное.
* * * В городе было два зрительных зала. Один использовался в основном для выступлений заезжих политиков и редко предоставлял свою сцену для местных актеров и музыкантов. Перед выборами и после них здесь собиралась толпа мужчин, и ораторы произносили зажигательные речи, наполненные обещаниями и обличениями, которые носились в воздухе подобно сердитым пчелам.
Второй зал был значительно скромнее размерами, но пользовался не меньшей популярностью. Его владелец предпочитал кино политическим дебатам и выкладывал контрабандистам немалые деньги за новые фильмы, которые ему доставляли вместе с чаем, табаком и прочими товарами. Благодаря этому жители Урфы имели возможность посмотреть картины самых разных жанров — чуть ли не все вестерны Джона Уэйна, «Человека из Аламо», «Юлия Цезаря», а также «Золотую лихорадку» и прочие комедии, главным героем которых был маленький человечек с черными усиками.
В тот день показывали какой-то черно-белый турецкий фильм, который Пимби от первого до последнего кадра смотрела с открытым ртом. Главная героиня, очень красивая, но бедная девушка, влюбилась в богатого юношу, избалованного и эгоистичного. Но он изменился под действием волшебной силы любви. Все вокруг, начиная с родителей юноши, пытались помешать влюбленным и разлучить их, но они продолжали тайно встречаться под ивой на берегу реки. Во время свиданий они держались за руки и пели песни, исполненные печали.
Пимби понравилось в кино абсолютно все — нарядное фойе, тяжелый занавес, глухая, предвещающая чудо темнота в зале перед началом сеанса. Ей не терпелось рассказать Джамиле об этом новом чуде. В автобусе по пути домой она снова и снова пела песню из фильма:
Твое имя начертано в книге моей
судьбы, Твоя любовь течет в моих венах.
Если ты улыбнешься другому,
Я убью себя или умру от печали.Распевая, Пимби покачивала бедрами и взмахивала руками. Все пассажиры хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Когда она наконец замолчала — скорее от усталости, чем от неожиданного стеснения, — Берзо расхохотался и смеялся так долго, что на глазах выступили слезы.
— Я и не знал, что у меня такая талантливая дочка, — сказал он, и в голосе его послышались нотки гордости.
Пимби уткнулась лицом в грудь отца, вдыхая запах лавандового масла, которым он смазывал усы. Тогда она даже не подозревала, что это одно из самых счастливых мгновений в ее жизни.
* * * Вернувшись домой, они застали Джамилю в ужасном состоянии: глаза распухли, лицо покрыто красными пятнами. Весь день она простояла у окна, покусывая нижнюю губу и теребя в руках прядь волос. Потом, внезапно и без всякой причины, залилась слезами. Несмотря на все попытки матери и сестер успокоить ее, она продолжала рыдать.
— А когда Джамиля начала плакать? — спросила Пимби.
— Да где-то в полдень, — пожала плечами Нази. — Почему ты спрашиваешь?
Пимби не ответила. Она узнала то, что хотела узнать. Когда ей сделали укол и она заплакала, ее сестра-двойняшка, отделенная от нее расстоянием в десятки миль, заплакала тоже. Люди говорят, что у близнецов одна душа. Но, похоже, общего у них даже больше. Между их телами тоже существует связь. Судьба и Достаточно. Если одна из них закрывает глаза, другая перестает видеть. Если одна из них вдруг поранится, у другой течет кровь. Если одной из них снится кошмар, сердце другой бешено колотится.
В тот же вечер Пимби продемонстрировала Джамиле танец, который видела в кино. По очереди изображая героиню, они целовались и обнимались, как влюбленная парочка в фильме, и при этом беспрестанно хихикали.
— Что это вы расшумелись?
Голос Нази звучал недовольно и резко. Она перебирала рис, рассыпанный на большом плоском блюде.
Глаза Пимби расширились от обиды.
— Мы просто танцуем.
— С чего это вы решили заняться танцами? —
буркнула Нази. — Вы что, намерены стать шлюхами?Пимби не знала, кто такие шлюхи, но не осмелилась спросить. Горячая волна обиды захлестнула ее с головой. Почему песня, которая так понравилась пассажирам автобуса, вызвала у матери лишь раздражение? Почему чужие люди оказались более доброжелательными, чем самый близкий человек на свете? Пока она размышляла над этими вопросами, Джамиля сделала шаг вперед, виновато потупилась и пробормотала:
— Прости, мама. Мы больше не будем.
Пимби, ощущая, что ее предали, метнула на сестру возмущенный взгляд.
— Если я вас и останавливаю, то для вашего же блага, — проворчала Нази. — Тот, кто сегодня слишком много смеется, завтра будет плакать. За все приходится платить — помните об этом.
— Не понимаю, почему мы не можем смеяться сегодня, завтра и всегда, — заявила Пимби.
Теперь настал черед Джамили хмуриться. Дерзость, проявленная сестрой, не только изумила ее, но и подставила под удар. Джамиля затаила дыхание, ожидая дальнейшего развития событий. Сейчас мать возьмет в руки скалку. Когда одна из девочек совершала какую-то провинность, Нази лупила скалкой обеих. По лицу она никогда не била, памятуя о том, что красота заменяет девушке приданое, но спинам и задницам доставалось изрядно. Девочек всегда удивляло, как одна и та же скалка способна причинять такую боль и помогать в приготовлении аппетитных пирожков, которые они обожали.
Но в тот вечер Нази изменила своему обыкновению и не стала наказывать дочерей. Вместо этого она сморщила нос, покачала головой и уставилась в пространство, словно хотела оказаться где-нибудь далеко отсюда. Когда она заговорила вновь, голос звучал спокойно и ровно:
— Скромность — это щит, которым женщина может оградить себя. Зарубите на своих носах: если вы утратите скромность, цена вам будет меньше истертого куруса1. Этот мир жесток и безжалостен.
Мысленно Пимби подкинула монету в воздух и поймала в ладонь. У монеты всего две стороны. Ты можешь победить или потерпеть поражение — другого выбора нет. Можешь стяжать почет или позор и, если окажешься в проигрыше, не рассчитывать на сочувствие и сострадание.
Дело в том, продолжала Нази, что женщин Создатель скроил из тончайшего белого батиста, а мужчин из плотной темной шерсти. Одним предназначено господствовать над другими — такова воля Аллаха. А главная обязанность всякого человека — безропотно покоряться Его воле. Дело в том, что на черном пятна не видны, а на белом даже самое маленькое, слабое пятнышко бросается в глаза. Именно поэтому, стоит женщине лишь немного согрешить, это моментально становится всеобщим достоянием. От такой женщины все отворачиваются, ее выбрасывают из жизни, словно шелуху от зерна. Если девушка утратит девственность до брака, пусть даже подарив ее любимому человеку, она лишится будущего. Что касается мужчины, на него не упадет даже тень порицания.
Таков был мир, в котором родились Розовая Судьба и Достаточно Красивая. В этом мире слово «честь» было не просто словом, но и именем. Но это имя давали только мальчикам. Только мужчины имели честь, будь они стариками, мужами в расцвете лет или же юнцами, на губах которых еще не обсохло материнское молоко. У женщин чести не было. Честь им заменял стыд. Но носить такое имя, как Стыд, никому не пожелаешь.
Пимби слушала мать и представляла ослепительно-белый кабинет доктора. Неприятное чувство, которое она испытала там, овладело ею с новой силой. Есть столько всяких цветов, помимо черного и белого, думала она: фисташково-зеленый, орехово-коричневый, голубой, как цветы барвинка. А помимо батиста и шерсти, есть бархат, шелк, парча и еще много-много красивых тканей. Почему же она должна пренебречь всем этим богатством и жить в двухцветном мире, скучном и плоском, как блюдо, на котором рассыпан рис.
По иронии судьбы, так часто проявлявшейся в жизни Пимби, наставления, раздражавшие ее в устах матери, она много лет спустя слово в слово повторяла своей собственной дочери Эсме в Англии.
1 Мелкая турецкая монета.
Ю Несбё. Сын
- Ю Несбё. Сын / Пер. с норв. Екатерины Лавринайтис.— СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.— 480 с.
В издательстве «Азбука» в конце сентября выходит перевод новой книги норвежского писателя Ю Несбё. Автор криминальных бестселлеров о сыщике Харри Холе на этот раз выбрал главным героем наркомана-заключенного, который в обмен на героин взял на себя убийства и другие преступления, которых он не совершал. Через много лет в тюремном заключении он узнает неизвестные сведения о своем покойном отце и теперь невзирая ни на что должен выйти на свободу.
ГЛАВА 7
— Я знал твоего отца, — сказал Йоханнес Халден.
На улице шел дождь. Весь день было тепло и солнечно, но высоко в небе собрались тучи и пролились на город легким летним дождем. Он помнил, как это было. Как маленькие капли мгновенно становились теплыми, касаясь нагретой солнцем кожи. Как они поднимали с асфальта запах пыли. Помнил запах цветов, травы и листвы, который сводил его с ума, вызывал тошноту и возбуждение. Молодость, эх, молодость.
— Я был его стукачом, — сказал Йоханнес.
Сонни сидел в темноте у дальней стены, лицо его невозможно было рассмотреть. В распоряжении Йоханнеса имелось не так много времени: скоро двери камер запрут на ночь.
Он вздохнул, потому что сейчас ему предстояло самое трудное — сказать то, что он и боялся и хотел сказать, произнести предложение, слова из которого так долго сидели у него в груди, что он опасался, как бы не приросли к ней навечно.
— Это неправда, Сонни. Он не застрелился.
Вот. Вот оно и произнесено. Тишина.
— Ты не спишь, Сонни?
Он увидел два белых мигающих глаза.
— Я знаю, что пришлось пережить тебе и твоей матери. Найти тело отца. Прочитать записку, в которой он написал, что он — крот в полиции, помогавший торговцам героином и рабами. Что он информировал их о рейдах, уликах, подозреваемых…
Йоханнес увидел, как тело Сонни начало раскачиваться в полумраке.
— Но все было наоборот, Сонни. Твой отец напал на след крота. Я подслушал, как Нестор по телефону говорил своему боссу, что им надо избавиться от полицейского по фамилии Лофтхус, прежде чем он им испортит все дело. Я рассказал твоему отцу, что он в опасности, что полиция должна что-то предпринять. Но твой отец ответил, что не может втягивать других, что ему придется работать над этим делом в одиночку, ведь некоторые полицейские находятся на содержании у Нестора. Он заставил меня поклясться, что я буду молчать и никогда не скажу об этом ни одной живой душе. И до сих пор я держал это обещание.
Понял ли он? Может, и нет, но важнее не то, что парень услышал его, не последствия его слов, а то, что он выговорился. Рассказал. Важным было само действие: он оставил свою тайну там, где ей было место.
— В те выходные твой отец был один, вы с мамой поехали за город на соревнования по борьбе. Он знал, что они придут, и окопался в вашем желтом доме в Тосене.
Йоханнесу показалось, он что-то заметил в темноте. Изменение пульса и дыхания.
— Однако Нестору и его людям все-таки удалось проникнуть внутрь. Они не хотели шумихи вокруг убийства полицейского, поэтому заставили твоего отца написать ту записку о самоубийстве. — Йоханнес сглотнул. — Взамен они пообещали не трогать тебя и твою мать. Потом они застрелили его в упор из его собственного пистолета.
Йоханнес закрыл глаза. Стояла полная тишина, но ему казалось, что прямо ему в ухо кто-то кричит, а грудь и горло сдавило. В последний раз он испытывал такое много-много лет назад. Господи, когда же он плакал? Когда у него родилась дочь? Но сейчас он не мог остановиться, ему надо было завершить начатое.
— Ты, наверное, гадаешь, как же Нестор попал в дом.
Йоханнес задержал дыхание. Ему почудилось, что и парень перестал втягивать в себя воздух: он слышал только биение крови в ушах.
— Кто-то видел, как я разговаривал с твоим отцом, а Нестор считал, что полиции слишком повезло с поимкой сразу двух его машин за последнее время. Я отпирался, уверял, что просто немного знаком с твоим отцом и что он пытался выудить у меня сведения. Нестор сказал, что, если твой отец считает меня потенциальным стукачом, я смогу подойти к двери его дома и заставить его открыть мне. Он сказал, что так я докажу свою преданность…
Другой человек снова начал дышать. Быстро. Тяжело.
— Твой отец открыл. Своему стукачу ведь доверяешь, правда?
Он ощутил движение, но ничего не слышал и не видел до тех пор, пока не получил удар. И, лежа на полу, он чувствовал металлический привкус крови от скользнувшего в глотку зуба, слышал истошный вопль парня, звук открывающейся двери, крик надзирателя, звук ударов, звон наручников. Он думал о том, насколько быстрым, точным и сильным был удар этого торчка. И еще он думал о прощении. О прощении, которого он не получил. И о времени. О бегущих секундах. О приближающейся ночи.
ГЛАВА 8
Больше всего в «порше-кайене» Арильду Франку нравился звук. Или, вернее, отсутствие звука. Двигатель V8 емкостью
4,8 литра издавал такой же звук, как швейная машинка матери во времена его детства, когда они жили в Станге, недалеко от города Хамар. И тот звук тоже был звуком тишины. Звуком молчания и сосредоточенности.Дверь со стороны пассажирского сиденья открылась, и в салон ввалился Эйнар Харнес. Франк не знал, где молодые ослоские адвокаты покупают свои костюмы, но явно не в тех магазинах, куда ходил он сам. Кроме того, он никогда не понимал, зачем нужны светлые костюмы. Костюм должен быть темным, и стоить он должен меньше пяти тысяч крон. Разницу в стоимости костюма Харнеса и его собственного лучше было бы положить на сберегательный счет, подумав о будущих поколениях, которым придется обеспечивать свои семьи и дальше строить страну. Или о ранней и приятной пенсии. Или о «порше-кайене».
— Слышал, его перевели в изолятор, — произнес Харнес, когда автомобиль начал движение от края тротуара перед входом в адвокатскую контору «Харнес и Фаллбаккен».
— Он избил другого заключенного, — ответил Франк.
Харнес поднял ухоженную бровь:
— Ганди подрался?
— Невозможно знать наверняка, что сделает наркоман. Но он четыре дня не принимал наркотиков, поэтому, думаю, будет очень сговорчивым.
— Да, я слышал, дело касалось его семьи.
— Что именно вы слышали? — Франк просигналил медленной «королле».
— Только то, что известно всем. Есть что-то еще?
— Нет.
Арильд Франк втиснулся перед кабриолетом «мерседес». Вчера он заходил в изолятор. В камере только что убрали рвоту. Парень сидел в углу, скрючившись под шерстяным одеялом.
Франк никогда не был знаком с Абом Лофтхусом, но знал, что сын пошел по стопам отца. Как и отец, он занимался борьбой и стал настолько многообещающим спортсменом, что газета «Афтенпостен» прочила ему карьеру в национальной сборной. А теперь он сидит в вонючей камере, дрожит как осиновый листок и всхлипывает, как девчонка. В отходняке все мы одинаковые.
Они остановились у будки охраны, Эйнар Харнес предъявил удостоверение, и шлагбаум открылся. «Поршекайен» припарковался на своем обычном месте. Франк и Харнес прошли через главный вход, где Харнеса зарегистрировали. Обычно Франк проводил Харнеса через дверь раздевалки, чтобы избежать регистрации. Он не хотел давать повод для пересудов о том, почему адвокат с репутацией Харнеса так часто посещает Гостюрьму.
Допросы заключенных обычно проводились в Полицейском управлении, но на этот раз Франк попросил разрешения сделать это в тюрьме, поскольку заключенный находился в изоляторе.
Одну из свободных камер убрали и приготовили для допроса. У стола сидели полицейский и полицейская в штатском. Франк уже видел их раньше, но не помнил фамилий. Человек, находившийся по другую сторону стола, был настолько бледным, что почти сливался с белоснежной стеной камеры. Голова его свесилась на грудь, а руки вцепились в краешек стола, как будто комната кренилась.
— Ну что, Сонни, — оживленно сказал Харнес, опуская руку на плечо парня. — Ты готов?
Сотрудница полиции кашлянула:
— Кажется, он уже закончил.
Харнес едва заметно улыбнулся ей и поднял бровь:
— Что вы имеете в виду? Вы ведь не начали допрос без присутствия адвоката?
— Он сказал, что ему необязательно дожидаться вас, —
сказал полицейский.Франк посмотрел на заключенного и почувствовал неладное.
— Значит, он уже сознался? — вздохнул Харнес, открыл портфель и вынул несколько скрепленных листов бумаги. — Если хотите взять письменные показания, то…
— Все наоборот, — сказала сотрудница полиции. — Он только что сообщил, что не имеет никакого отношения к убийству.
В камере стало так тихо, что Франк услышал пение птиц на улице.
— Что он сказал? — Бровь Харнеса поднялась почти до кромки волос.
Франк не знал, что его злило больше: выщипанные брови адвоката или замедленная реакция на надвигавшуюся катастрофу.
— А еще что-нибудь он сказал? — спросил Франк.
Полицейская посмотрела на помощника начальника тюрьмы, потом на адвоката.
— Все в порядке, — произнес Харнес. — Я хотел, чтобы он присутствовал при допросе, на случай если вам потребуются сведения об отпуске.
— Да, я лично выписал ему отпуск, — сказал Франк. — В то время ничто не предвещало, что он закончится так трагически.
— Но мы не знаем, насколько трагически он закончился, — возразила сотрудница полиции. — Признания у нас нет.
— Однако улики… — выпалил Арильд Франк и так же резко остановился.
— Что вам известно об уликах? — спросил полицейский.
— Я просто предположил, что они у вас есть, — ответил Франк.
— Поскольку он является подозреваемым по этому делу. Разве не так, господин…
— Старший инспектор Хенрик Вестад, — ответил полицейский.
— В первый раз Лофтхуса допрашивал тоже я. Он изменил показания. Он считает, что у него даже имеется алиби на момент убийства. Свидетель.
— У него есть свидетель, — подтвердил Харнес и посмотрел на своего молчаливого клиента. — Надзиратель, который сопровождал его в отпуске. И этот свидетель утверждает, что Лофтхус исчез в…
— Другой свидетель, — перебил его Вестад.
— И кто же? — фыркнул Франк.
— Он говорит, что это человек по имени Лейф.
— Лейф, а как дальше?
Все посмотрели на длинноволосого парня, который не слушал их и не смотрел на них.
— Этого он не знает, — сказал Вестад. — Он говорит, что они всего лишь поболтали несколько секунд на придорожной стоянке у дороги. Лофтхус утверждает, что свидетель был за рулем синей «вольво» с наклейкой «I love Drammen»1. Ему показалось, что свидетель болен, вероятно, что-то с сердцем.
Франк рассмеялся лающим смехом.
— Я думаю, — произнес Эйнар Харнес с деланым спокойствием и убрал бумаги обратно в папку, — что на этом мы остановимся. Я должен проконсультироваться со своим клиентом.
Франк часто смеялся, когда был зол. И сейчас ярость кипела в его голове, как вода в чайнике, и ему приходилось прикладывать большие усилия, чтобы вновь не расхохотаться. Он уставился на так называемого клиента. Парень, наверное, сошел с ума. Сначала ударил старика Халдена, теперь это. Видимо, героин все-таки прогрыз дыру в его мозгу. Но он не развалит это дело: слишком многое стояло на кону. Франк сделал глубокий вдох и услышал воображаемый щелчок, какой раздается при отключении чайника. Надо держать голову в холоде, здесь просто потребуется немного времени. Отходняку надо дать немного времени.
1 Я люблю Драммен (англ.).
Изабель Альенде. Остров в глубинах моря
- Изабель Альенде. Остров в глубинах моря / Пер. с испанского Елены Горбовой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 447 с.
В издательстве «Иностранка» впервые на русском языке выходит исторический роман «Остров в глубинах моря» испанской писательницы Изабель Альенде. Это история о судьбе красавицы-мулатки по имени Зарите. У нее глаза цвета меда, смуглая кожа и копна вьющихся волос. Однако Зарите — рабыня и дочь рабов с острова Сан-Доминго, самой богатой колонии мира.
Показательная казнь
Пот и москиты, кваканье лягушек и щелканье хлыста, доводящие до полного изнеможения дни и наполненные страхом ночи — участь целого каравана рабов, надсмотрщиков, наемных солдат и четы хозяев — Тулуза и Эухении Вальморен. Три долгих дня займет у них этот путь от плантации до Ле-Капа, все еще главного порта колонии, хотя уже и не столицы, перенесенной в Порт- о-Пренс в надежде, что этот перенос поможет держать под контролем страну. Мера эта не оправдала возложенных на нее надежд: колонисты как могли обходили законы, пираты разгуливали по побережью и тысячи рабов пускались в бега, устремляясь к горам. Беглецы, с каждым разом все более многочисленные и отчаянные, нападали на плантации и путников с яростью, которой было на чем взрасти. Капитан Этьен Реле, «сторожевой пес Сан-Доминго», захватил пятерых вожаков, что было делом совсем не легким, ведь беглые рабы хорошо знали местность, передвигались со скоростью ветра и скрывались среди горных вершин, недоступных для лошадей. Вооруженные только ножами, мачете и сучьями, они не решались вступать в бой с солдатами в чистом поле; война была партизанской — с засадами, неожиданными атаками и отступлениями, ночными набегами, грабежами, пожарами и резней, истощавшей регулярные силы жандармского корпуса Маршоссе и армии. Рабы с плантаций были на стороне беглых: одни — потому что надеялись присоединиться к ним, другие — потому что их боялись. Реле никогда не упускал из виду преимущество беглых, отчаянных людей, защищавших свою жизнь и свободу, перед его солдатами, которые всего лишь выполняли приказы. Капитан был человеком из стали — сухим, худощавым, сильным — одни мускулы и нервы. Он был упорный и храбрый, с холодными глазами и глубокими морщинами на постоянно подставленном солнцу и ветру лице, немногословный и надежный, нетерпеливый и суровый. Никто не чувствовал себя в его присутствии комфортно — ни большие белые, чьи интересы он защищал, ни офранцуженные, составлявшие в его подразделении большинство. Гражданские уважали его, поскольку он способствовал поддержанию порядка, а солдаты — потому что он не требовал от них ничего, чего не мог бы сделать сам. Далеко не всегда Реле сразу удавалось напасть в горах на след мятежников. Много раз он пускался по ложному следу, но никогда не сомневался в том, что достигнет цели. Информацию он добывал такими жестокими способами, которые в обычное время в приличном обществе не были бы упомянуты, но со времен Макандаля даже дамы становились свирепы, если дело касалось восставших рабов. Те самые дамы, что раньше падали в обморок при виде скорпиона или от запаха дерьма, теперь не пропускали ни одной казни, а потом обсуждали их за столом в окружении стаканов с прохладительными напитками и тарелочек с пирожными.
Ле-Кап, с его красночерепичными крышами, многолюдными улочками, рынками и портом, в котором на якоре неизменно стояло несколько дюжин судов, что должны были отправиться в Европу с драгоценным грузом сахара, табака, индиго и кофе, — этот город все еще оставался Парижем Антильских островов. Так называли его в шутку французские колонисты, ведь все они объединялись одним стремлением — сколотить быстрое состояние и возвратиться в Париж, где можно будет забыть ненависть, витавшую над островом, словно комариные тучи и апрельское зловоние. Некоторые оставляли плантации в руках управляющих или администраторов, распоряжавшихся там по своему разумению, разворовывая все подряд и выжимая из рабов все соки до последней капли — до смертельного исхода, но этот убыток был заранее учтен и являлся ценой возвращения к цивилизации. Однако с Тулузом Вальмореном, который уже несколько лет провел на этом острове, словно заживо похороненный в поместье Сен-Лазар, все выходило совсем не так.
Главный надсмотрщик, Проспер Камбрей, закусил удила своих амбиций и действовал осторожно, поскольку хозяин его оказался недоверчив и не был легкой добычей, как Камбрей полагал поначалу. Но он все же надеялся, что долго Вальморен в колонии не протянет: кишка у него тонка и кровь жидковата — не то, что требуется на плантации. К тому же он взвалил на себя обузу — эту испанку, дамочку с хилыми нервами, которая спала и видела, как бы отсюда сбежать.
В сухие сезоны добраться до Ле-Капа можно за день — верхом на добрых лошадках, но Тулуз Вальморен путешествовал с женой в портшезе, а рабы шли пешком. Он оставил на плантации женщин, детей и тех мужчин, которые уже утратили волю и в показательном наказании не нуждались. Камбрей отобрал самых молодых — тех, у которых еще оставалось хоть какое-то представление о свободе. Как бы командоры ни истязали людей, преступить пределы человеческих возможностей они не могли. Дорога то и дело пропадала, к тому же стоял сезон дождей. Только собачий инстинкт и верный глаз Проспера Камбрея, креола, рожденного в колонии и прекрасно знакомого с местностью, не давали им заблудиться в лесной глуши, где чувства обманывают и можно бесконечно ходить по кругу. Все были напуганы: Вальморен опасался нападения беглых рабов или мятежа своих — не раз уже негры, почуяв возможность побега, с голыми руками шли против огнестрельного оружия, свято веря, что лоа защитят их от пули; рабы боялись хлыстов и злых духов леса, а Эухения — своих собственных видений. Камбрей испытывал трепет только перед живыми мертвецами — зомби, и этот страх имел отношение не к встрече с ними, ведь зомби встречаются редко, к тому же они стеснительны, а к перспективе самому стать одним из них. Зомби становится рабом колдуна, бокора, и даже смерть не сможет освободить его, ведь он и так уже мертв.
Проспер Камбрей не раз и не два пересекал этот район, гоняясь за беглыми рабами вместе с другими жандармами Маршоссе. Он умел читать книгу живой природы, замечая невидимые для других глаз следы, мог идти по следу, как лучшая из гончих, чуя запах страха и пота жертвы на расстоянии нескольких часов, мог по-волчьи видеть в темноте, мог догадаться о бунте и покончить с ним еще до того, как этот бунт успевал зародиться. Хвалился он тем, что при нем очень и очень немногим невольникам удалось сбежать из Сен-Лазара, а секрет был в методе: следует убить в рабе душу и сломать волю. Только страх и усталость были способны победить стремление к свободе. Работать, работать, работать до последнего издыхания, а оно не слишком долго заставляло себя ждать, ведь до старости не доживал никто: как правило, всего три-четыре года на плантации, никогда — свыше шести-семи. «Не перегибай палку с наказаниями, Камбрей, ты истощаешь моих людей», — не раз приказывал ему Вальморен, которого выворачивало от одного вида гноящихся язв и ампутированных конечностей, а во имя работы практиковалось и то и другое. Но хозяин никогда не возражал Камбрею в присутствии рабов: слово главного управителя не подлежит обжалованию, иначе дисциплины не будет. А ее Вальморен жаждал в первую очередь — борьба с неграми вызывала в нем отвращение. Он предпочитал, чтобы палачом был Камбрей, а сам он оставался бы в роли милостивого хозяина, — роли, которая как нельзя лучше соответствовала гуманистическим идеалам его юности. По мнению Камбрея, более рентабельно было замещать выбывших рабов новыми, чем беречь их: как только рабы окупали затраченные на них деньги, следовало загнать их на работе до смерти, а потом купить других, моложе и сильнее. И даже если кто-то раньше и имел сомнения в необходимости жесткой руки, то история Макандаля, негра-колдуна, эти сомнения полностью развеяла.
С 1751 по 1757 год, когда Макандаль сеял смерть среди белого населения колонии, Тулуз Вальморен был еще балованным ребенком, жил в небольшом шале под Парижем, собственности семьи на протяжении уже нескольких поколений, и даже имени Макандаля не слышал. Он понятия не имел, что отец его чудом избежал массовых отравлений в Сан-Доминго и что, если бы Макандаля не поймали, ураган мятежа смел бы весь остров. Казнь его решили отложить, дабы дать возможность плантаторам прибыть в Ле-Кап вместе со своими рабами: так негры раз и навсегда убедятся в том, что Макандаль смертен. «История повторяется, ничто не меняется на этом проклятом острове», — говорил Тулуз Вальморен своей супруге в дороге, на том же самом пути, который несколькими годами ранее проделал его отец, причем с той же целью — присутствовать на показательной казни. Он объяснял ей, что показательная казнь — это наилучшее средство, чтобы сломить дух мятежников; так решили губернатор и интендант, в кои- то веки проявившие единодушие. Он надеялся, что это зрелище несколько успокоит Эухению, однако просчитался, поскольку и вообразить не мог, что поездка обернется настоящим кошмаром. Он уже был близок к решению повернуть назад в Сен-Лазар, но права на это не имел, ведь плантаторы обязаны были держать единый фронт в противостоянии с неграми. К тому же ему было известно, что за его спиной ходят разные слухи: поговаривают, что он женился на полоумной испанке, что сам он высокомерен и пользуется всеми привилегиями своего социального положения, но при этом не выполняет своих обязанностей в Колониальном совете, где кресло Вальморенов пустует со времени смерти его отца. Шевалье-то был фанатичным монархистом, а вот сын его презирает Людовика XVI — нерешительного правителя, в заплывших жиром руках которого пребывает в данный момент французская монархия.
Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава
- Тонино Бенаквиста. Наша тайная слава / Пер. фр. Л. Ефимова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 254 с.
Впервые на русском языке издана новая книга Тонино Бенаквисты, знаменитого представителя современной французской литературы, автора бестселлеров «Сага» и «Малавита». В этот сборник вошли шесть рассказов, у героев которых — непойманного убийцы, молчаливого ребенка, антиквара-вояки, миллиардера-мизантропа и мстительного поэта — немало общего. В их внутренней жизни есть волнующая тайна, которая никак не связана с их внешней, находящейся на свету частью жизни. В конце концов, у каждого из нас своя «тайная слава», о которой мы можем лишь молчать.
Убийство на улице Каскад
Я человек с улицы, первый встречный.
Для принца я плебей. Для звезды — публика. Для интеллектуала — простец. Для избранного — зауряднейший из смертных.О, как прекрасно высокомерие исключительных существ, едва речь заходит обо мне! С какой энтомологической точностью они судят о моих вкусах и нравах! Как снисходительны к моим столь обыденным недостаткам! Часто я завидую этому их таланту — никогда не узнавать себя в других, в обыкновенных людях. И чувствую сквозь их благодушие, как их успокаивает моя посредственность. Чем была бы элита без серой массы, чем было бы выходящее за рамки без нормы?
Неужели я так предсказуем в глазах мыслителя, который знает все о моем стадном инстинкте, о моем призвании быть никем, о моем удивительном влечении к часу пик? Неужели я дисциплинирован до такой степени, что никогда не теряюсь в устроенном учеными лабиринте? Неужели настолько лишен самолюбия, что приспосабливаюсь к палке в ожидании морковки? Неужели так готов смеяться или плакать, стоит только какому-нибудь художнику или артисту почувствовать вдохновение? Неужели так уныл и скучен, что способен повергнуть в отчаяние поэта? Неужели настолько труслив, что жду воя волков, чтобы завыть вместе с ними?
Вы, лучезарные существа, дерзающие отправляться в Крестовые походы, выбирать нехоженые пути, рассуждать о душе, воодушевлять толпы, вы, заставляющие крутиться этот мир, который человек с улицы всего лишь населяет, знаете ли вы, что, говоря от его имени, сводя его к блеющей породе, отрицая его индивидуальность, вы — о ирония! — вынуждаете его к счастью? Ибо как можно принять такое — лишиться исключительной судьбы, если не быть просто счастливым — глупо, пошло, естественно счастливым? Счастливым, каким умеет быть только человек с улицы, избавленный от обязанности удивлять, потребности восхищать. И это анонимное, терпеливое счастье утешит его, быть может, в том, что он не пережил ту четверть часа славы, которую сулил ему двадцатый век.
Я солгал. Я вовсе не человек с улицы, не первый встречный.
Почти пятьдесят лет я делал все, чтобы стать им и оградить свою семью от ужасной правды. Для них я был обыкновенным малым, любящим супругом, порядочным отцом, не способным лгать или хранить тайну. Какое двуличие! Как я смог дурачить их так долго? В буквальном смысле слова я — миф. Реально существовавший исторический персонаж, преображенный легендой. В свое время обо мне исписали немало страниц. Я был темой всех разговоров. Меня искали на каждом углу улицы. Если бы мир узнал, кем я был на самом деле, я бы сейчас раздавал автографы.
Прошлой ночью моя жена, которую я так любил, умерла. Ничто более не удерживает меня от того, чтобы раскрыть свой обман.
Будучи целыми днями свидетелем ее мук, отрешенности, приступов гнева, я судорожно стиснул ей руку, чтобы впитать хоть немного ее боли. Но, не обладая этой способностью, был вынужден ждать, ждать, ждать, тщетно, бессильно, вплоть до того мига успокоения, который застал нас обоих врасплох, — ее дыхание стало почти неощутимо, конечности перестали бороться, и я увидел, как на ее губах обрисовалась загадочная, околдовывающая улыбка:
«Вот оно, я готова». Снова став сообщниками, мы заговорили на языке старых пар — закодированными, загадочными сообщениями, где в обрывках слов, вздохах, многоточиях таятся воспоминания и истории. В самый последний раз она сыграла роль жены, хорошо знающей своего мужа, и беспокоилась о том, что я не был способен совершить в одиночку, — оказалось, за сорок семь лет совместной жизни количество таких дел умножилось, а я даже не остерегся. Но я едва ее слушал, готовый украсть
у нее этот последний час, пытался сказать ей про свою вторую жизнь. Меня вовремя удержал один образ — как моя любимая проклинает меня из могилы, царапая стенки гроба, чтобы вырваться оттуда и выдрать мне глаза за то, что я скрыл тайну посильнее нашей любви.На заре она угасла, шепнув мне свою последнюю волю:
Обещай мне сблизиться с ним.С ним — это с нашим единственным сыном, который ждал за дверью.
Не имея другого выбора, я согласился — глазами. Но как сблизиться с существом, которое никогда и не отдалялось? Он всегда был уважителен, и я никогда не стыдился за него перед соседями. Ни разу не пропустил ни одного моего дня рождения, никогда не забывает про праздник отцов. Выказывает мне любовь, но с одним нюансом, я чувствую его, когда мы целуемся по официальным случаям: я подставляю ему щеки, а он придерживает меня за руки, словно останавливая мой порыв к нему. Затем спрашивает, как мое здоровье, а я — как его работа. Он не догадывается, что уже давно перестал любить меня. Если бы его об этом спросили, он бы оскорбился: Это же мой отец! Но я могу точно назвать день, когда перестал быть героем своего отпрыска.
Это было в июле 1979-го — ему тогда исполнилось тринадцать лет. Впервые он не поехал на каникулы вместе с нами — родители одного приятеля пригласили его прокатиться по Италии. Я высадил сына возле красного кабриолета, готового бороздить дороги Юга, и поздоровался с тем, кто должен был присматривать за экипажем, — человеком моего возраста, хотя выглядевшим гораздо моложе, одетым в потертые джинсы и поношенную кожаную куртку, которые придавали ему вид искателя приключений. Впрочем, он таким и оказался — будучи инженером дорожного ведомства, строил плотины и дамбы, чтобы осушать болота и орошать пустыни. Не слишком любопытный, но хорошо воспитанный, он поинтересовался, чем я занимаюсь в жизни, и, чтобы не отвечать, что я коммивояжер, торговый представитель по сбыту ручного инструмента, я сказал ему, что, дескать, специализируюсь по стали. Он обошелся без уточнений. Не беспокойтесь ни о чем, я глаз не спущу с наших негодников. Его болид свернул за угол улицы, и в этот миг я понял, что уже никогда не увижу того ребенка, который еще вчера спрашивал меня о небесной необъятности, словно я знал, откуда она взялась.
Вместо него вернулся юноша, страстно увлеченный итальянским Возрождением, способный бриться, как взрослый, и гордый тем, что в первый раз опьянел, напившись граппы. Он хотел изучать урбанистику, а я не осмелился его спросить, что это, собственно, такое. Отныне всякий раз, предлагая ему что-нибудь сделать вместе, я буду читать в его глазах, что главное для него уже не здесь.
Обещай мне сблизиться с ним.
В ту ночь я пообещал невозможное, но с завтрашнего утра старик снова станет в глазах своего сына человеком. Как никто другой. Я не прошу ни его уважения, ни сочувствия, я лишь хочу, чтобы он пожалел о своем вежливом равнодушии, хочу снова найти в его взгляде детское удивление. Мне не придется даже напрягать память, правда сама рвется наружу, она уже совсем готова, ей слишком тесно там, где она томилась полвека.
Татьяна де Ронэ. Русские чернила
- Татьяна де Ронэ. Русские чернила. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. — 352.
В издательстве «Азбука» вышла книга-бестселлер Татьяны де Ронэ «Русские чернила», по сюжету которой молодой писатель в поисках своих корней попадает в Санкт-Петербург. Пораженный сделанным там открытием, он создает роман, который приносит ему громкий успех. Однако с призраками прошлого не так легко покончить.
Вдохновением для самой Татьяны де Ронэ послужили те же причины: интернациональность собственной семьи и история ее русской прабабушки.Те клиенты отеля, что начали день в море, собирались на берег к обеду. Моторные катера с гудением шли вдоль роскошных яхт и парусников, стоявших на якоре в заливе, доставляли пассажиров и уносились обратно, чертя за собой пенный след. Николя наблюдал за потоком прибывающих. Вот ступила на берег какая-то весьма аристократическая семья, вероятно римляне или флорентинцы. Впереди с достоинством выступали бабушка с дедушкой, следом шествовали мать и отец семейства, а за ними целая команда вышколенных детей. Девочки все как одна в платьях в цветочек, с лентами в волосах, мальчики в белых рубашках и бермудах. Немного погодя на берег сошли две сестры-близняшки невиданной красоты. Одна прижимала к груди ярко-синюю сумку работы знаменитого нью-йоркского ювелира, другая вела на поводке веселого щенка лабрадора, который чуть не свалился в воду, немало позабавив Николя. На сестрах были громадные солнечные очки, а прически копировали небрежный начес Натали Портман. Они легко и грациозно спрыгнули на пирс, хохоча над проделками щенка.
Было около двух часов дня. Николя решил все- таки подняться в номер. В прохладном полумраке Мальвина спала, уютно устроившись на постели. Он осторожно положил ей руку на лоб. Лоб был влажный, но не горячий. Ничего не оставалось, кроме как идти обедать в одиночестве.
Его усадили за тот самый столик, за которым он завтракал. Французы снова оказались слева. Муж с аппетитом набросился на еду. Он играл в теннис и не успел переодеться. Щеки у него горели, на висках блестели капельки пота, на белом поло под мышками виднелись влажные пятна. Дама была в тюрбане, который вовсе ей не шел, и деловито, тщательно пережевывая, поглощала кусочки пармской ветчины. Оба не обменялись ни словом. Справа брюнетка с пышной грудью в одиночестве расправлялась с брускеттой. Семейство бельгийцев заказало охлажденное белое вино. Швейцарцы вяло клевали салат и, увидев, что Николя смотрит в их сторону, раскланялись с ним. Он тоже кивнул. Спрятавшись под зонтиком, он потихоньку наблюдал за кипевшей на террасе жизнью. Его поклонница Алессандра обедала в компании собственного клона, только старше: несомненно, это была ее мать. К счастью, они не могли его видеть. Члены аристократического семейства, словно сошедшего со страниц «Ярмарки тщеславия», выказывали друг к другу преувеличенное внимание и на протяжении всего обеда без конца целовались. Он забавлялся, глядя на них и жуя свой сэндвич с крабовым мясом. Однако, когда появились двойники Натали Портман, он отложил сэндвич в сторону. Близняшки были похожи как две капли воды, а на руках у них красовались абсолютно одинаковые часы «Hermès Cape Cod». Запыхавшийся лабрадор устроился у их ног. Официант принес ему мисочку с водой, и он принялся шумно лакать. Николя напряг слух, чтобы понять, на каком языке они разговаривают.
— А ты нагнись еще чуть-чуть, приятель, и точно свалишься со стула, — раздался у него за спиной гнусавый голос.
Николя вздрогнул и обернулся. Какой-то сутулый тип лет сорока, в мятой футболке и линялых джинсах, одиноко сидел неподалеку, держа в руке бокал розового вина. Он еще что-то проговорил, и Николя с удивлением узнал романиста Нельсона Новезана, лауреата Гонкуровской премии. Они не раз пересекались на разных встречах, телепередачах и литературных салонах. Удивительно, что Новезан, слывший человеком нелюдимым, его признал.
— Ну что, лапуля, все тип-топ? — медленно процедил Новезан тягучим голосом, шатаясь, подошел к столику Николя и плюхнулся на стул напротив него.
Романист, несомненно, уже порядком выпил. Он закурил сигарету, держа ее, по обыкновению, большим и указательным пальцем. Характерная привычка.
— Все отлично, — весело ответил Николя.
Вблизи кожа Новезана выглядела землистой и
несвежей, свалявшиеся сальные волосы, похоже, не одну неделю не знались с водой.— Ты в отпуске, парень?
— Нет, я приехал, чтобы писать.
— Вот как? Я тоже, — зевнул Новезан, обнажив желтые зубы. — Приехал в этот храм роскоши, чтобы писать. Я очень доволен работой. Идет как по маслу. Мой лучший роман. Выйдет на будущий год. Вот увидишь, ох и шуму будет! Мой издатель просто на седьмом небе. И я тоже.
Он щелкнул пальцами официанту и заказал еще вина.
— Ты тут уже бывал раньше?
— Нет, в первый раз.
Ироническая улыбка.
— Так я и думал. Славное местечко. Отто, здешний директор, — мой друг. У меня тут каждый год постоянный номер. Шикарный, с лучшим видом. Авторы бестселлеров хорошо живут, а?
Николя кивнул и натянуто улыбнулся, как совсем недавно Алессандре.
Тут прибыла очередная порция вина.
— Они вечно злятся, потому что я не заказываю их местные хреновые вина.
Новезан нетвердой рукой плеснул себе еще розового.
— Сколько тебе лет, малыш?
— Двадцать девять.
Романист хрюкнул:
— И что ты знаешь о жизни, в двадцать-то девять лет?
— А вам самому сколько лет? — парировал Николя.
Его так и подмывало двинуть романисту по нечищеным зубам.
Тот пожал плечами и молча запыхтел сигаретой. За последние десять лет романист выпустил четыре книги, и две из них стали бестселлерами в Европе и Америке. Николя проглотил их все залпом, еще когда учился на подготовительных курсах, и Новезан его околдовал. А потом романист превратился в раздувшуюся от высокомерия литературную притчу во языцех. Чем больше росла его известность, тем грубее он обходился с журналистами и читателями. Его брутальные, женоненавистнические романы были великолепно написаны. Читатели их либо обожали, либо ненавидели, середины не
было. Равнодушным не оставался никто. Недавно на книжном салоне в Швейцарии он прилюдно оскорбил свою ассистентку за то, что опоздало вызванное ею такси. Николя вспомнил, как невозмутимо она держалась, когда Новезан бушевал и при всех осыпал ее ругательствами.— Хорошо сыграно, приятель, — рыкнул Новезан, отхлебнув изрядный глоток розового.
— Как вы сказали?
Романист снова зевнул:
— Ну этот финт с паспортом. Я говорю, идея была просто у нас под носом. Погляди на меня: отец француз, родился за границей, мать англичанка. А я парижанин по рождению… Я бы тоже мог додуматься.
Николя умолк, потрясенный. На что намекает этот тип?
— Парень, это зернышко валялось под ногами у всех, кого из-за нового дебильного закона заставили доказывать, что они французы. А ты его склевал и написал книгу. И хорошо продается твоя книжонка?
— Неплохо, — ответил Николя безразличным тоном, понимая, что сейчас сорвется.
Он всякий раз закипал, когда слышал слово
«книжонка».— Ну хотя бы примерно, сколько продано? —
еле ворочая языком, настаивал Новезан.Он был абсолютно уверен, что ущучил наконец этого парня.
Николя выдержал паузу перед тем, как добить противника. Глаза его скользнули по столику, где сидели близняшки, потом по желтой стене корпуса, где спала Мальвина.
— Тридцать миллионов экземпляров по всему миру, — бросил он.
Несколько долгих минут Новезан не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. А Николя вдруг почувствовал, как весь его гнев испарился. Он уже презирал себя за то, что похвастался. На кого он рассчитывал произвести впечатление? На этого потасканного, стареющего, легковесного писателя, который в сравнении с ним смотрелся просто дряхлым?
— Вы один сюда приехали? — вежливо поинтересовался он.
— С женщиной в комнате нет никакой возможности писать. Стало быть, трахаешь ее, и она отчаливает, вот так.
И Новезан сделал весьма красноречивый и грубый жест. Николя не смог удержаться от улыбки. Он встал и надвинул на лоб каскетку.
— Пойду поплаваю. Составите мне компанию?
Новезан помахал рукой:
— Нет, спасибо, я пошел вкалывать, дружок. Еще многое надо доделать. Это местечко — просто источник вдохновения! Не могу остановиться. А ты?
Николя не ответил. Новезан тоже поднялся с места, нетвердо держась на тощих ногах. Они расстались, огрев друг друга по спине, как два закадычных приятеля. Прежде чем войти в лифт, Николя проверил «Блэкберри». К его немалому огорчению, на «Фейсбуке» появилась фотография, сделанная утром у бортика бассейна. Ее выложил некто по имени Алекс Брюнель. В его профиле красовалось зеленое яблоко «гренни смит», так что определить личность фаната было невозможно. Алекс Брюнель запаролил свою страницу. К счастью, под снимком не указали, где он сделан. И нашлось уже четыреста сорок пять пользователей, которым фото понравилось. Так было не впервые. Фанаты засекали его в автобусе, в метро, где он по-прежнему охотно ездил. Они без конца щелкали
его на мобильники, а потом в знак почтения помещали снимки на его стене. До сих пор это его не особенно раздражало. Но сейчас, вглядевшись в снимок, он различил на черно-белом пляжном зонтике буквы «GN» — «Gallo Nero». Если кто-то действительно захочет узнать, где он находится, это не составит труда. Но что он мог сделать? Ничего. Ведь говорила же ему Дельфина: «Это твоя плата, Николя. Разве ты сам этого не хотел?» Он прокрутил комментарии: «Мм, секси!», «Неотразим!», «Эй, Николя, возьми меня с собой!», «Италия или Греция?», «Браво!». К счастью, никто не назвал «Галло Неро». Если он удалит фото, то рискует обидеть Алекса Брюнеля, кто бы он ни был. И он (или она) вывесит еще одно. Николя научился осторожно вести себя с фанатами. От рассерженного поклонника хорошего не жди. Он бросил беглый взгляд в свой «Твиттер». Ни один из подписчиков не упоминал о его эскападе в Италию. На всякий случай он проверил свою страницу в Гугле. Ничего. В «Твиттер» он заглядывал редко, как и на свою страничку. А поначалу оттуда просто не вылезал, ведь так здорово находить название книги и фильма на всех сайтах и во всех блогах. Правда, не все отзывы были хорошими, попадались и такие, что больно ранили: «Бросьте агитировать читать это жуткое дерьмо Николя Кольта. И как только этому типу удалось продать столько экземпляров?» Эту фразу в «Твиттере» перепостили сотни раз. Когда он вернулся на пляж, Мальвина уже ждала его. Она немного порозовела и объяснила, что ее вырвало и теперь ей гораздо лучше. Николя рассказал о своей встрече с Нельсоном Новезаном, копируя знаменитый оскал гонкуровского лауреата, поднятую домиком бровь и характерную манеру держать сигарету.— Отправь это в «Твиттер» вместе с его фото, —
улыбнулась Мальвина.— Я пока не захожу в «Твиттер», — ответил он и жестко добавил: — Я теперь стреляный воробей.
Мальвина спросила, видел ли он свое фото в
«Фейсбуке». Она набрела на него в своем айфоне. Он в ответ проворчал, что недоволен: хотелось бы уединения, хотя бы трех дней покоя для них обоих. Трех дней солнышка.— Интересно, кто это вывесил, — пробормотала
Мальвина.— Да чихал я на него, — прошептал Николя, целуя ее шелковистые волосы.
Роберт Шекли. Лавка старинных диковин
- Роберт Шекли. Лавка старинных диковин. — СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2014. — 416 с.
Во всем мире Роберт Шекли признан лучшим мастером юмористической фантастики и великолепным новеллистом-парадоксалистом. Его произведения отличаются юмором, добротой, философией и поразительной способностью запоминаться навсегда. «Лавка старинных диковин» — второй том двухтомника малой прозы, большинство рассказов которого впервые издаются на русском языке.
ИГРЫ С ЗЕРКАЛАМИ
Зеркала загадочны и опасны. И удивительны. Они способны отражать показанное им — но способны и скрывать. Многие люди, особенно в молодости, подозревали: в зеркалах живет другой мир, другая цивилизация. Иногда умение и случай позволяют туда проникнуть, как Алиса проникла в Зазеркалье. В этом рассказе я хотел показать, сколь мрачным и страшным Зазеркалье может обернуться.
Эдвард оказался единственным туристом на круизном звездолете. Ни год, ни сезон отнюдь не были лучшими для визита на Альсенор. Самый шик теперь — Окраинные миры. К услугам любителей приключений — Хотар и Лени, примитивные планеты с буйной флорой и фауной и крайне скудной цивилизацией. Гурманов ждет Гастор-4, где умелые повара превращают дары местных лесов, морей и полей в изысканные кушанья. Любовники предпочитают двойные луны Аскенаи.
На Альсенор летят лишь те, кто обезумел от горя утраты.
Пройдя таможенный и пограничный контроль, Эдвард увидел в зале прибытия огромные зеркала, показывающие виды главных туристических районов Альсенора. Центральное место занимали красоты Роппо, острова в южном Склемерианском море, зеленого и роскошного, знаменитого белыми песчаными пляжами, множеством ресторанов и живописными гротами. Там, облачившись в акваланг, можно повстречаться с оскульти, издавна обитающей на планете подводной разумной расой. С ними даже можно выпить чаю в специальном помещении под водой — оскульти знамениты гостеприимством.
Однако Эдвард прилетел не за достопримечательностями. Чудесные виды его не влекли — поскольку он не мог полюбоваться ими вместе с Еленой. Елена умерла. Остался лишь ее образ, запечатленный старым ручным зеркалом. Елена смотрелась в него в последний день своей жизни на Земле, перед внезапной смертью.
На Земле смерть необратима. Но Эдварду сказали, что на Альсеноре это не так, в особенности если момент кончины запечатлело зеркало. В свое тело вернуться нельзя, но можно уйти в зеркало, чтобы жить там вечно.
Обитатели Альсенора, преуспев в изучении зеркал, творили с ними чудеса. Этому способствовали небольшие аномалии местного пространства-времени и слегка отличающиеся от привычных свойства материи.
Об этом писали многие — и ученые, и популяризаторы. Эдвард же не питал к науке зеркал даже любительского интереса, желая всего-навсего вернуть Елену или воссоединиться с нею — безразлично, каким способом. Магия либо наука — не важно. Лишь бы получить желаемый результат.
И потому он не мог не встретиться с Лобо сразу после того, как вошел в зал прибытия. Лобо праздно шатался там — высокий, с волосами цвета песка и манерами уличного шарлатана. Искал приезжих, чтобы предложить номер в отеле, порекомендовать ресторан и услуги особого свойства.
Приметив бирки на багаже, Лобо приблизился и заговорил с наглой вальяжностью, свойственной его породе:
— Вы хотите женщину, угадал? Сэр, вы прибыли на ту самую планету, и боги удачи направили вас к тому самому человеку! Ибо я имею честь водить знакомства с множеством чрезвычайно симпатичных дам, обладающих безукоризненными достоинствами! Уважаемый сэр, для вас я уже наметил особу, имеющую вторичные половые признаки универсально одобряемого типа, хранящую себя для землянина определенной категории — какую я и наблюдаю в вашем лице! Сэр, по моему скромному суждению, вы тот самый единственный, ожидаемый ею. Все совершенно бесплатно! Хотя вы можете, конечно, угостить даму прекрасным ужином по весьма разумной цене или даже устроить так называемый банкет в спальне. Его чудесно организует мой кузен, Томас из «Сковородки»…
Сперва Эдвард хотел дождаться перерыва в мутном потоке бесстыдного пустословия. Но потерял терпение и, пренебрегая вежливостью, перебил:
— Нет и еще раз нет! Я не хочу вашу женщину!
Песочного цвета брови удивленно изогнулись.
— Предпочитаете мальчиков? — спросил Лобо. — Или представителей расы, совершенно не похожей на людей? На Альсеноре водятся существа, знаменитые телесной пышностью, хотя к ней, честно говоря, нужно привыкнуть…
— Да меня это вообще не интересует! — выкрикнул Эдвард. — Я хочу лишь мою Елену!
Пытаясь сообразить на ходу, Лобо спросил нерешительно:
— А вы ее привезли с собой, вашу Елену?
Эдвард кивнул. Открыл рюкзак, вынул длинный узкий пенал из кожи, расстегнул молнию и показал лежащее внутри серебряное зеркальце:
— Она здесь. Посмотрелась перед смертью.
Внезапно понявший Лобо воскликнул:
— Так она живет в зеркале?!
— Не на Земле. Но, возможно, на Альсеноре…
— На Альсеноре возможно все — если это касается зеркал.
— Так мне и сказали, — буркнул Эдвард.
— Вам по-настоящему повезло, что вы меня встретили — я могу помочь, — заверил Лобо.
— Вы способны вернуть ее к жизни?
— Нет. Но я знаю того, кто может.
Эдвард снял на неделю номер в элегантном, но недорогом отеле, рекомендованном Лобо. Оставшись один в комнате, он распаковал вещи, поставил зеркало на тумбочку и сел писать Елене письмо.
Написал, что и представить себе не мог, насколько одиноко будет без нее — пусто, серо, бессмысленно. Конечно, он не всегда был добрым с нею, особенно в конце. Оскорблял, злился, даже распустил руки. Но теперь это прошло целиком, совершенно. Тогда случился приступ безумия, яростного, но недолгого, рожденного не отсутствием любви, а, напротив, избытком ее.
Доказательство — то, на что он пошел ради возвращения Елены.
Закончил он письмо выражением надежды. Предположением, что вскоре повстречается с любимой.
Эдвард подержал письмо напротив зеркала. Выждал, пока не уверился: зеркало впитало. Затем осторожно упаковал и зеркало, и письмо и лег спать.
Его сон потревожил Лобо, объявивший радостно:
— Я нашел самого лучшего специалиста! Нужно срочно с нею поговорить, пока она снова не уехала из города!
— Куда же она так спешит?
— Зеркала в разных частях планеты имеют разные свойства. Элия поклялась изучить их все, проникнуть в глубочайшие тайны, поверить их белым светом науки либо сумраком мистицизма.
На следующий день Лобо привел Эдварда к Элии, высокой суровой ведьме, искушенной в познании отражений. Она жила одна в меблированных комнатах бедного квартала — россыпь трущоб окружала космопорт.
Элия выслушала просьбу гостя, изучила зеркало и объявила, что за работу взяться готова. Однако Елену из мира отражений не извлечь. Сейчас это не по плечу никому на Альсеноре.
Но при должной подготовке Эдвард может войти в зеркало сам и там воссоединиться с живой Еленой.
Конечно, за это надо заплатить, причем вперед. И цена немалая. Но еще больше придется заплатить не деньгами. За возможность войти в зеркало нужно отдать телесное существование. Оно прекратится в момент перехода.
Эдвард подтвердил свое согласие. Ведьма сказала, что должна поработать с зеркалом, удалить образы, накопленные им с момента смерти Елены — и тем облегчить уход Эдварда.
На следующий день явился любопытный Лобо.
— Как идет дело? — спросил он.
— В общем, неплохо, — ответила Элия. — Несколько образов оказались упрямыми, не хотели счищаться. Однако я справилась. Но ситуация вокруг этого зеркала меня озадачивает.
— Чем же?
— Он говорил, что отчаянно любит эту женщину, Елену. Говорил?
— Конечно! Потому и отправился в такую даль, на Альсенор. Захотел быть вместе с ней.
— Вот-вот! Здесь и коренится непонятное.
— Не могла бы ты объяснить подробнее?
— Если он ее любил так сильно, то почему убил?
— Ты о чем? Не понимаю…
— Его образ рядом с ее образом — последнее, что запечатлело зеркало на Земле. И оно показывает, как Эдвард задушил свою Елену.
— Ты уверена?
— Посмотри сам. Я перенесла изображение в копирующее зеркало.
— Спасибо, не стоит. Я тебе верю.
— Да, и что это за мужчина, бывший с нею?
— Какой мужчина?
— В зеркале есть еще один мужчина, — пояснила Элия. — По изображениям, снятым мною, понятно, что он любил ее.
— Черт возьми! И что с ним произошло?
— Его тоже убили. Выстрелом из пистолета.
— Кто убил?
— Думаю, наш клиент Эдвард. Правда, зеркало не показывает, он ли стрелял. Но смерть мужчины оно отобразило.
— Ну и ну! Впрочем, это нас не касается.
— Согласна. Эдвард наш клиент, а мы не полиция и не блюстители общественной морали. Возможно, есть логичное и разумное объяснение случившемуся. Но я все равно хотела бы задать ему пару вопросов.
— Не понимаю для чего.
— Для того чтобы выяснить, почему убийца все-таки стремится в зеркало, где находятся его жертвы. А еще для того, чтобы гарантированно получить оплату, прежде чем он туда попадет.
— Ты же сама сказала, что мы не блюстители морали. Судить поступки людей — не наше дело.
— Но эта моральная проблема касается личности нашего клиента и наших отношений с ним! А вообще говоря, не надо было приводить его ко мне.
— Разве ты не просила найти клиентов, не советовала искать их среди приезжих?
— Я думала, ты хоть немного разбираешься в людях.
— Какая разница, что ты думала? Хотела дохода — вот он, доход.
— И проблема.
— Проблемы клиента входят в предъявляемый ему счет. Как иначе?
— А моя совесть? Она войдет в счет?
— Если совесть не дает покоя, вели клиенту убираться.
— Но я не могу. Согласно законам нашей профессии, приняв заказ, я обязана выполнить его до конца. Мне придется переговорить с клиентом.
— А, так вы увидели, — задумчиво произнес Эдвард после того, как Элия рассказала о найденных в зеркале образах. — Это просто недоразумение. Я не желал ей зла. Я же ее люблю! Просто я очень вспыльчивый. Но теперь умею сдерживаться. Когда ее увижу, все объясню. Она поймет. Елена всегда любила меня, всегда понимала.
— То есть вы все еще хотите войти в зеркало и встретиться с нею?
— Хочу, и даже сильнее, чем раньше!
— И вам все равно, что с ней другой мужчина?
— О чем вы?
— Я видела его в зеркале. И он был убит.
— Гм… Ах, ну да. Должно быть, Роджерс.
— И это для вас тоже не препятствие?
— С Роджерсом я ошибся, — признался Эдвард.
Элия кивнула.
— Во-первых, с какой стати он вообще оказался там? Я имею в виду — в ее квартире? Надоедал ей. Запутывал, мучил. Если бы он тихо и мирно убрался, как я ему и советовал, неприятностей не случилось бы.
— Он не ушел.
— Да. Твердил, что любит ее. А моей наивной девочке взбрело в голову, что и она его полюбила.
— Эдвард рассмеялся. — Как будто она могла любить по-настоящему кого-нибудь, кроме меня! Мы же были созданы друг для друга, я и Елена! И эти слова мы говорили друг другу в чудесные дни, когда наша любовь только расцвела!
— Понятно, — заключила Элия.
— Я же сказал в тот день, что Эдвард — человек серьезный, влюбляется раз и навсегда. Обещал, что любить ее буду и в этом мире, и в другом. Тогда я не знал еще про зеркала, но, конечно же, мое обещание имеет силу и для зеркального мира. Елена поклялась, что любит меня, как и я ее. Но со временем… Я был вспыльчив, а тут явился Роджерс, вскружил ей голову, обманул, она поддалась…
— Понимаю, — сказала Элия. — Но как вы думаете, ее чувства к вам остались прежними? Ведь вы же ее убили.
— Уверен, они не изменились! Если бы она убила меня, я бы простил ее и не разлюбил нисколько. Я ожидаю от нее того же.
— Ваша любовь очень благородна. Но как расчет Роджерса? Ведь он тоже в зеркале. Это вас не тревожит?
— Ничуть! Я убил его один раз, убью и второй, если понадобится. Ничто не сможет помешать моей любви!
— Думаю, теперь я поняла все, — подытожила Элия.
Эдвард поднялся. Он был очень рослый и сильный. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего.
— Так вы собираетесь сунуть меня в зеркало или нет? — спросил он грозно.
— Конечно, никаких сомнений! Договоримся об оплате и начнем.
Эдвард достал бумажник и принялся выкладывать на стол крупные купюры в валюте Альсенора.
Выждав немного, Элия подняла руку:
— Хватит!
— Я могу дать больше.
— Нет. Этого достаточно. Я помещу вас в зеркало сегодня вечером, после того как приготовлю все необходимое.
— Вы же не разочаруете меня?
— Будьте уверены, не разочарую.