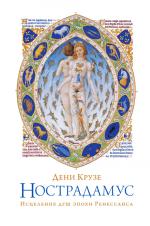- Дени Крузе . Нострадамус: Исцеление душ эпохи Ренессанса / Пер. с фр. А. Захаревич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 552 с.
Исследование Дени Крузе, известного ученого, профессора университета «Париж IV–Сорбонна», посвящено одной из самых загадочных фигур XVI века. Написание исторического труда о Нострадамусе было почти неосуществимой задачей, и причиной тому — избыточность толкований катренов, включенных в «Пророчества», а также скудость материала, доступного для работы биографа. Однако Крузе удалось собрать воедино противоречивые факты.
Введение
ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
Долгое время, в течение последних трех-четырех лет, я сожалел, что взялся за исследование, посвященное «мэтру Мишелю де Нотрдаму» или Мишелю Нострадамусу, исследование сложное, в некотором смысле граничащее с несуразностью и даже искажающее действительность: с одной стороны, дело в том, что фигура прорицателя-астролога остается столь же загадочной, сколь редки документы и источники, относящиеся к его персоне; с другой стороны, его пророчества по-прежнему непостижимы, отмечены печатью неопределенности, отличаются своеобразным «распылением» смысла. Так что в этом аспекте история, как на нее ни взгляни, существует лишь фрагментарно.
Что касается хронологии фактов, которые историк может узнать о Нострадамусе, связав отдельные сохранившиеся биографические сведения со значимыми событиями, оставившими след в истории того времени, к ним читателю предстоит обратиться в конце книги.
Он обнаружит перечисление эпизодов жизни. Но слишком мало сведений, чтобы фигура сáмого знаменитого астролога в истории стала ближе. Впрочем, дело не только в этом обстоятельстве. Для историка гораздо существеннее, что фрагментарность отличает также и творчество, а значит, воображение Мишеля Нострадамуса. Мысль оказывается в тупике перед этой фрагментарностью смысла, из которой и возникли «Пророчества». Выбирая более яркий термин, можно сказать, что смысл «растворяется». Каждый катрен, включенный в одну из десяти центурий, составляющих произведение, и правда можно сравнить с бездонным колодцем, ведь все, что способно послужить опорной точной в разрешении загадки, предложенной Нострадамусом, распадается, рассыпается, каждый прочитанный стих начинает колебаться, вибрировать, становясь невразумительным, размытым. Общий смысл теряется, размывается сам собой в противоречиях и многозначности, а то и в нелепостях или своеобразных лингвистических вольностях. Так же и завораживающий механизм, спираль, посредством которой слова оракула из Салона1 влекут за собой читателя, — в силу парадоксальности и неоднозначности вопросов и ответов, намеренной недосказанности, в ожившем процессе «подмен и бесконечного множества комбинаций», словно выступает своеобразной метафорой абсурда. Абсурда, очевидного вдвойне, — в той мере, в какой шарлатанство издавна овладело сферой предсказаний, — если предположить, что существовало развивающееся знание о созидательной силе слов и об обманных свойствах их сочетаний. Ажиотаж, связанный с улавливанием и достраиванием смысла, по-прежнему продолжается: на волне событий настоящего постоянно видоизменяются трактовки, актуальные мотивы страхов и надежд; работая с анахронизмами, историк начинает сомневаться в собственном труде, суть которого, наоборот, в попытке с относительной деликатностью проникнуть в воображение прошлого и в наиболее вероятном и хрупком виде воссоздать его возможные проявления, чтобы их удалось рассмотреть.
Добавлю заодно, что «гуру», объявившиеся из разных дыр и щелей, и торговцы в храмах прорицаний нынче повсюду востребованы, как никогда, и знай — щедро плодят иллюзии, сами в них утопая; вначале я твердо намеревался не обращать внимания на них самих, на их эсхатологические бредни или просто домыслы в связи с любым возможным стечением событий, даже когда сомнения словно взяли меня за горло. Ведь соприкасаясь с Нострадамусом и с теми искажениями, которым подвергается его образ, надо быть рационалистом и агностиком одновременно. Пусть они злятся, их злость заранее мне безразлична — они не знают истории, ее методов и герменевтических принципов; лучше, как писал гуманист, неизменно присутствующий в этой книге, «не трогать болота Камаринского, не прикасаться к этому ядовитому растению…»2. Я буду также глух к упрекам, которые могут взбудоражить приверженцев истории, одновременно выдуманной и настоящей, ведь это люди — процитируем все того же гуманиста, — «почитаемые за длинную бороду и широкий плащ, которые себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке». Немного идеализма — в марксистском смысле — гуманитарной науке не повредит.
Для краткости и чтобы подчеркнуть ограниченный характер моих астрологических познаний и умозаключений относительно подлинности различных изданий «Центурий», а также в стремлении сохранить специфику прошлого и уважить «астрофила» 3 из Салон-де-Кро я заставил себя следовать постулату Альфонса Дюпрона4: «Жить и не отмеривать то, что мы проживаем, — это общая данность бытия; история же милостью своей позволяет нам по прошествии времени обозревать глубины, которые не способны разглядеть современники, притом что ее основная роль — в некотором смысле вести учет рождению сознания из неосознанного. Но нам тем не менее известно, что мы не можем (следовало бы написать — «не должны») стремиться к раскрытию тайны. Тайное описывает себя, осязает, ищет себе место, но не объясняет — иначе перестает быть тайным… Всякое объяснение тайны кажется нам в конечном итоге ее отрицанием…«3 Это «тайное», в котором Альфонс Дюпрон угадывал связующее начало «мифа», чуть позже, как мы увидим, я попытаюсь применить к воображаемому у Нострадамуса.
Пора к нему вернуться. При свете и в сумерках, днем и ночью я проводил трудные нескончаемые часы, поскольку все приходилось переосмысливать, размышлять порой над одним словом, стихом, катреном, и я упирался в бесконечную стену или, скорее, чувствовал, что блуждаю по лабиринту. Нередко я терялся в формулах наполненной символами мысли и в поисках возможных исторических источников. А также задавался вопросом, занят ли я исторической работой или, быть может, потерялся в призрачных эпистемах загадок и ребусов, в меандрах воображения, лишенного видимой логики, изобилующего многозначностью, а то и вовсе таящего в себе исключительно игру. При чем здесь история, если из-за семиологического дробления и рассеивания не выделить смысл? Каким образом придать деятельности Нострадамуса историчность, если приходишь к тому, что это искусство стилистической деконструкции, сфокусированное на обращении к тревожному веку: «ведь милосердие Божие не будет какое-то время на нас распространяться, сын мой, и большая часть моих Пророчеств осуществится и будет исполнена»5. Проблема была в том, что я упорно считал, будто Нострадамус хочет выразить нечто значимое, и целью моих поисков стала разгадка этой сущности, облаченной в слова, казавшиеся ореховой скорлупой, которую можно разбить и открыть. Я упорно в это верил, не подозревая, что сам по себе рассказ как созданная им временнáя протяженность был «циклическим», вписанным в рамки «сивиллической» поэтики, в которой сам принцип символизации имеет «ось вращения» в виде исчислений и повторов; речитативная поэтика хоть и проявляется в ходе чтения, парадоксальным образом скрыта в лукавом varietas6 фактов и выражается в многочисленных разрозненных, независимых друг от друга коротких сюжетах.
Между тем, когда я прочел их, причем не раз, мне показалось, что в попытке постичь загадочный мир Нострадамуса, как и в большинстве случаев, когда речь идет о логике ренессансных рассуждений, не следует поддаваться мании интерпретирования и считать, будто у Нострадамуса было желание столкнуть читателя с тем знанием, которое тот мог бы расшифровать или воспроизвести уверенно и однозначно. Надо не столько прочесть Нострадамуса, сколько выявить сам принцип прочтения, а значит, скрытого знания. В канве письма Нострадамуса выражается «оккультная» философия, но это философия незнания, апорического сознания. Нострадамус сам указывает на это с помощью многочисленных знаков и примет, пунктиром введенных в его тексты. Например, в последних строках «Предисловия», обращенного к сыну Сезару: «Хотя некоторые [из них] как бы скрыты облаком, они будут поняты умными людьми: sed quando sub movenda erit ignorantia7, смысл [их] станет яснее». Нострадамус дает понять своему читателю, что нужно смело заглянуть «по ту сторону» слов. «Quod de futuris non est determinata omnino veritas». — «Ибо что есть в будущем, истинно не определено вовсе». Возможно, путь, по которому идет Нострадамус в своих писаниях, это путь, обозначенный Эразмом, путь «глупости»; Жан-Клод Марголен назвал его «ироническим самовосприятием», обратнонаправленным языком, «механизм которого выявляет в конечном окостеневшем мире явлений и догм другой, бесконечно открытый и свободный мир человека, для которого всякая правда в нем и вне его связана с усилием поиска и углубления». В конечном счете я пришел к тому, что может выступить воссоздающей гипотезой при встрече с бесконечными вероятностями пророческой мысли Нострадамуса. Ведь даже когда катрен кажется чуть более прозрачным, полной ясности он не достигает, и смысл всегда неоднозначен.
Выходит, «ночные и пророческие предвидения, составленные скорее на основе единства природного дара и поэтического вдохновения, чем следуя правилам поэтики», нужно толковать как значащее расширение границ, а история в изложении «астрофила» обретает смысл при единственном условии: если признать, что это история, которая видоизменяется вне языкового поля. За пределами самих слов, а значит, принятых форм анализа. Я начну свое исследование, опираясь на этот тезис.
1 Имеется в виду город Салон-де-Кро в Провансе.
2 Дезидерий Эразм Роттердамский. «Похвала глупости». Здесь и далее перевод П. К. Губера.
3 То есть последователя астрологии. Астрофилом называл себя Нострадамус.
4 Альфонс Дюпрон (1905–1990) — французский историк, специалист по Средним векам и Новому времени.
5 Здесь и далее послания к сыну Сезару и к королю Генриху II представлены в переводе В. Б. Бурбело и Е. А. Соломарской. Ими же был выполнен подстрочный перевод катренов, цитируемых в авторских примечаниях в конце книги.
6 Varietas — многообразие (лат.).
7 Sed quando sub movenda erit ignorantia — а когда уничтожат невежество (лат.).
Метка: Издательство Ивана Лимбаха
Философия шоколадной ванны
- Филипп Перро. Роскошь: Богатство между пышностью и комфортом в XVIII–XIX веках. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 288 с.
В этой книге француз Филипп Перро предлагает нам вместе с ним поразмышлять о феномене сейчас, казалось бы, не слишком актуальном — о роскоши. До того как сборник попал мне в руки, в интернете появилась новость о создании и выставлении на продажу настоящей ванны из бельгийского шоколада стоимостью пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Вещь совершенно бесполезная и вопиюще непрактичная. Однако едва ли при Людовике XVIII кто-либо осмелился бы усомниться в ее необходимости. Истинное понимание значения роскоши нами утрачено, а значит, и определенная связь с предками и историей.
Филипп Перро рассказывает о зависимости философии роскоши от времени. Роскошь как святыня или как знак особого (королевского например) достоинства не вызывала у черни негодования: эти предметы призваны были ослеплять и очаровывать, являлись праздником, чем-то недосягаемым. Далее, к XVIII веку, роскошь, так сказать, спустилась на ступень ниже — и сделалась «двигателем экономического прогресса»: спрос на роскошь среди дворян рождал рабочие места. Экономисты и философы XVII–XVIII века: Кенэ, Тюрго, Кольбер, Вольтер, Руссо, Мандевиль, Паскаль и другие очень много размышляли о роли роскоши в подъеме национальной экономики и в гибели души.
Вскоре наступил демократический век, век прагматизма, и роскошь как человеческая эмоция, как изысканный грех стала исчезать из повседневности. «Отныне красота заключается не в роскоши, бессмысленной, бесполезной и эфемерной, а в ее подчеркнутом отсутствии», — пишет Перро. В то же время общественные классы сближались, и все больше людей получали доступ к тому, что англичане назвали комфортом. Так, изобретение нового способа серебрить столовые приборы сделало их доступными для буржуа. Но главное — принципиальная внутренняя разница между роскошью и комфортом. Роскошь — бесцельна; комфорт — практичен; роскошь — безумна; комфорт — разумен, роскошь — трата энергии, комфорт ее экономит. Эта тенденция сохранилась и до наших дней: и традиционная, ритуальная роскошь, и безудержная роскошь богачей кажутся сегодня архаичными. Какое-то время еще существовала скромная роскошь буржуа: строгая, но изысканная одежда, аксессуары, еда, — но в наши дни и эти различия стираются. Стоит вспомнить, что у многих модных домов есть свои коллекции прет-а-порте.
Автор задается вопросом, куда же ушли те чувства, которые питали наше стремление к роскошному. И, отвечая на него, цитирует Сартра: «роскошь — это не качество предмета, которым владеют, но качество самого владения». Амбивалентность роскоши заключается в том, что в ней изначально заложена нехватка.
Делая редкими и, следовательно, дорогими такие ценности, как пространство, тишина или красота, наша современность еще дает иногда роскоши возможность проявить себя, но она тоже все в большей степени становится нематериальной, а ее конкретное воплощение кажется пародией. В сущности, она лишь метафора.
Перро писал об отношении к вещам, а получилась книга об эволюции человеческих эмоций.
Скороговоры за жизнь
- Гильермо Кабрера Инфанте. Три грустных тигра / Пер. с исп. и коммент. Д. Синицыной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 576 с.
Вот я читал книги, и теперь у меня глаза больные, к тому же я представляю, как несовершенно устроен мир, и настроение у меня постоянно испорчено <…>
Зачем вам проблемы, как у меня?Андрей Аствацатуров
Куба, даже Гавана, всегда будет являться объектом пристального внимания романтиков, настроенных на волну болеро. Местом, известным шумными карнавалами и вечеринками, где легко встретить как начинающую певичку, так и Звезду, полноголосую и полнотелую. Не перестанет называться и родиной революции, оплотом социалистического режима, от которого бежал разочаровавшийся в нем писатель Гильермо Кабрера Инфанте. Его экспериментальный метароман «Три грустных тигра», созданный в 1967 году, — еще один шаг на пути к познанию латиноамериканской истории и культуры.
По словам потомственного филолога и писателя Андрея Аствацатурова, главная задача литературы заключается в ответственности перед языком. Книга «Три грустных тигра» с ней справляется, существуя по синтаксическим законам созданного специально для романа наречия, которое приправлено гаванскими жаргонизмами и кубинскими диалектами, а также вставными конструкциями, загадками, шарадами, палиндромами и скороговорками. Одна из них и вынесена в заголовок: три грустных тигра едят пшеницу на пшеничном поле* — «трес тристес тигрес…» — свистящая, но вместе с тем по-испански мелодичная.
К прочтению этого романа нужно готовиться заранее, как к знакомству с «Улиссом» Джеймса Джойса, опубликованным на полвека ранее. Претензии из разряда «трудно читать» принимаются и дополняются: «трудно переводить» и «трудно писать». Эти «трудно» — три тигра, на которых и строится проза, способная перевернуть сознание.
Излишне детализированные истории множества второстепенных персонажей путаются в голове, заставляя то и дело оглядываться назад, сопоставлять реплики героев, водить пальцем по слепым — без знаков препинания — строкам, отыскивая конец прямой речи. Фабула книги — фон для языка, а описания латиноамериканского быта — фракции, из которых складывается большая мозаика многоголосой Гаваны.
Три грустных героя (кажется, их несколько больше) — писатель Сильвестре, актер Арсенио Куэ и гениальный поэт Бустрофедон, — не переставая создавать литературные и коммуникативные препятствия всем, кто встречается друзьям на пути (пока смерть не разлучит их), кочуют из бара в бар, слушают музыку, «поводя открытой ладонью вниз на пианиссимо, спускаясь по невидимой, воображаемой музыкальной лестнице», пьют прохладительные напитки и знакомятся с девушками. Последние хоть и прекрасны, но пусты и не способны оценить глубину языка, юмора, аллюзий и «внутренних шуток».
— Вы такие странные.
— Кто это мы?
— Ты и этат твой приятиль. Куэ.
— Почему?
— Нипачиму. Странные и все. Говорите всяка страннае. Делаите все как-та странна. И все адинакава, как два брата прям. Гаварят и гаварят и гаварят. Зачем столька-та?Впрочем, не только они не способны.
Язык, понятный троим, родился из игр, в которых Бустрофедон, Бустрофонема, Бустроморфоза, Бустроморфема все перевирал, и друзья сначала «не различали, в шутку он это или всерьез, да и потом не знали, в шутку ли, подозревали, что всерьез, что он абсолютно серьезен, потому что дело уже не ограничивалось феко с коломом… от готан — танго навыворот — он произвел барум — румба наоборот, и танцуют ее вверх тормашками, вниз головой, вихляя коленками, а не бедрами…»
Случается, разговариваешь с челове-Куэ-м, казалось бы, о понятных вещах, а он смотрит на тебя (ресницы — вверх-вниз) и молчит в ответ, а то и вовсе подключает свои лексические возможности. Тогда очередь затихнуть к тебе переходит. И так — пока не надоест. А после трепанации выяснится, что у тебя, как у Бустрофедона, патология (он бы сказал «потолокия») и что-то давило тебе на мозг, заставляя играть словами, «словом, жить, называя все новыми именами», будто и вправду изобретая новый язык.
А тиграм, действительно, грустно, особенно если знают еще одну версию скороговорки: три грустных тигра поедают три корзины с пшеницей и давятся**. Бывает, и насмерть.
* Три грустных тигра едят пшеницу на пшеничном поле (исп. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal).
** Три грустных тигра поедают три корзины с пшеницей и давятся (исп. Tres tristes tigres tragaron tres tazas de trigo y se atragantaron).
Жан Эшноз. 14-й
- Жан Эшноз. 14-й / Пер. с фр. Н. Мавлевич. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 128 с.
«14-й» Жана Эшноза, по признанию французской критики, вошел в список самых заметных
романов 2012 года. Картины войны, созданные на документальном материале дневниковых записей, под пером писателя-минималиста
приобретают эмблематические черты.
Для русских читателей его публикация —
возможность прикоснуться к теме, которая, в
силу исторических причин, не особенно хорошо развита в отечественной литературе.7 В час дня на обычной в конце лета для департамента Марна небесной синеве появляется еле заметная мошка.
Давайте устремимся мысленно навстречу жужжащей точке: по мере приближения
она становится все больше, пока не превратится в самолетик — двухместный биплан «Фарман 37»* c пилотом и наблюдателем, сидящими друг за другом в жестких
креслах и едва-едва прикрытыми стеклянным козырьком. В то время еще не существовало закрытых кабин, и ветер нещадно хлестал в лицо авиаторам; они словно
находились на крошечной смотровой площадке, с которой открывался вид на то, как
сближаются войска враждующих сторон:
вот колонны грузовиков и пехотинцев, артиллерия, обозы, стоянки и лагеря.Под крыльями самолета, на земле, где
все это ползет и рокочет, где шагают, обливаясь потом, солдаты, — жуткая жара,
один из последних августовских рецидивов, перед тем как лето резко повернет к
осени. Но наверху, в небе, куда холоднее,
поэтому на авиаторах особый костюм.Помимо шлема и больших защитных
очков, на них надеты черные прорезиненные комбинезоны с подкладкой из кроли-
чьего или козьего меха, кожаные куртки
и штаны, утепленные перчатки и сапоги, —
в таком наряде летчики похожи друг на
друга, тем более что неприкрытыми только и остаются щеки, подбородок да губы,
которыми они шевелят, пытаясь что-то сказать, но лишь мычат — ни внятно выговорить, ни расслышать что-либо не получается, слова заглушает рев мотора и рвет в
клочья тугая воздушная струя. Ни дать ни
взять пара оловянных солдатиков, отлитых в одной форме, с едва заметным швом
по бокам, и только коричневый шарф на
шее наблюдателя по имени Шарль Сез отличает его от пилота Альфреда Ноблеса.Они почти не вооружены, шестидесяти килограммов бомб, которые биплан
способен унести, нет на борту, а пулемет —
одна видимость. Он хоть и укреплен на
фюзеляже, но от него мало толку: целиться
и перезаряжать его на ходу довольно трудно, да и система синхронизации стрельбы
с вращением винта не отлажена.Впрочем, задача летчиков — всего лишь
воздушная разведка, и хоть дело это совсем
новое и оба еле-еле обучены, но они не боятся. Ноблес управляет машиной, поглядывая на компас и приборы, которые указывают высоту, скорость и угол крена; у Шарля
Сеза на коленях штабная карта, на шее бинокль и тяжелый аппарат для аэрофотосъемки, их ремешки перепутались с шарфом. Они осматривают местность, наблюдают — и всё.Истребители, бомбардировщики, запретные для полетов противника зоны,
бои с дирижаблями, плен — ничего этого
еще нет, но появится очень скоро, и вот
тогда все станет неизмеримо серьезнее.
Пока же их дело смотреть: фотографировать и отмечать на карте передвижения
войск, цели для артиллерии, расположение
окопов, аэродромов и ангаров с цеппелинами, а также складов, гаражей, командных
пунктов, мест скопления живой силы.Вот они и летят, глядя в оба, но вдруг
далеко позади и слева от «фармана» возникает еще одна еле заметная мошка, Ноблес
и Сез ее не замечают, меж тем она все увеличивается и вырисовывается яснее. Это
обтянутая парусиной деревянная конструкция, украшенная черными крестами на
крыльях, хвосте и тележке шасси, с дюралюминиевым фюзеляжем — двухместный
«авиатик», и траектория его полета относительно «фармана» не оставляет никаких
сомнений в том, каковы его намерения.
Когда «авиатик» приблизился, Шарль Сез
разглядел торчащий из кабины и прямо на
него направленный карабин, о чем он тут
же сообщил Ноблесу.Шли первые недели войны, в ту пору
самолеты были только новомодным видом
транспорта, в военных целях их никто еще
не применял. Да, на «фармане» был установлен пулемет «гочкисс», но пока только
в экспериментальных целях и без патронов, то есть непригодный для боя, поскольку официально использование подобного
оружия в авиации тогда еще не разрешалось — не столько из-за перегрузки, сколько из опасения, что враги перехватят идею
и тоже снабдят им свои самолеты. Пока же
этот запрет не был снят, пилоты, из предосторожности и не ставя в известность
начальство, брали с собой карабины или
пистолеты. Поэтому, едва лишь экипаж
увидел ствол, Ноблес накренил аппарат и
ушел в сторону, а Шарль выхватил из кармана комбинезона пистолет «саваж», специально для стрельбы в воздухе обмотанный сеткой, не позволяющей гильзам попасть в лопасти винта.Несколько минут «авиатик» и «фарман» летели то выше, то ниже, расходились, снова сходились почти вплотную, не
упуская друг друга из виду и проделывая
нечто похожее на то, что потом будет называться фигурами высшего пилотажа:
петля, бочка, штопор, иммельман, — каждый норовил перехитрить другого и найти
благоприятный для стрельбы угол атаки.
Шарль, вжавшись в сиденье, держал пистолет обеими руками, стараясь поточнее прицелиться, тогда как вражеский наблюдатель, наоборот, постоянно водил стволом
карабина. Вот Ноблес резко набрал высоту,
«авиатик» преследует его, проскальзывает
у него под брюхом и, сделав крутой вираж,
взмывает вверх прямо перед ним, в таком
положении Шарль не может стрелять, поскольку между ним и кабиной «авиатика»
оказывается его собственный пилот, Ноблес. В этот миг раздается ружейный выстрел, и пуля, пролетев двенадцать метров на
высоте семисот и со скоростью тысячи в
секунду, вонзается в левый глаз Ноблеса и
выходит под правым ухом; «фарман», потеряв управление, на секунду зависает и
начинает все сильнее крениться вниз, а
вскоре уже просто пикирует; Шарль, широко раскрыв глаза, смотрит поверх завалившегося набок тела Альфреда, как приближается земля, сейчас он врежется в нее и
разобьется — надежды нет, смерть неизбежна и неотвратима; сегодня там, на месте
крушения в регионе Шампань—Арденны,
раскинулась живописная деревушка Жоншери-сюр-Вель, жителей которой называют жоншавельжанами.8 Зарядили дожди, промокший ранец удвоил вес, свирепый ветер взвихрял воздушные валы, холодные и плотные настолько,
что они, казалось, вот-вот застынут ледяными столбами. В такой жестокой стуже
подошли к бельгийскому рубежу. Здесь
горел огромный костер — таможенники
развели его в первый день войны и с тех
пор постоянно поддерживали; вокруг него,
как можно ближе к огню, и расположились
на ночь солдаты, на голой земле, тесно прижавшись друг к другу. Как же завидовал
Антим этим таможенникам, их легкой, безопасной, как он думал, службе, их теплым
кожаным спальным мешкам. А еще больше стал завидовать потом, когда на третий
день пути они расслышали артиллерийскую канонаду, звук которой все нарастал:
протяжный низкий гул и временами ружейный треск — видимо, перестрелка между патрулями.Не успели солдаты привыкнуть к стрельбе, как оказались на переднем крае, в холмистой местности неподалеку от селения
Мессен. Теперь предстояло войти в это
пекло, и только тут они действительно поняли, что им придется драться, идти в бой.
Антим всерьез поверил в это лишь тогда,
когда рядом разорвался первый снаряд.
Поверив же, внезапно ощутил страшную
тяжесть всего, что он нес на себе: оружия,
ранца, даже перстня на мизинце — всё стало весить добрую тонну, и от этого не только не приглушалась, а, напротив, усиливалась боль в запястье.Скомандовали «вперед», и Антим, увлекаемый товарищами, очутился посреди
самого что ни на есть настоящего поля боя,
плохо соображая, что надо делать. Босси
был рядом, они переглянулись, Арсенель
позади поправлял ремень, Падиоло сморкался, и его лицо было белее полотняного
платка. Новый приказ — и они побежали,
все, кроме двух десятков человек, которые
остались на месте и встали в кружок, не
обращая ни малейшего внимания на взрывы. То были полковые музыканты, их дирижер застыл с воздетой белой палочкой
и опустил ее, выпуская на волю «Марсельезу»; оркестр был призван обеспечить
бравый аккомпанемент атаке. Противник
занял оборону в лесу и, прикрытый деревья ми, поначалу сдерживал атакующих,
но в бой вступила артиллерия, на врагов
посыпались снаряды, после чего наступление возобновилось. Бежали, неуклюже
пригнувшись, с тяжелой винтовкой на перевес и вспарывая ледяной воздух штыками.Как оказалось, рванули раньше времени да к тому же совершили ошибку: высыпали всей массой на пересекавшую поле боя
дорогу. Дорога эта — пустая полоса, отличная и хорошо пристрелянная цель для рас-
положенной за леском вражеской артиллерии. Несколько человек совсем рядом с
Антимом сразу упали, он увидел, как брызнули струи крови, но тут же постарался
выбросить из головы этот образ — вдруг
ему это только почудилось, тем более что
прежде он не часто видел кровь, во всяком
случае, не столько и не бьющую фонтаном.
Однако было не до размышлений, Антим
прикладывал все силы, чтобы заставить
себя выстрелить туда, где смутно различался некто, называемый врагом, а главное,
чтоб отыскать хоть какое-нибудь укрытие.
Дорога подвергалась методичному обстрелу, но кое-где ее обступали деревья, так
что можно было ненадолго нырнуть под
их защиту.Но только очень ненадолго: покорные
отрывистым командам, первые ряды пехоты сошли с дороги прямо в овсяное поле;
теперь солдатам грозило получить в спину,
помимо вражеских пуль, свои, оплошно
выпущенные товарищами по оружию; неразбериха воцарилась полная. В первых
боях еще недоставало опыта, это поздней,
во избежание таких ошибок и чтобы наблюдатели могли опознавать своих, придумают нашивать большой белый лоскут на
спину шинели.Оркестр выполнял свою миссию, баритонисту прострелили руку, тромбонист, тяжело раненный, упал, но музыканты сомкнули поредевший круг и продолжали, пусть
меньшим составом, наяривать «Марсельезу» без единой фальшивой ноты; когда они
в очередной раз дошли до «окровавленного стяга», флейтист и альтист упали мертвыми.Артиллерийское прикрытие постоянно
запаздывало, поэтому рота за целый день
так и не смогла существенно продвинуться,
каждое движение вперед быстро сменялось
отходом. Только к вечеру последняя атака
увенчалась успехом — враг был выбит из
леса. Антим все это видел, и еще долго потом у него будет стоять перед глазами, как
люди всаживают друг в друга штыки, а после стреляют, чтобы с отдачей легче вытащить свой штык наружу. И сам он, скрючившись и выставив винтовку, готов был
колоть, разить, крушить что попало: людей, зверей, деревья, — в порыве недолгой,
слепой и абсолютной лютости; однако под
руку ничего не подвернулось. Подхваченный общей волной, не глядя по сторонам,
он обреченно бежал вперед, но удержаться на захваченной позиции не удавалось,
людская масса вновь откатывалась вспять;
сил не хватало, подкрепление никак не
подходило. Но всё это Антим сообразил
позднее, когда ему растолковали, что к
чему, а в тот момент, как бывает обычно,
он ничего не понимал.Таков был первый для него и всех его
товарищей бой, по окончании которого
несколько десятков человек, в том числе
капитана Вейсьера, двух каптенармусов и
унтер-офицера нашли мертвыми, не говоря о раненых — их выносили на носилках
до самой ночи. Понес потери и оркестр:
одного из кларнетистов ранило в живот,
барабанщика — в щеку, он рухнул с барабаном вместе, у второго флейтиста оторвало
половину кисти. А сам Антим, когда все
было кончено, обнаружил, что его миска
и котелок продырявлены пулями и такие
же дырки на кепи. У Арсенеля осколком
снаряда снесло верхушку ранца, другой
застрял внутри, разорвав ему китель. Как
оказалось после переклички, рота недосчиталась семидесяти шести человек.На рассвете начался новый переход,
шли весь день, по большей части лесом,
идти было труднее, утомительнее, зато солдаты были скрыты от вооруженных биноклями глаз полевых разведчиков и зорких
воздушных наблюдателей с самолетов и
аэростатов. На земле попадалось все больше трупов, брошенных винтовок и амуниции, раза два или три пришлось схватиться с противником, но, к счастью, это были
лишь короткие, хаотичные перестрелки,
не столь кровопролитные, как побоище
под Мессеном.Так продолжалось всю осень, и под конец люди переставляли ноги уже автоматически, забыв, что куда-то идут. Это было не
так уж и плохо: какое-никакое занятие, телесный механизм работает, зато свободна
голова — думай, о чем хочешь, а хочешь —
ни о чем не думай, но зимой все застопорилось. Противники так долго теснили друг
друга, что измотались вконец, линия фронта чрезмерно растянулась, противоборство
обернулось противостоянием, и с наступлением морозов еще недавно двигавшиеся
войска словно сковало льдом по длинной
линии от Швейцарии до Северного моря.
Где-то на этой линии застыла и рота Антима, парализованная, оцепеневшая, осевшая в запутанном траншейном лабиринте.
В принципе, изначально траншеями должны были заниматься инженерные войска,
но на деле пехотинцам приходилось окапываться самим, иначе зачем бы они таскали на спине лопатки и кирки, не просто
же для украшения ранца. А дальше каждый
день они старались убивать как можно
больше вражеских солдат, удерживая за
собой тот минимум квадратных метров,
который требовали командиры, зарываясь
в землю все больше и больше.
* Этот тип самолета выпускался лишь начиная
с 1916 г. В переводе сохранены допущенные автором неточности.
Борис Херсонский. Месса во времена войны
- Борис Херсонский. MISSA IN TEMPORE BELLI / Месса во времена войны. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 96 с.
По-пророчески седовласый Борис Херсонский в одном из интервью, ссылаясь на знакомого, сказал, что «стихи нужно уметь ловить». Над лучшими из них поэту не приходится работать, они появляются сразу. «Месса во времена войны» – сборник именно таких стихов. Лучших, тех, в которых слышно первое дыхание. Произнесенные вслух выразительные строки врезаются в память и всплывают в голове как печальное свидетельство времени. «В начале было Слово и больше не надо слов», – пишет Херсонский. Едва ли кто-то скажет точнее.
* * *
Первыми механизмами были машины войны:
стенобитные бревна с медными головами баранов,
катапульты и прочая хрень были сотворены,
чтоб убивать людей, выполняя волю тиранов.
Первыми сооружениями, которые знаем мы,
были гробницы владык, сохранявшие их останки.
С тех пор над военной техникой немало трудились умы.
Броня крепка и поворотливы танки.
И стоят гробницы тиранов посреди площадей.
И мумии их лежат, излучая загробную силу.
Когда-то в их склепы клали женщин и лошадей.
Сегодня они за собою народы сводят в могилу.* * *
В массовое движение
вступаешь, как в воды Крещения.
Но — входишь одним, выходишь другим:
замаранным ложью, безумным, нагим.
Не голубь, а ворон сидит на плече,
и кровь запеклась на небесном луче.
Человек, нет тебе прощения….* * *
На черной площади жечь черные автопокрышки.
Глотать черный дым — до одышки или отрыжки.
Но жить под ярмом — ни за какие коврижки,
ни за какие денежки, ни за какие льготы,
ни за посулы хорошей жизни и легкой работы,
ни за чиновное кресло, ни за долю в неправом деле.
Сейчас мы это видим, но куда мы раньше глядели?
А раньше мы не глядели, все думали — обойдется,
даже кошка на доброе слово ведется,
трется о ногу тирана, выгибает спину,
мурлычет себе под нос: Боже, храни Украину!
А он бы хранил, ничто не трудно для Бога,
да жаль, что Бог — один, а мы ему — не подмога.* * *
Восходит Солнце Истории. Люди кричат: «Виват!»
Ты тоже кричишь «Виват», а значит — не виноват.
Холод тебя не возьмет, пламя не опалит,
поскольку ты командир и есть у тебя замполит.
И есть у тебя рядовые — шлем к шлему и щит к щиту.
И есть у тебя приказ — отстоять-защитить тщету.
И Солнце Истории светит, и дело идет на лад,
и снайпер на крыше к плечу прилаживает приклад.* * *
Значит, кто-то должен стоять на морозе под небом,
а с неба
не дождешься ни белого голубя, ни просто белого снега,
который бы освятил и немного согрел
всю темень и холод, весь страх и надежды стоящих
вплотную тел,
все молитвы стоящих вплотную душ,
попавших под артобстрел.
Значит, кто-то должен стоять за себя и за нас, по стойке
«вольно», поскольку «вольному воля» способствует
стройке
баррикад, что костью в горле у тирании торчат,
кто-то должен глотать костров свободы угарный чад,
не надеясь на благодарность от детей и внучат.
Трудно увидеть, что над ними, как и над их отцами,
летают ангелы с мученическими венцами,
для венцов найдется немало лихих, неповинных голов.
Апостолы-рыбари! Вот идет косяком улов.
В начале было Слово и больше не надо слов.
Гильермо Кабрера Инфанте. Три грустных тигра
- Гильермо Кабрера Инфанте. Три грустных тигра / Пер. с исп. и коммент. Д. Синицыной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 576 с.
«Три грустных тигра» (1967) – один из лучших романов «латиноамериканского бума», по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Игра в классики» Хулио Кортасара и «Сто лет одиночества» Гарсии Маркеса. Сага о ночных похождениях трех друзей по предреволюционной Гаване 1958 года озаглавлена фрагментом абсурдной скороговорки («Tres tristes tigres»), а подлинный герой этого эпического странствия – гениальный поэт, желающий быть «самим языком». Автор, ставивший своей задачей сочетать «Пруста с Ньютоном», говорил, что главной темой романа является кубинский язык: живое богатство устных говоров, местных словечек, англо-испанских гибридов, уникальных ритмов, интонаций, особого рода юмора, словесных и телесных жестов, неотделимых от пространства, в котором они родились – от Кубы и ее сердца – ночной Гаваны.
Она пела болеро
Чего же вы хотите от меня? Я почувствовал себя Барнумом
и последовал мудреным советам Алекса Байера. Мне подумалось, что Звезду нужно открыть — это слово вообще-то
придумали для Эрибо и, как бишь их, супругов Кюри, которые всю жизнь только и делают, что открывают элементы,
ради радия, ради радио, ради кино и телевидения. Я сказал
себе, надо намыть золото ее голоса из песка, в который его
заключила Природа, Провидение или что там еще, надо извлечь этот брильянт из горы дерьма, под которой он захоронен, и я устроил вечеринку, взятие штурмом, сходочку, как
сказал бы Рине Леаль, и тому же Рине я велел позвать всех
кого сможет, а остальных позову я сам. Остальные были Эрибо и Сильвестре и Бустрофедон и Арсенио Куэ и Эмси, тот
еще жополиз, но он мне вот так был нужен, он конферансье
в «Тропикане», а Эрибо привел Пилото и Веру и Франэмилио,
последнему должно было быть интереснее всего, он пианист,
очень тонко чувствующий и слепой, а Рине Леаль притащил
Хуана Бланко, хоть он и сочинитель музыки без чувства юмора (это я о музыке, не о Хуане, также известном как Йоханнес
Вайт, или Джованни Бьянко, или Жуан Бранко: он сочиняет
то, что Сильвестре и Арсенио Куэ и Эрибо — в те дни, когда
ощущает себя раскаявшимся мулатиком, — величают серьезной музыкой), и чуть ли не Алехо Карпентьера, и нам не
хватало только импресарио, но Витор Перла меня продинамил, а Арсенио Куэ напрочь отказался даже поговорить с
кем-нибудь на радио, на том все и застопорилось. Но я надеялся на рекламу.Вечеринку-невечеринку я устроил дома, в единственной
довольно большой комнате, которую Рине упорно называет
студией, и народ рано начал собираться, пришли даже люди,
которых я не приглашал, например Джанни Бутаде (или
что-то в этом роде), то ли француз, то ли итальянец, то ли
монакец, то ли помесь, король травы, не потому, что имеет
дело с сеном, а потому что имеет дела с марихуаной, именно
он как-то раз попытался стать апостолом для Сильвестре и
повел его слушать Звезду в «Лас-Вегас», когда все уже давно
ее знали, а он-то искренне считал себя ее импресарио, и с
ним пришли Марта Пандо и Ингрид Бергамо и Эдит Кабелл,
по-моему, это были единственные женщины тем вечером,
уж я позаботился, чтобы не появились ни Иренита, ни Манолито Бычок, ни Магалена, никакое другое создание из черной
лагуны, будь оно кентавром (полуженщиной, полулошадью —
сказочной зверюгой из ночной зоологии Гаваны, которую я
не могу и не хочу сейчас описывать) или, как Марта Велес,
крупная сочинительница болеро, полностью лошадью, и еще
пришел Джессе Фернандес, фотограф-кубинец, работавший
в «Лайфе», он как раз был на Кубе. Не хватало только Звезды.Я приготовил камеры (свои) и сказал Джессе, что он может взять любую, если ему понадобится, и он выбрал «Хассельблад», которую я купил недавно, и сказал, что хочет ее
сегодня испробовать, и мы пустились обсуждать качества
«Роллея» и «Хасселя», а потом перешли к преимуществам
«Никона» перед «Лейкой» и к тому, какой должна быть выдержка, и бумаге «Варигам», тогдашней новинке, и всему
тому, о чем мы, фотографы, говорим, это как мини и макси
и всякие моды для женщин, или иннинг и база для бейсбольных фанатов, или ферматы и тридцать вторые для Марты и
Пилото и Франэмилио и Эрибо, или печень, или грибки, или
волчанка для Сильвестре и Рине: темы для разбавления скуки, словесные пули, чтобы убивать время, когда оставляешь
на завтра мысли, которые можно высказать сегодня, бесконечно оттягиваясь, вот гениальная фраза, Куэ явно где-то ее
свистнул. Рине между тем обносил народ выпивкой, шкварками и оливками. И мы говорили, говорили, и время пролетело, и с криком пролетела мимо балкона сова, и Эдит Кабелл
крикнула: Чур меня! — и я вспомнил, я ведь сказал Звезде, что
собираемся в восемь, чтобы уж к половине десятого она пришла, и взглянул на часы, десять минут одиннадцатого. Я зашел на кухню и сказал: Спущусь за льдом, и Рине удивился,
потому что в ванне еще было полно льда, и я отправился искать по всем ночным морям эту сирену, обернувшуюся морской коровой, Годзиллу, распевающую в океанском душе,
моего Ната Кинг Конга.Я искал ее в баре «Селеста», между столиками, в «Закутке Эрнандо», словно слепой без белой трости (она была бы
ни к чему, там и белую трость не разглядеть), и вправду ослепнув, когда выпал под фонарь на углу Гумбольдта и Пэ, в «Митио», на террасе, где вся выпивка отдает выхлопной трубой,
в «Лас-Вегасе», стараясь не наткнуться на Ирениту или еще
на кого или еще на кого, и в баре «Гумбольдт», и, уже утомившись, я дошел до Инфанты и Сан-Ласаро и не нашел ее и там,
но по дороге назад опять завернул в «Селесту», и там, в глубине зала, оживленно беседуя со стеной, сидела она, пьяная
вдрызг, одна. Видимо, она все напрочь позабыла, потому что
одета была, как всегда, в свою сутану ордена Обутых Кармелиток, но, когда я подошел, она сказала: Здорово, милок,
садись, выпей, и улыбнулась самой себе от уха до уха. Я, конечно, глянул на нее волком, но она меня тут же обезоружила, Ну не могу я, друг, сказала она. Страшно мне: больно вы
городские, больно культурные, больно много чести для такой
черномазой, сказала она и заказала еще выпить, опрокидывая стакан, держа его, как стеклянный наперсток, обеими
руками, я сделал знак официанту, чтобы ничего не приносил,
и сел. Она снова мне улыбнулась и замурлыкала что-то, я не
понял, но это точно была не песня. Пойдем, сказал я ей, пойдем со мной. Нетушки, сказала она, фигетушки. Пошли, сказал я, никто там тебя не съест. Меня-то, то ли спросила, то
ли не спросила она, это меня-то съест. Слушай, сказала она
и подняла голову, да я первая вас всех съем вместе взятых,
раньше, чем кто-нибудь из вас пальцем тронет хоть один волосок моей аргентинской страсти, сказала она и дернула себя
за волосы, резко, серьезно и смешно. Пошли, сказал я, у меня
там весь западный мир тебя дожидается. Чего дожидается,
спросила она. Дожидается, чтобы ты пришла и спела, и тебя
услышат. Меня-то, спросила она, меня услышат, это у тебя
дома, они же у тебя еще, спросила она, ну так они меня и
отсюда услышат, ты тут за углом живешь, вот я только встану, и она начала подниматься у дверей и как запою от души,
они и услышат, сказала она, что не так, и упала на стул, не
скрипнувший, потому что скрип не помог бы ему, покорному, привыкшему быть стулом. Да, сказал я, все так, но лучше
пойдем домой, и напустил таинственности. Там у меня импресарио и вообще, и тогда она подняла голову или не подняла голову, а только повернула ее и приподняла тонкую
полоску, нарисованную над глазом, и взглянула на меня, и
клянусь Джоном Хьюстоном, так же взглянула Мобидита на
Грегори Ахава. Неужели я ее загарпунил?Честное слово, мамой клянусь и Дагером, я было подумал
свезти ее на грузовом лифте, но там ездят служанки, а я ведь
Звезду знаю, не хотел, чтобы она взъерепенилась, и мы вошли с парадного входа и вдвоем погрузились в маленький
лифт, который дважды подумал, прежде чем поднять такой
странный груз, а потом прополз восемь этажей с печальным
скрипом. С площадки было слышно музыку, и мы вошли в
открытую дверь, и первое, что услышала Звезда, был этот
сон, «Сьенфуегос», а в середине стоял Эрибо и все распространялся насчет монтуно, а Куэ одобрительно покачивал
мундштук во рту вверх-вниз, а Франэмилио у двери, заложив
руки за спину, держался стенки, как делают слепые: чувствуя,
что они и в самом деле здесь, больше подушечками пальцев,
чем ушами, и, завидев Франэмилио, Звезда взвивается и кричит мне в лицо свои любимые слова, выдержанные в спирте:
Черт, ты меня обманул, зараза, а я ничего не понимаю, да
почему, говорю, а она, Потому что здесь Фран, а он точно
пришел играть на пианино, а я под музыку не пою, понял
ты, не пою, и Франэмилио услышал и, прежде чем я собрался с мыслями и смог сказать себе, Да она, мать ее, совсем
чокнутая, сказал своим нежным голосом, Проходи, Эстрелья,
заходи, ты у нас за музыку, и она улыбнулась, и я велел выключить проигрыватель, потому что прибыла Звезда, и все
обернулись, и люди с балкона зашли внутрь и зааплодировали. Вот видишь? сказал я ей, вот видишь? но она не слушала и уже совсем собиралась запеть, когда Бустрофедон вышел
из кухни с подносом стаканов и за ним Эдит Кабелл с еще
одним подносом, и Звезда на ходу взяла стакан и спросила у
меня, А эта что тут делает? и Эдит Кабелл услышала и развернулась и сказала, Я тебе не «эта», понятно, я не ошибка
природы, как некоторые, и Звезда тем же движением, которым брала стакан, выплеснула его содержимое в лицо Франэмилио, потому что Эдит Кабелл увернулась, а уворачиваясь,
споткнулась и попыталась уцепиться за Бустрофедона, схватила его за рубашку, и он запутался в ногах, но, поскольку он
очень подвижный, а Эдит Кабелл занималась пластическим
танцем, никто из них не упал, и Бустрофедон раскланялся,
как воздушный акробат после двойного сальто мортале без
страховки, и все, кроме Звезды, Франэмилио и меня, зааплодировали. Звезда, потому что извинялась перед Франэмилио
и вытирала ему лицо своим подолом, задрав юбку и открывая огромные темные ляжки теплому воздуху вечера, Франэмилио, потому что был слепой, а я, потому что закрывал
дверь и просил всех успокоиться, уже почти полночь, а у нас
нет разрешения на проведение вечеринки, полиция нагрянет, и все замолчали. Все, кроме Звезды; закончив извиняться перед Франэмилио, она повернулась ко мне и спросила,
Ну и где твой импресарио, и Франэмилио, не успел я что-нибудь придумать, возьми и скажи, А он не пришел, потому что
Витор не пришел, а Куэ разругался со всеми на телевидении.
Звезда бросила на меня взгляд, исполненный серьезного лукавства, и глаза у нее стали той же ширины, что брови, и
сказала, Значит, обманул все-таки, и не дала мне поклясться всеми моими предками и былыми мастерами, начиная с
Ньепса, что я не знал, что никто не пришел, в смысле, что
импресарио не пришел, и сказала мне, Ну так я и петь не
буду, и отправилась на кухню чего-нибудь себе налить.Стороны, похоже, были едины в своем решении: и Звезда, и мои гости были рады позабыть, что живут на одной
планете, она на кухне пила и ела и гремела, а в комнате теперь Бустрофедон сочинял скороговорки, и я услышал одну,
про трех грустных тигров в траве, и проигрыватель пел голо сом Бени Море «Санта-Исабель-де-Лас-Лахас», а Эрибо
наигрывал, стучал по моему обеденному столу и по стенке
проигрывателя и объяснял Ингрид Бергамо и Эдит Кабелл,
что ритм — это естественно, как дыхание, говорил он, всякий
обладает ритмом так же, как всякий обладает способностью
к сексу, а ведь, как вы знаете, есть импотенты, мужчины-импотенты, говорил он, и фригидные женщины, но никто из-за
этого не отрицает существование секса, говорил он, Никто
не может отрицать существование ритма, просто ритм, как
и секс, — это естественно, и есть люди приостановленные,
так и выражался, которые не умеют ни играть, ни танцевать,
ни петь в такт, и в то же время есть люди, лишенные этого
тормоза, и они умеют и танцевать, и петь, и даже играть на
нескольких ударных инструментах зараз, говорил он, и точно так же, как с сексом, ведь вот примитивные народности
не знают ни импотенции, ни фригидности, потому что им
незнакома стыдливость в сексе, и так же, говорил он, им незнакома стыдливость в ритме, вот почему в Африке у людей
столько же чувства ритма, сколько чувства секса, и, говорил
он, я так считаю, если человеку подсунуть специальный наркотик, не обязательно марихуану, ни боже упаси, а вот, к
примеру, мескалин, выговаривал он снова и снова, чтобы
все знали, что он такое слово знает, или ЛСД, заорал он поверх музыки, то он сможет сыграть на любых ударных относительно неплохо, так же как любой пьяный может относительно неплохо танцевать. Это если на ногах устоит,
подумал я и сказал себе, чтó за словесный понос, вот говно-то, и, когда я додумывал эту мысль, как раз когда я додумывал это слово, из кухни вышла Звезда и сказала, Вот говно-то
Бени Море, и побрела со стаканом в руке, на ходу выпивая,
в мою сторону, а все слушали музыку, разговаривали, беседовали, а Рине бился на балконе, вступил в любовную схватку, в Гаване это называют «биться», и она уселась на пол, прикорнула у дивана, а потом разлеглась с пустым стаканом и
задвинулась под диван, а диван был не новый, что с него
взять, кубинский, старенький, деревяшка да две соломинки,
целиком забралась под него и уснула, и я слышал там, под
собой, храп, словно вздохи кашалота, и Бустрофедон, который
Звезды не заметил, сказал мне, Ты что, старик, матрас надуваешь, имея в виду (я-то его знаю), что я пержу, и мне вспомнился Дали, который сказал, что ветры суть вздох тела, а мне
стало смешно, потому что раз так, то вздох есть ветры души,
а Звезда все храпела, и на все ей было плевать, и выходило,
что опростоволосился вроде один я, и я встал и пошел на
кухню выпить, выпил в молчании и молча направился к
дверям и ушел.
Хочу в тюрьму
- Матей Вишнек. Господин К. на воле / Пер. с румынского Анастасии Старостиной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 304 с.
Известному драматургу, писателю и поэту Матею Вишнеку необычайно повезло: ему было суждено родиться в Румынии — на родине Эжена Ионеско, главного деятеля театра абсурда, и стать его продолжателем. Философские пьесы Ионеско, полные экзистенциального трагизма и лингвистических экспериментов, стали основным экспортным продуктом румынской литературы, обойдя по популярности и эссе-размышления Эмиля Чорана, и сложнейшую поэзию Пауля Целана.
Драматургические работы Вишнека не были по достоинству оценены на его родине, ни за одну из них не взялись румынские театральные режиссеры. После десяти лет безуспешных попыток добиться сценических постановок Матей Вишнек вынужденно эмигрировал во Францию. Постепенно его проза и пьесы становятся популярными во всем мире, а критики называют румынского диссидента «самым значительным драматургом после Ионеско».
В России пьесы Матея Вишнека выходили небольшим тиражом в конце 2000-х, позже был опубликован роман «Синдром паники в городе огней», и вот теперь Издательство Ивана Лимбаха выпустило еще одно сочинение автора — роман «Господин К. на воле». Основным популяризатором творчества Вишнека стал журнал «Иностранная литература», опубликовавший в 2009 году его пьесы. Неудивительно, что и «Господин К.» также первый раз вышел в журнальном варианте, в мартовском номере «Иностранки» 2014 года.
Если удачный реалистический роман привлекает читателей прежде всего интересным сюжетом, проработкой характеров персонажей, наконец, необычным или, напротив, традиционным слогом, то в словесности абсурда все обстоит несколько иным образом. Не обходя стороной литературные достоинства, внимательные читатели хорошего абсурдистского романа отметят в произведении такие важнейшие качества этого жанра, как гуманистический посыл и исключительную четкость изображения даже мелких деталей.
В «метафорическом», многозначном тексте значение имеет все — от одежды главного героя до эпизодического описания мусорной свалки. Любой качественный роман литературы абсурда, как, например, «Господин К. на воле», с обманчивостью фокусника демонстрирует читателям одну тему, и они сами не замечают, как постепенно возникает множество вопросов — странных, неприятных, но невероятно важных.
«Господина К. на воле» нельзя назвать легким, беллетристическим романом, предназначенным для снятия накопившегося напряжения и отдыха ума. Желчное, въедливое, жесткое перо Матея Вишнека предлагает альтернативу: спокойное существование в несвободе или полная опасностей жизнь за тюремными стенами. Поиск решения для столь серьезной, говоря языком художественного реализма, «проклятой» задачи составляет основу рефлексии главного героя Козефа Й., проходящего по кругам коллективного ада — мрачного и равнодушного ко всему мира людей-номеров, людей-автоматов.
Начало романа предельно обыденно — арестанта Козефа Й. освобождают из тюрьмы. По законам классической прозы автор начал бы описывать, как главный герой мучительно и долго встает на путь истинный, либо вновь нарушает общественные предписания и садится в тюрьму, где заканчивает свои дни в тягостных раздумьях о вечности. На основе подобного сюжета легко создать рассказ, но выбор романной формы был бы существенным риском.
Совсем не то происходит в произведении Матея Вишнека: люди, только исполняющие свои функции, существуют словно в другом измерении, на «чужой земле». Последнее выражение не раз применялось по отношению к абсурдистским драматургам, например к Гарольду Пинтеру. Мистическая атмосфера «Господина К. на воле», когда самые обыкновенные ситуации обретают статус предзнаменований, создается приемами, присущими классическим произведениям этого направления:
«Козефу Й. не удалось совладать с собой. Куда не ушел? Еще никто не сказал ему, куда он должен уйти. Он-то очень даже расположен уйти, он хочет уйти. Но с формальностями что-то никто не торопится. Откуда ему знать, что надо делать, куда надо явиться и что именно надо просить? Никто ничего ему не сказал. Почему никто ничего ему не сказал? Что они имеют против него? Сколько ему еще терпеть эту неопределенность, как они думают? Знают ли они, что он пережил хотя бы сегодня вечером? Хоть кто-нибудь проследил, что он делает? Никто. Как такое возможно?..»
В тексте романа почти физически ощущается нехватка воздуха, по Мандельштаму, основного и неотъемлемого компонента правды, свободы. Российский поэт и румынский писатель сходятся в своем неприятии диктата над толпой, масс перед человеческой индивидуальностью.
Герой романа Козеф Й. постепенно теряет человеческий облик, путешествует по заколдованной местности, лелея надежду вновь попасть в тюрьму. Реальная жизнь, где ему приказывают кричать в рупор на собрании безумцев, изучать странное поведение окружающих, бить заключенных и подозревать в лицемерии даже собственную мать, кажется Козефу Й. невыносимей равнодушия и однообразия тюремных стен. В камере он имеет свой кусок хлеба и условное общение. А что может предложить ему свободная жизнь?
«Мелкий человечек оказался прав. Люди стали умирать от голода.
Каждое утро, когда гроздья тел разделялись, на полу общей спальни оставались самые хрупкие плоды демократии. Свернувшиеся в клубок трупы надо было закапывать, и могильщиков выбирали жеребьевкой. Замерзший грунт туго поддавался киркам и лопатам. Каждую яму приходилось силком выдалбливать в упрямой плоти земли. Люди уже проклинали мертвых. Живые возненавидели мертвых. Неделю за неделей живые ожесточенно боролись с мертвыми».Главного героя романа Матея Вишнека «Господин К. на воле» побеждает Левиафан несвободы. Йозеф К. предпочитает отойти в сторону уже, по-видимому, навсегда. Впрочем, французский писатель румынского происхождения не дает готовых ответов на все вопросы и с помощью приема недосказанности оставляет финал открытым.
Матей Вишнек. Господин К. на воле
- Матей Вишнек. Господин К. на воле / Пер. с рум. А. Старостиной. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 304 с.
Роман «Господин К. на воле» румынского писателя, живущего во Франции, Матея Вишнека — реплика на «Процесс» Франца Кафки, но Кафка наизнанку. У Кафки Йозефа К. арестовывают, у Вишнека Козефа Й. выпускают на свободу. «Кафкианский» процесс выписки из тюрьмы занимает всю книгу. Тема чрезвычайно актуальная: человек, получивший свободу, не знает, что с ней делать, да и выпускают-то его условно.
Неспешное, с искусным поддержанием саспенса и атмосферы наваждения, описание каждодневной жизни освобожденного сочетается с отменным остроумием, драматургическим умением сводить сюжетные
ходы, с игрой на парадоксах — во всем виден автор
первоклассной интеллектуальной литературы, гражданин мира с опытом жизни при тоталитаризме.1.
В одно прекрасное утро Козефа Й. освободили. Сначала залязгали цепи от двух замков, на которые запирался лифт. Потом открылись двери в конце коридора. Наконец, под крепкое словцо, заскрипела тележка, развозящая подносы с завтраком. Но только когда два старых охранника прошли мимо камеры Козефа Й. и не остановились, он понял, что происходит нечто странное.
Это серьезно озадачило Козефа Й. и в некотором смысле даже оскорбило. Такое случалось в первый раз — чтобы Франц Хосс со своим подручным Фабиусом прошли мимо его камеры, как будто его, Козефа Й., там не было. Форточки на окошечках, куда совалась еда, поднимались по очереди, и все другие знакомые звуки обозначали, в своем обычном ритме, строгий ритуал утреннего завтрака. Старый Франц Хосс горланил не умолкая и бил кулаком в кованые двери. Фабиус — тоже, как всегда, на взводе — не переставал бурчать, недобрым словом поминая «этих гнид-зэков».
Затем наступило минут пять тишины. Ничего, кроме глухого чавканья и кашля поперхнувшихся.
Козеф Й. спрыгнул с койки и заспешил к двери. Припал ухом к холодному металлу и прислушался. В его желудке начинались бунт и пульсация, как при позывах к рвоте. Он вдруг понял, что все остальные заключенные едят, все остальные 49 заключенных из остальных 49 камер едят, а он, 50-й, из 50-й камеры, по какой-то неизвестной причине забыт, забыт напрочь. В этот миг старый Франц Хосс снова возник в конце коридора.
Его шаркающую походку нельзя было спутать ни с чьей. Ботинки наждаком проходились по цементу, еще и царапая его подковками. Козеф Й. услышал, как эти ботинки приближаются к его камере — две зверюги, слегка покалеченные, но все еще источающие угрозу. «Не стряслось ли чего, не дай бог», — подумал Козеф Й. и, сам не зная зачем, отступил на шаг-другой, присел на край койки и затаил дух.
Франц Хосс открыл дверь, прислонился к косяку, поглядел улыбчиво и произнес:
— С добрым утром, господин Козеф Й.
— А? — выдохнул в ответ тот, к кому было обращено это приветствие, машинально вставая.
Франц Хосс вошел в камеру и принялся тщательно осматривать стены, то и дело недовольно покачивая головой. Раз приложил к стене обе ладони и постоял, как бы определяя степень ее влажности. Затем вздохнул и сел на край койки.
— Погода портится, — грустно сказал старый охранник. — Да, да. — И запустил руку в бороду, почесываясь.
Козеф Й. решил, что это ему снится. Во-первых, он не подозревал, что у старого Франца может быть такое лицо: усталое, спокойное в своей усталости, грустное и притом грустью теплой и человечной. Кроме того, казалось невероятным, что злющий охранник способен на такой умиротворенный и даже доверительный тон, — тон, который прямо-таки склонял поболтать с ним.
— Просто подыхаю от этих дождей, — услышал Козеф Й., как сквозь сон. — Раньше так не лило.
— А? — Козеф Й., застряв на этом междометии, очнулся. Он акал в оторопи уже второй раз, и ему стало неловко за свою неспособность поддержать беседу.
— Нет-нет, — продолжал тем временем, несколько оживившись, старый Франц. — Ясное дело, так никогда не лило.
В мозгу заключенного пулей пронеслось, одно за другим, несколько подозрений. «Убить меня хотят, что ли… Совсем сбрендили, что ли… Мама, что ли, приехала меня проведать?» На миг ему показалось, что он слышит свой голос, что он думает вслух. Но нет, он думал не вслух, потому что старый Франц все так же смирно сидел на краю его койки, запустив руку в бороду.
— Уже ноябрь, а после будет декабрь, — рассуждал Франц Хосс. Тут он посмотрел Козефу Й. в глаза, долго и настойчиво, как будто хотел по глазам угадать его мнение.
— Но в сентябре дождей не было, — вдруг сказал Козеф Й., сам удивившись, что заговорил.
— Как это не было? — вскинулся охранник.
— Не было дождей, — настаивал Козеф Й.
— Как это не было? — Охранник повысил голос, не переступая порог дружелюбия.
— Не было дождей, — упрямился Козеф Й. Он хотел добавить «не было — и точка», но не стал, он и так перегнул палку. И все же его окатило волной радости. Он вытянул из старого охранника целых два «как это?», что означало: ему хватило куражу возразить два раза. «Сейчас он мне заедет», — подумал Козеф.
Однако же Франц Хосс ему не заехал. Он только опустил глаза. Жалко было смотреть на его усталое, еще больше постаревшее лицо. Зачем он, Козеф Й., уперся: «не было дождей, не было»? Что за радость изводить старого и, не исключено, больного человека?
Из коридора до них донеслись неясные звуки. Кто-то, бормоча и приволакивая ногу, тащился вдоль ряда дверей. «Фабиус», — вздрогнул Козеф Й., и его мозг напрягся от неприятной мысли.
— Это Фабиус, — сказал старый охранник, как бы заглянув в мозг заключенного и желая его успокоить.
— С добрым утром, господин Козеф Й., — сказал Фабиус, поравнявшись с распахнутой настежь дверью.
Козеф Й. кивнул и отвел глаза. В конце концов, охранник может позволить себе все, что угодно. Если эти двум стариканам охота с ним здороваться, никто не может им помешать это сделать и здороваться с ним самым сердечным образом. И точно так же, если этим двум стариканам придет охота его отметелить и после каждого удара приговаривать «с добрым утром, господин Козеф Й.», никто не сможет им помешать исполнить это их намерение.
Но ни у Фабиуса, ни у его начальника Франца Хосса не было в то утро никаких дурных намерений. Фабиус остался стоять в дверном проеме, и лицо его выражало смешанные чувства — он словно бы стеснялся войти, хотя ему этого очень хотелось. Молчание тянулось несколько долгих секунд. Фабиус вынул пачку папирос, взвесил ее на ладони, потом предложил Францу Хоссу. Старый охранник вытащил папиросу с выражением глубокой признательности.
— А вы курите, любезный?
От этого вопроса Козефу Й. показалось, что его подхватил влажный циклон и несколько раз окунул с головой в воду. Он испытал какой-то сумбур чувств, что-то крайне неприятное, вроде ночного кошмара, который осознаешь.
— Так-то оно и лучше, — услышал он, как из далекого далека, голос Фабиуса.
Охранники закурили, и Козеф Й. понял, что Фабиус вот-вот положит пачку папирос обратно в карман. Вероятно, его минутное замешательство было воспринято как отказ.
— Нет-нет-нет, — зачастил он. — Я не откажусь.
— Беда с этим курением, — откомментировал Фабиус, протягивая Козефу пачку папирос. И добавил: — Особенно когда сыро.
— Так, так, — поддержал его Франц Хосс.
— Так? — переспросил Фабиус, обращая к начальнику веселое лицо.
— Ну да, ну да! — поддакнул Франц Хосс, и Козефу Й. явился фантастический образ двух охранников, улыбавшихся друг другу в глубоком взаимосогласии и сиявших счастьем.
— Отличная, — сказал тогда Козеф Й., вытягивая папиросу, — скорее для того, чтобы поучаствовать в гармонии момента.
— Есть еще, — откликнулся Фабиус. — Как захотите, для вас найдется.
Камера скоро наполнилась дымом. От папиросы Козеф Й. совсем уж поплыл. У него задрожали поджилки. Сердце натужно качало кровь в мозг с каким-то отрывистым звуком, как будто кто-то резал лук на кухне. Козеф Й., робея, спрашивал себя, не громковато ли для других бьется его сердце. Ему хотелось присесть на постель, хоть на минутку, но он не знал, как попросить разрешения и уместно ли это.
Франц Хосс хохотнул. Фабиус сделал шаг к Козефу Й. и покровительственно похлопал его по плечу. Минуту спустя все трое сидели на краю его койки и курили. Козеф Й. не припоминал, чтобы когда-либо чувствовал такую раскованность, такую защищенность. Ему хотелось умереть, чтобы продлить, чтобы остановить это ощущение навсегда.
2.
Первое, что увидел Козеф Й., когда проснулся, была полуоткрытая дверь его камеры. Он приподнялся на локтях и поглядел внимательнее. Предметы в камере потеряли контуры, понадобилось усилие, чтобы их распознать. Ужас комом стал у него в горле, когда он сообразил, как сейчас поздно. Судя по свету, который пробивался в узкое оконце его камеры, дело шло к обеду. Козеф Й. вскочил и бросился к стене, в которой было пробито окно. Ухватился обеими руками за прутья решетки и, помогая себе коленками, подтянулся и уложил подбородок на нижний край окна.
Заключенные работали на пенитенциарном огороде.
Козеф Й., обескураженный, сполз вниз и размял ладони. Наконец-то у него заработал мозг. Если заключенные трудились на пенитенциарном огороде, это означало… да, это означало, что сегодня воскресенье. Потому что только по воскресеньям, для отдыха, заключенные работали на пенитенциарном огороде. Козеф Й. немедленно вспомнил всю аномалию сегодняшнего утра. Он отчетливо помнил, что не получил завтрака. А теперь увидел, что его исключили и из графика работы на огороде, столь любимой заключенными, потому что на огороде дозволялось полущить стручки фасоли и гороха.
«Нелады», — подумал Козеф Й.
В комнате еще чувствовался запах дешевых папирос, от которого его мутило. Весь рот был сплошная рана, губы горели, в язык въелись крупинки едкого табака. Зато он позволил себе проспать воскресное утро, чего с ним никогда не случалось. Эта мысль несколько его успокоила, наравне с чувством, что он выспался. Никогда он не помнил себя таким отдохнувшим, таким свежим. Никогда ему так не хотелось поработать на огороде.
Подойдя к приоткрытой двери, он окинул взглядом ту часть коридора, которая попадала в поле его зрения. Нерушимая тишина стояла на всем этаже. Козеф Й. несколько минут в полной растерянности помедлил у безнадзорной двери. У него не было ни малейшего представления о том, что в таком случае положено, а что нет. Наконец он рискнул пошире приоткрыть дверь, чтобы увидеть порцию коридора побольше. Слегка поднажал и задохнулся от волнения, не веря себе, потому что дверь не оказала ни малейшего сопротивления. Еще часть коридора открылась ему, как он и хотел. Немного выждав, он решился и открыл дверь как следует, чтобы обозреть весь коридор.
Коридор был пуст. Дверь в конце, выходящая к лифту, тоже была приоткрыта. Козеф Й. подумал, что, раз уж на то пошло, он может позволить себе короткую прогулку по коридору, и стал осторожно пробираться вдоль стен, заглядывая в другие камеры. Нигде никого. Он дошел до конца, до двери, за которой был лифт. Остановился, помялся, вернулся. Снова оказался в своей камере, окончательно сбитый с толку. Снова ухватился за прутья решетки на окне и выглянул наружу.Заключенные по-прежнему с огоньком работали на пенитенциарном огороде. Денек стоял солнечный, и некоторые разделись по пояс.
Козефу Й. стало досадно и даже в некотором смысле завидно. Желудок подавал знаки беспокойства. Ускользнувший от него завтрак грозил катастрофой. Голод грыз ему не столько кишки, сколько мозг, вызывая жгучие вопросы и ощущение тотальной неудовлетворенности. Козефа Й. охватило глубокое уныние, тем более что никто не говорил ему, в чем дело. Было ясно: что-то произошло, что-то, связанное с ним и с его судьбой, но что именно, он определить не мог.
— Господин Хосс! — крикнул наконец Козеф Й., стоя на пороге своей камеры в надежде, что старый охранник откуда-нибудь да услышит его — из шахты лифта, к примеру.
Никто не ответил, и тогда Козеф Й. рупором сложил ладони у рта и крикнул еще раз:
— Господин охранник! Господин охранник, это я, Козеф Й.!
Ему хотелось добавить: «Господин охранник, какого черта, это я, а то вы не знаете!» Но вместо этого он вдруг прокричал: «Господин Хосс, можно мне спуститься в огород?» — очень довольный, что ему пришло в голову попросить разрешения.
И на сей раз ему не ответили. Но Козеф Й. все равно почувствовал себя значительно тверже. То, что он попросился, было залогом, что он ничего не нарушил. Никакого такого формального запрета спуститься в воскресенье на огород у него не было. Уж сколько лет он каждое воскресенье выполнял разнарядку по огородным работам и неизменно проявлял себя как сознательный и дисциплинированный кадр.
Так что он уверенно направился к вестибюлю с лифтом. Вот только ему еще никогда не доводилось ездить на лифте одному. Он изучил шесть-семь кнопок, обозначающих этажи. Потом нажал кнопку со стрелкой вниз, и лифт подкатил. Он вошел в кабинку лифта, напоминающую его собственную камеру, задвинул защитную решетку и нажал кнопку с цифрой ноль. Лифт ухнул вниз. У Козефа Й. подкатило к горлу. Он прижал кулаки к животу и скорчился в углу кабинки. Было недопустимо, чтобы его вырвало в лифте, и он изо всех сил пытался подавить спазмы — задержал дыхание и крепко сжал зубы. Лифт остановился, но Козеф Й. не смел шевельнуться. Желудок вдруг налился тяжестью. Что-то бодалось изнутри, к горлу подступала ядовитая вязкая жидкость. Козеф Й. зажмурился, еще крепче сжал зубы, еще больше скорчился. Он весь дрожал, мышцы одеревенели.
Дверь лифта открылась, и в нее просунулась голова Фабиуса.
— Вам хочется блевануть? — спросил Фабиус с самым невозмутимым видом, как будто таков был замысел этого лифта — транспортировка на первый этаж людей с позывами к рвоте.
— Угу-у, — простонал Козеф Й.
— Пройдемте в клозет, — сказал Фабиус и помог Козефу Й. распрямиться.
Они поволоклись по коридору, подпирая друг друга. Фабиус хромал и пыхтел от натуги, Козеф Й. сдерживался из последних сил. Он впервые попал в этот коридор, но сразу учуял, что Фабиус ведет его в клозет для охранников. Что-то вроде гордости пронизало все его тело, отчасти перекрывая накаты боли и тошноту.
Фабиус помог ему облегчиться, поддерживая за шиворот. Козефу Й. показалось, что он выплюнул из себя, в несколько присестов, все свои внутренности. Пот струился у него по лицу, стекая на шею, смешиваясь со слезами. Фабиус пытался както его подбодрить, приговаривая:
— Ну всё уже, господин Козеф, всё уже.
Но Козефа Й. рвало и рвало, все снова и снова, он харкал и харкал и слышал, как харкает, и ему казалось, что его так и будет рвать до скончания века. Таков был момент, когда Фабиус, придерживая его за плечи и за шиворот, объявил Козефу Й., что начиная с сегодняшнего утра он свободен.
Паскаль Брюкнер. Дом ангелов
- Паскаль Брюкнер. Дом ангелов / Пер. с
фр. Н. Хотинской. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,
2014. — 256 с.Впервые на русском языке роман французского интеллектуала Паскаля Брюкнера «Дом ангелов». С преуспевающим риелтором судьба сыграла злую шутку: важная сделка сорвалась из-за случайно забредших в элитный квартал бомжей. Герой превращается в ярого ненавистника племени парижских клошаров, прославленных классической французской литературой. Он пытается убивать, маскируя чувство мести стремлением очистить город от скверны. Грань между нормальной жизнью и падением оказывается тонкой: бомжом становится он сам.
Глава 11
Новое назначение
Настоящие героини в наши дни — это героини
сердца. Секс слишком банален, искусство во многом субъективно. Альтруизм — карьера, открытая
всем и не ограниченная никакими условностями.
Изольда де Отлюс изобрела новый концепт: милосердие от кутюр на высоких каблуках. Мало кому
удавалось в такой степени сочетать экстравагантность с благотворительностью. После митинга на
набережной Жеммап ее препроводили в комиссариат Х округа на улице Луи-Блан, где она провела
ночь и затем была привлечена к суду за неповиновение силам охраны правопорядка и оскорбление
действием полицейского при исполнении: она
ударила шлемом одного сержанта. Наутро Антонен
ждал ее у комиссариата вместе с другими активистами, чтобы устроить торжественную встречу. Она
вышла сияющая, босиком — шпильки-стилетто не
выдержали. На суде ее защищали лучшие адвокаты, и она была отпущена с миром во имя дорогого сердцу Франции принципа, сформулированного
Де Голлем по поводу Жан-Поля Сартра: «Вольтера
в Бастилию не посадишь». Да, что бы ни сделала
эта женщина, в тюрьму она не сядет никогда.Через несколько месяцев, возвращаясь под вечер из заброшенной промзоны в 94-м департаменте, которую Ариэль хотел превратить в экуменический центр, Антонен увидел у дверей агентства
родстер «ямаха». Не успел он переступить порог,
как его вызвали к патрону: перед ним, в кожаном
плаще и остроносых сапожках, точно героиня
вестерна, сидела Изольда де Отлюс, покуривая
сигариллу. У Антонена защемило сердце. Ему стало стыдно, но она показалась ему смешной: этот
прикид, лошадиное лицо, рассыпающиеся пряди
волос, высокий голос. Ариэль придвинул ему стул
и попросил выслушать, что «эта замечательная
женщина» имела ему сказать:— Мсье Дампьер, я наблюдаю за вами с нашей
первой встречи, я навела о вас справки. Вы заслуживаете лучшего, чем агентство недвижимости, —
извините меня, мсье Ван Хейфнис: раскручивать
простаков на дорогие квартиры — это не ваш уровень. Ваш КПД позорно низок. Без долгих разговоров перейду к делу: бросьте эту работу и идите
в мою ассоциацию. Хватит охмурять людей, займитесь вместе со мной спасением обездоленных.
Я нанимаю вас на полную ставку. Оплата низкая,
кормежка скверная, жилищные условия хуже некуда. Но, по крайней мере, вы будете приносить пользу людям. И вы будете со мной, — добавила она,
широко улыбаясь. — Не беспокойтесь, с вашим
патроном я обо всем договорилась, он согласен.Ариэль пожирал глазами роскошную мотоциклистку:
— Антонен, я подозревал, что за вашей рассеянностью в последние недели кроется женщина… Я только не ожидал, что это окажется столь…
яркая особа.— Не думаю, что вашего сотрудника интересует пол, именуемый слабым, — оборвала его
Изольда. — Его обуревают иные страсти.— На вашем месте, — продолжал Ариэль, — я
бы ни минуты не колебался. Мадам явно вскружила вам голову. Я бы свою давно потерял.Наглость этого предложения ошеломила Антонена. Эта женщина, с которой он едва знаком,
является без предупреждения, беззастенчиво его
вербует, сулит кровь и пот и ни секунды не сомневается в его согласии. Она покупала его, как
футбольный клуб игрока, только на меньшее жалованье. Он так давно пытался проникнуть в благотворительную среду — и вот среда сама пришла
к нему. Он был так шокирован этим предложением, что согласился. В считаные минуты бросил
все — карьеру, амбиции — ради женщины, которую едва знал. Ариэль великодушно пожаловал
ему немаленькое выходное пособие и обещал взять
назад, когда ему «надоест творить добро». Он, похоже, был рад избавиться от него, чтобы продвинуть
новых сотрудников. Однако, познакомившись с
Изольдой, он смотрел на своего подчиненного по-новому — уважительно.— Я так и знал, что вы от меня что-то скрываете! Ну вы и стратег! Снимаю шляпу, ваша светлость.
Антонен не возражал, смущенный этим мужским восхвалением.
Спустя неделю, доработав несколько досье, он
приехал в «Дом ангелов», расположенный на шоссе Депортасьон в Пре-Сен-Жерве, в 93-м департаменте. Это был небольшой приют для обездоленных, работавший на государственных и частных
дотациях. Существенным новшеством, введенным мадам де Отлюс, было самоуправление. Все
обитатели приюта участвовали, каждый по мере
сил, в собственной реабилитации. Самые серьезные направлялись потом в агентства по трудоустройству. «Дом ангелов» представлял собой сооружение из тесаного камня в два с половиной
этажа, затерянное среди строительных площадок, кишевших экскаваторами и бульдозерами.
Его окружали засыпанный гравием двор и чахлый
садик, где был натянут большой тент и стояли
сборные домики. Прежде, когда здесь работал кирпичный завод, это была вилла хозяина. Один из
фасадов украшали психоделические узоры — творчество местных художников.Изольда встретила его в спортивном костюме,
осунувшаяся, бледная. То была уже не давешняя
горделивая амазонка, но сорокалетняя женщина,
выглядевшая на свой возраст. Была в ней эта мерцающая красота зрелости, которая то гаснет, то
сияет вновь. Она бывала и блеклой, и лучезарной.
Очень высокая, выше метра восьмидесяти, одним
своим появлением она заставляла притихнуть.
Она представила Антонену команду: Камель, гигант в спецовке с кольцом в ухе, отвечал за порядок, Алиса, сварливая старуха, заведовала столовой; был еще Бастьен, юный студент с лицом
Христа, белокурыми волосами и длинной бородой, который постоянно проповедовал, и Бетти,
толстушка с пирсингом в губе, явно влюбленная
в Изольду. Доктор Лежен, терапевт из больницы
Ларибуазьер, приходил трижды в неделю с ассистенткой и психологом. Антонена Изольда назначила своим личным помощником — иначе говоря, мальчиком на побегушках. Ему полагалось
быть в ее распоряжении двадцать четыре часа в
сутки. Она отвела ему комнатку на чердаке на
случай «перегрева». Для начала они два часа выгружали из грузовика доставленное оборудование
и переносили его в подвал. Изольда работала молча, не жалуясь, тяжести таскала под стать грузчику с Центрального рынка.Антонен не мог поверить, что оказался в эпицентре циклона. На такую удачу он и не надеялся, это компенсировало даже потерю в зарплате
(1200 евро в месяц чистыми) и, стало быть, необходимость в скором времени сменить квартиру.
Он был воином, а воин должен идти на жертвы.
За этот год он приобрел одно ценное качество: терпение. Он выждет и нанесет удар со знанием дела.
Оставалось умаслить хозяйку. Изольда была не из
доверчивых ветрениц и не из чопорных идеалисток, какими изобилует эта среда. Изольда была
личностью по определению. Малейший жест —
даже выпить чашку кофе — она возводила на уровень совершенства. Стоило ей открыть рот, как
любой собеседник был захвачен ее пылом. Все в
ней било через край: не последовать за ней значило устыдиться, остыв до комнатной температуры. Она сметала препятствия, отмахивалась от
возражений, и он думал: какую чудесную команду мы могли бы составить, если бы только она
согласилась разделить мои взгляды. Но она была
от них далека. Все равно что он предложил бы
пойти на ограбление шефу полиции! Что ж, он
поработает под началом этой бой-бабы с раздутым эго несколько месяцев, пока не обкатает
свою стратегию. Потом можно сделать ручкой и
вернуться в недвижимость, представлявшую собой лучшее из возможных прикрытий. На первый
взгляд работа была проста. Надо было регистрировать вновь прибывших, по большей части мужчин — женщинам была отведена небольшая комнатка, — предоставлять каждому кровать, следить
за гардеробом, за работой прачечной, раздавать
талоны на еду. У большинства постояльцев не водилось ни документов, ни даже фамилий — только клички и прозвища. Все они здесь были у него
под рукой — недоумки, городские сумасшедшие
с согбенными плечами, «кроненбургскими пузами» (так на языке этой среды называется пивной
животик), ковыляющей походкой. Открывая
дверь, все заводили одну и ту же песню:— Влип я, опять взялся за старое.
Для каждого самым большим успехом в жизни
было завязать. Антонен усиленно изображал интерес. Ему рекомендовали держаться «благожелательного нейтралитета», не слишком дистанцироваться, но и не выказывать чрезмерного сочувствия. Он только делал вид, будто сопереживает, а
сам украдкой зевал. В этом проблема несчастья:
оно не только ужасно — оно скучно. Стоило вновь
прибывшему открыть рот, Антонен, глядя на него
с широкой улыбкой, думал про себя: «МОЖЕШЬ
СДОХНУТЬ, МНЕ НАСРАТЬ».Из персонала он отдавал предпочтение охраннику Камелю, бывшему вышибале родом из Туниса,
который, как никто, умел разруливать конфликты, утихомиривал буйных, успокаивал страдающих дромоманией, которые не могли усидеть на
месте и все время, даже ночью, ходили. Антонен
спрашивал себя, кто из них, Камель или он, победил бы в честном поединке. Жаловал он также
буфетчицу, которой имя Алиса шло, как бриллиант букету чертополоха: она держала постояльцев
в ежовых рукавицах и даже стучала на них хозяйке, которую звала «мадам Гордячка». Но сердце
у нее при этом было золотое, и она готова была
сама не поесть, если на всех не хватало. А вот другие сотрудники ему не нравились: они обращались с постояльцами как с важными господами,
но за их угодливостью сквозила плохо сдерживаемая ярость. Особенно он невзлюбил Бастьена,
христообразного сухаря, теоретизировавшего по
поводу любого своего действия, даже если он прочищал раковину. По вечерам на собраниях по мотивации Бастьен твердил:— Этих людей я не сужу, я говорю им: респект.
Если они приходит к нам, я их принимаю, если
не хотят, силком тащить не стану. По какому праву я бы их судил?Все соглашались, только Антонену хотелось
заткнуть ему глотку и размозжить череп молотком. Вместо этого он улыбался и кивал. Однажды,
когда он употребил в разговоре слово «клошар»,
Изольда одернула его:— Антонен, так больше не говорят, «клошар» —
нехорошее слово. Надо говорить бомж — без определенного места жительства. Первый термин
уничижителен, он не оставляет людям надежды
выкарабкаться, второй описателен и даже оптимистичен, потому что от «без» можно перейти к «с».Антонен сконфузился от этого урока семантики, хоть и уловил в тоне Изольды некую нравоучительную иронию. Зато от нее же он узнал новое слово: «асфальтизация» — состояние самых
безнадежных, что уже не в силах подняться с тротуара. На работе он вел двойную бухгалтерию. Его
интересовали только необратимые случаи. Он
научился отличать подпорченных от пропащих.
Когда ему попадался совсем отпетый, он ставил
против его имени две звездочки и переписывал
в блокнот все его данные. Надо было остерегаться «выплатных попоек» — дней, когда бомжи получали свои социальные пособия и напивались
вусмерть, засыпая в конце концов в собственной
блевотине. В дни особенно большого наплыва в
приюте стоял запах мочи и грязных ног такой
густоты, что парфюмер мог бы дистиллировать
его по капле. Никто не возмущался — все вели
себя так, будто прогуливались среди роз. Это был
непрерывно гудящий улей живых мертвецов. Они
были либо пьяны, либо с похмелья. В прошлом
году голуби склевали ноги одного парня, уснувшего пьяным сном на пустыре: когда он проснулся, у него не было подошв, точно подметки оторвали у ботинок.Своеобразным талисманом приюта был один
кроткий старичок, которого все звали Гвоздиком.
«Кореши» когда-то по пьяному делу вбили ему
шутки ради гвоздь в макушку. По счастью, острие
не повредило никакие жизненные центры, только слегка задело мозжечок, что сказалось на речи,
и бедняга с тех пор заикался. Этот чудесно спасенный водил в «Доме ангелов» дружбу со всеми,
оказывал мелкие услуги и позволял трогать свою
голову — на счастье. Устав «Дома ангелов» гласил:
поддерживать со всеми доверительные отношения, уважать их достоинство, облегчать их страдания. Антонену, с его убийственными поползновениями, это удавалось в полной мере. Порой,
под хорошее настроение, он встречал постояльцев словами: «Добро пожаловать в „Ритц“, дамы-господа». Шутка действовала. Он им нравился, с
его хмурым видом, черным юмором, нервными
жестами. Он, по крайней мере, не изображал симпатии, оказывал услуги, и только. Жизнь у этих
господ и дам была не сахар: раннее сиротство,
побои либо насилие в детстве, безработица, разводы — кругом невезение, все они были одним
миром мазаны. Всегда один и тот же душераздирающий рассказ об одних и тех же тяготах. Не
имея возможности истребить их из огнемета, он
вызывался добровольцем на работу в прачечную,
отстирывал их тряпье при температуре 180° с нескрываемым наслаждением. Мысль о паразитах,
агонизирующих в этих гигантских машинах под
действием энзимов, наполняла его счастьем. Он
отмывал помещения с таким усердием, что все
только диву давались. Изольда с извращенным
удовольствием разводила всюду грязь, провоцируя его. Он не жаловался, мыл и мыл. Многочисленные стажеры ломались через несколько недель, а он держался на бездонной глубине своей
ненависти.Только однажды, один-единственный раз он
дал слабину — треснул защитный панцирь. Весь
этот день он имел дело с особенно омерзительными существами, в том числе с молодой токсикоманкой, осыпавшей его бранью и угрозами.
Вечером, сидя в темной кухне, он дал волю слезам.
Хозяйка, проходившая мимо, увидела его и крепко обняла. Уткнувшись лицом в ее левую грудь,
огромную и упругую, он выплакался всласть без
всякого стыда. От нее хорошо пахло, «Ветивером» для мужчин от «Герлен», она куда-то собиралась.
Под черным плащом на ней было вечернее платье, высокие ботинки — видно, намечался благотворительный вечер. Ее длинные волосы падали
на плечи шелковым водопадом. Антонен так боялся разочаровать эту восхитительную женщину.
Он выдохнул ей в ухо между рыданиями:— Я не смогу.
— Нет, сможешь! Теперь уже слишком поздно
отступать. Мы с тобой заключили пакт.К стыду своему, он почувствовал, как твердеет между ног, и поспешно высвободился из ее объятий.
Con fuoco
- Эрнан Ривера Летельер. Фата-моргана любви с оркестром. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 272 с.
Роман чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера «Фата-моргана любви с оркестром», опубликованный в журнале «Иностранная литература» и недавно вышедший в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха, относится к числу произведений на первый взгляд непритязательных, даже «неряшливых», но по своей сути оригинальных, будто невзначай поднимающих серьезные жизненные проблемы.
Литература Латинской Америки пользовалась читательским спросом еще в СССР, имеет успех она и в современной России. Достаточно упомянуть имена колумбийца Габриеля Гарсиа Маркеса, бразильца Жоржи Амаду, перуанца Марио Варгас Льосы, мексиканца Карлоса Фуэнтеса и аргентинцев Хулио Кортасара и Хорхе Луиса Борхеса. Чилийцам повезло меньше, так как помимо поэта Пабло Неруды неискушенный читатель вряд ли вспомнит кого-то еще. Между тем в последние годы заслуженной популярностью на книгоиздательском российском рынке пользуются и Роберто Боланьо, и особенно Исабель Альенде, но по отдельности писатели пока не могут составить полноценную литературную карту Чили в нашей стране.
Эрнан Ривера Летельер, популярный в этой латиноамериканской республике и пока малоизвестный в России, тоже вряд ли способен переломить ситуацию — слишком специфичен, экзотичен язык его произведений. Впрочем, выход качественного романа современного чилийского автора — всегда значимое событие в отечественной литературной жизни.
Любую индивидуальную особенность «Фата-морганы любви с оркестром» можно рассматривать под двумя различными углами зрения, причем, чтобы после недоумения перейти к пониманию и должному восприятию текста, потребуются время и силы.
Традиционная история любви нежной недотроги и удалого донжуана-шалопая — учительницы-пианистки Голондрины дель Росарио и выпивохи-трубача Бельо Сандалио — разворачивается в селитряном поселке Пампа-Уньон (регион Антофагаста). В месте, знаменитом своими увеселительными заведениями и борделями, куда стекается за развлечениями разгульный трудовой народ. По законам жанра в «Фата-моргане любви с оркестром» есть третий лишний — туповатый боксер, пытающийся помешать счастью главных героев, есть наперсник — отец девушки, цирюльник по основному виду деятельности и активный анархист по мировоззрению. Первую мысль о лихом, но неглубоком сюжете, не опровергнутую вплоть до середины книги, смягчают аксиомы жанра художественной литературы, а также логическая цепь деталей, разбросанных по всему роману.
Во-первых, способность коротко рассказать о характере героев, не пускаясь в глубокомысленные и отстраненные отступления, и умение наполнить небольшое по объему произведение множеством интересных мелочей свидетельствуют о писательском мастерстве Летельера. Во-вторых, удачны будто кукольные образы Голондрины и Бельо. Разухабистый Бельо Сандалио лишен одновременно и избыточного рефлексивного начала сельского интеллигента, и безмозглого самодовольства силача. То есть личность героя миновали все изъяны предыдущих поклонников застенчивой дель Росарио. Для красавицы Голондрины, ангельски невинной в представлении окружающих, телесные желания оказываются логичной «приправой» к ее по-юношески страстному увлечению скучновато-сентиментальной поэзией и классической музыкой:
«Сорвав сорочку, она начала ощупывать себя, как будто настраивала собственный инструмент, нетерпеливо подбираясь к самым чувствительным и звучным уголкам тела. Музыка и стихи всегда подводили ее к неведомым головокружительным пределам. В дортуаре интерната после вечерней молитвы она часто предавалась мимолетному наслаждению, трепеща всем девичьим телом и декламируя стихи Амадо Нерво…
…Стать лишь чуть-чуть бесстыднее, Святая заступница, вот и все, стать чуть-чуть русалкой во всех этих делах».Голондрина и Бельо — двое влюбленных безумцев, доводящих свою тягу к приключениям до всех мыслимых пределов, — выделяются даже на фоне чудаков-жителей Пампа-Уньон. Чего стоит только упоминание в романе о некоторых «смельчаках», зачастую проматывающих последние штаны в кабаках и домах терпимости, распродающих последнее имущество и потом пускающих пулю в рот. Трагическая развязка романа «Фата-моргана…» предопределена фактами: любви главных героев мешают экономическая и политическая обстановка в Чили 1920-х годов, а также статус «маленьких людей».
Двойной эффект возникает и когда речь идет о стилистике романа — размашистой, карнавальной, грубоватой, отлично подчеркнутой переводчицей с испанского Дарьей Синицыной. Эпизодические героини легкого поведения с именами вроде Пупсика или Овечьей Морды, задорные работяги, стремящиеся забыть о тяжелой, изматывающей работе в чаду неуемного веселья, «кутнуть по полной», обсценные и просторечные слова подчеркивают главный парадокс — жизненную абсурдность происходящего в романе чилийского писателя.Эрнан Ривера Летельер сам до одиннадцати лет трудился на селитряных разработках и подробно изучил быт и нравы простых чилийцев, что и нашло отражение в ряде его произведений. Человеческий «низ», описанный в красках, с необычайной энергией письма, одним читателям покажется чересчур навязчивым, а других заставит попробовать понять, что же перед ними — комедия с трагическим финалом или трагедия с элементами юмора.
Финал книги резко контрастирует с оптимистичным началом. Судя по эпилогу, автор романа использовал документальную основу для своего произведения, «расцветив» суровую реальность романтическими подробностями и в итоге создав сложную, экспрессивную и по-латиноамерикански терпкую прозу.