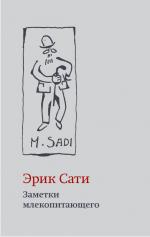- Екатерина Марголис. Следы на воде. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 400 с.
В автобиографической книге Екатерины Марголис «Следы на воде» Венеция выходит за пределы своих границ: трещины на ее стенах становятся переплетением человеческих судеб; ее мосты соединяют землю и небо, тот свет и этот; кружа по ее улицам, можно забрести в церковь, где одновременно служат две литургии — католическую и православную; лагуна незаметно переходит в заснеженное поле; воздушные шарики в руках детей у базилики Санта-Мария-делла-Салюте превращаются в надутые перчатки-«ежики» на постели мальчика Лёвы, умирающего от рака в московской больнице. Повествование движется любовью — страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ
Мой самый первый лист — пододеяльник. Просто пододеяльник. В углу пришита метка. Это мой адрес. Как на письме. А еще там, наверное, есть мое имя Xeniя. Так хотел назвать меня отец. Но мама сказала, что это имя значит «чужестранка», и назвали меня по-другому. Я еще не умею читать, но мне нравятся черные буквы и цифры. Чтобы попасть к пришитой метке, нужно проехать через горы (колени) и долины, подняться вверх по ребрам, по проталинам шеи, взобраться на подбородок, а оттуда на кончик носа… Мой пододеяльник — это и письмо, и карта, и ландшафт. Иногда его стирают и вешают сохнуть на балконе. И тогда он становится парусом. Он надувается на ветру и наполняется белым светом.
До моих двух лет жили в коммуналке в Брюсовском переулке, — ее я помню смутно. Длинный темный коридор и прямоугольник белого света. Он вливался в дом вместе со звоном колоколов. У входной двери звонил телефон, а из противоположного конца — колокола. И вот, еще до больницы, бежишь, бежишь изо всех сил к раскрытой двери и оказываешься на балконе. Прямо перед тобой купола соседней церкви, и тебя подхватывает колокольный звон. Впрочем, взрослые хором утверждают, что в 1970-е годы в Советском Союзе колокола звонить не могли. Было запрещено. Но я-то точно помню, звонили! И этот льющийся свет.
Еще раньше был белый потолок. Мой лист — это потолок. В нем были трещины. Если тебе три года и ты лежишь месяцами, глядя в потолок, то не нужно рисовать — можно просто разглядывать трещины: рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика, от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама — смотрительница замка. Глядеть на потолок куда интереснее, чем слушать жалостливые вздохи бабушкиных подруг: ах, бедная девочка, как же так. В три года сломать позвоночник… Ну надо же как повезло — если бы шейные, то конец. А если ниже — то паралич на всю жизнь.
Боже мой, когда же они уйдут?
Оставьте мне мой потолок.
Перелом позвоночника оказался и впрямь переломным: с этого мига девочка помнит себя собой, уже подряд, без провалов.
Она не выносила, когда ее жалели. Ничего ужасного девочка в своем горизонтальном положении не видела. Жить это не мешало. Не мешало играть и думать.
Мой лист — белая крыша. Я пока не могу ходить, но зато ко мне в гости приходит воробей.
У меня есть лопатка, и я могу копать ею снег на крыше, лежа в спальном мешке.
В больнице было куда хуже. Там не было трещин на потолке, не было мамы и почти все было белое. Коричневым запомнился только взрослый шестилетний мальчик. У него даже имя было коричневое — Сережа. Сережа проглотил значок. Он очень этим гордился. Оно и понятно: проглотить значок — это по-мужски, не то что сесть верхом на перекладину шведской стенки, закричать «Бабушка, смотри, я на лошадке!», а очнуться в больнице со сломанными позвонками. Цветными были картинки и стихи. Но надо было ждать, чтобы тебе их прочли. Букв еще не было. А пока тянулся длинный белесый день, и только где-то с краешку было немного стихов.
— Старая лестница,
Что ж ты не спишь?
Что ты все время
Скрипишь и скрипишь?
— Милый мой мальчик,
Когда же мне
Спать?
Надо людей
Провожать
И встречать.
Чтоб не устали,
Чтоб не упали,
Надо перила
Им подавать.
— Старая лестница,
Но, между прочим,
Люди не ходят
По лестницам
Ночью.
Так почему ж ты
Ночами
Не спишь?
— А по ночам, —
Ты поверь мне,
Малыш, —
То тяжелы,
То легки,
Словно дым,
Сны сюда входят
Один за другим.
Тихо под ними
Ступени поют…
Слышишь, мой мальчик?
Они уже тут.Ирина Пивоварова
Потом потолок обвалился. Дом был старый. Балки прогнили. Перекрытия рухнули. Мы жили на верхнем этаже и чудом остались живы. Примчались исполкомовские начальники, поднялся переполох, и на годы мы остались без дома.
А накануне был детский праздник. Пахло елкой и мандаринами. Пахло так, как будто никакой советской власти не было и быть не могло. Как будто белый снег не заносил братские могилы, как будто в одной из них не лежали смерзшиеся кости нашего расстрелянного прадеда-философа Густава Густавовича Шпета, как будто белый флаг не развевался над человеческими судьбами и судьбами целых семей и народов, как будто по ночам не стучали печатные машинки и не печатали на папиросной бумаге самиздат, как будто белый кефир не разливался по серому подземному переходу, как будто каждый шаг вне дома не был пропитан враньем и позором. Как будто улица Горького и впрямь была Тверской, как ее называла бабушка. И это тоже было ее ответом на то, что даже полвека спустя вместить невозможно.
Исполком. Потолком.
Слова. Они имели смысл и цену. За них можно было и угодить. Семья Поэта, приходившаяся и нам родными, щедро предложила пережить трудные времена на его даче. Сами они жили там только летом, а мы отныне круглый год. Вода на улице. Уборная — тоже. Телефона, само собой, не было. Рубили дрова. Носили воду. Топили печку. Варили кашу. Родители ездили на работу в университет и обратно. За нами приглядывала бабушка.
Там все и началось.
По той же дороге, чрез эту же местность…
Мы росли на полях стихов к роману. Большой дом поэта стоял среди сугробов, как корабль, готовый к отплытию. Имя поэта мало затрагивало детскую жизнь — более того, с детским снобизмом мы полагали до поры до времени, что все носятся с ним просто потому, что он папа нашего дяди, а нам почти родственник, что-то вроде дедушки. Что до паломников, так это его добрые знакомые — старички и старушки. Скукоженную, кутавшуюся в шаль молитвенно называли «Надежда Яковлевна» и добавляли вполголоса «Мандельштам»; бородатого с палкой шепотом — Копелев; про горбоносую говорили, что она сестра Цветаевой, которую детское воображение рисовало как цветочную фею — одну из разноцветных куколок из конфетных оберток, которые так ловко скручивала для нас после чая ее подруга — Софья Исааковна. Фигурки всё множились на столе, а потом от едва заметного дуновения начинали кружиться в вальсе по клеенке с яблоками. Шел снег или падали листья. А роман и поэт были пейзажем за окном. Физическим пространством детства.
В доме жили и другие стихи. Пушкин, прежде всего.Вечер. Трещит натопленная печь. А мама или бабушка читает, словно про нас:
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
На вот, бери ее скорей…И невольно тянешь руки, чтобы поймать, как мячик.
…Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, — ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.Плывет. Куда ж нам плыть?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Метка: Издательство Ивана Лимбаха
Ханс Хенни Янн. Река без берегов. Часть вторая: Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга вторая
- Ханс Хенни Янн. Река без берегов: Роман. Часть вторая: Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга вторая / Пер. с нем., коммент., статья Т. А. Баскаковой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 928 с.
Трилогия Ханса Хенни Янна (1894–1959) «Река без берегов» создавалась пятнадцать лет и стала шедевром мировой литературы XX века. Второй том, «Свидетельство…» возлюбленного пропавшей девушки, написанное спустя двадцать пять лет, становится поводом для того, чтобы осмыслить и оправдать свою жизнь: жизнь человека, совершившего авантюрное странствие вдоль берегов Латинской Америки и Африки, обретшего вторую родину в глухом уголке Норвегии, сумевшего уже в зрелом возрасте стать композитором с мировым именем.
5 июля
Уже десять или одиннадцать дней я пишу себе и пишу, не заглядывая
в календарь. Отдельные дни не превращаются в абзацы текста. Новый
месяц вот уже несколько дней как начался, а я его и не заметил, и не
поприветствовал. Угрюмо пришел он по стопам своего предшественника: портит сено, атакует землю ночным холодом, плачет из раздерганных туч. Медвяно-желтый туман и сегодня рано поутру стоял в
долинах, но воздух вдруг сделался теплым, как две недели назад. Он
полон аромата, как если бы цветы белого клевера в первый раз задышали. Когда солнце прорвало дымку, над полями разлилась такая всеохватная радость, что я вскочил и заспешил на прогулку. Но прежде
все же полистал календарь и вычислил сегодняшнюю дату.Последние облачные завесы улетучились. Солнце стояло над островом, словно море тепла. Кора елей с невероятной силой источала запах
смолы. Чудный день. Среди деревьев в лесу такая тишина, будто вот-вот
раздастся голос какого-то сказочного существа. Седые барьеры утесов
звучат: они — стыдливое эхо деловито гудящих пчел. Это последний
отзвук из глубинной печи земного огня. Такая действительность —
словно обетование.И тут я пережил потрясение. Расскажу вкратце, в чем дело: я услышал, из кучи свободно наваленных сухих еловых веток, биение крыльев крупного насекомого. Я подошел ближе и разглядел стрекозу, которая испуганно порхала внутри этой легко проницаемой решетки.
Я не сразу понял, почему стрекоза не ищет свободы, столь легко —
казалось бы — достижимой. Движения насекомого делались все более
дикими и отчаянными. Оно ударялось головой о землю. И похоже, не
узнавало ничего вокруг. Я наклонился и теперь увидел, что муравьи
выбрызнули кислоту на большие фасеточные глаза стрекозы; другие
уже вгрызлись жвалами в эти же глаза. Я попытался освободить насекомое. Но было поздно. Его уже ослепили, пусть даже и не полностью.
Оно, забив крыльями, обрушилось на землю. Я увидел, как из куполообразных глаз выступили крошечные капельки. Стрекоза дышала
так бурно, что все ее тело колыхалось. (Я не думал, что дыхание через
трахею может быть таким мощным.) Она умерла за минуту — от перенапряжения, от слишком сильного биения сердца или от невообразимой боли. (Я никогда не отрицал, что о жизни насекомых — существ,
весьма отличных от меня, с другими органами чувств, другими желаниями и горестями — мало что способен сказать… или вообще ничего. Жадной извивающейся осе можно острым бритвенным лезвием
ампутировать всю заднюю часть туловища; она этого даже не заметит,
а будет продолжать жрать. Неимоверное количество кузнечиков, пчел,
муравьев, мух — это число, напоминающее о фабричном производстве, — как и их сражения, их инстинктивное поведение кажутся выражением скорее чуждого нам интеллекта, нежели субъективных
чувств и переживаний. Напрашивается мысль, что их душа является
местом действия только для поверхностных событий. Кажется, что их
существование как яйца, их последующее рождение, их работа, их мании, присущее им чувство общности, их войны, их смерть упорядочены очень схематично. Их геройство — исключительно военного толка. Они теряют конечности и при этом, похоже, не страдают. Будучи наполовину раздавленными, они еще умудряются тащить целиком
раздавленного — как пищу или добычу. Я часто повторял себе невообразимое: самца скорпиона самка после оплодотворения разрывает на
куски и пожирает; у трутня после оплодотворения внутренности оказываются вырванными из тела. Пожирание и превращение в объект пожирания: у насекомых это происходит так часто и в таких жутких формах,
что хочется отогнать от себя мысль, какими болями — для которых нет
имени — может сопровождаться этот безостановочный процесс всеобщей гибели. Насекомые выглядят как сверкающие машины, которые
непрестанно что-то перерезают и перепиливают. Мы готовы поверить
эксперименту и признать, что в этом мире убийственного хаоса, где
все живые существа носят скелет поверх кожи, боль исключена. Мы
снова и снова испытываем такое искушение. И все же… страдание
никогда не обрушивается на множество, а только на отдельное существо. Мышь чувствует боль, в этом никто не сомневается. Она совсем
беззащитна. Тем не менее ее мучают и пожирают… Наконец, боль пока
не получила достаточно точного определения. У стрекозы есть глаза.
Она может видеть окружающий мир. Она видит его не так, как человек, лев, птица, лошадь. Но она видит. Она распознает краски. Она
как-то воспринимает широкую поверхность воды и чудовищно огромное пространство, наполненное воздухом, куда вторгаются растения
и другие предметы. Стрекоза видит мир, свой мир. Ослепить ее — значит
отнять у нее этот мир. Это потеря, мучительная потеря. Но стрекоза
может потерять не только зрение, а еще и конечности, кровь, содержимое тела, спрятанное под сверкающим панцирем. Известно, что муравьи пожирают стрекоз. Для стрекозы это означает изничтожение.
Она пытается сопротивляться. Действительно ли такое сопротивление
есть лишь мышечная реакция, обусловленная инстинктами? Правда
ли, что стрекоза не чувствует жестокого бича боли? И что биение ее
крыльев — не крик? Разве боль лошади не такая же немая? Или — боль
рыбы? Разве я не видел, как рыбы в сети живьем пожираются другими рыбами, обгладывающими их до скелета? Разве алчные акулы не выдирают куски жира из тела еще живого кита? А ведь киты не кричат!)Конечно, муравьи не совершали обдуманный поступок. Они действовали, движимые алчностью и инстинктом. Их вина не была внезапной, она — как не-вина — присутствовала в них всегда. Стрекозу
ослепляют. Но и сама она пользуется дурной славой. В своей предварительной жизни, в качестве личинки в пруду, она считалась прожорливым, жестоким хищником. Но ее судьба была предопределена, еще
когда она дремала в яйце. — Сплошной кошмар, без смысла, без морали. — Такова правда. Великое Равнодушие взирает сверху на дурной
поток событий; единственное вмешательство этого верховного владыки: он посылает Боль прежде Косаря-Смерти, чтобы оскверненные
рабы поприветствовали и ее тоже.Я вовсе не собираюсь вступать в борьбу с каждым отдельным существом. Его лицо — не лицо. Его чувства от меня закрыты. В конечном счете я тоже безропотен. Гармонии нет, бесполезно это оспаривать. Все так, как оно есть, и это ужасно. Молитва легка. Тогда как
правда, когда она обнаруживается, тяжела. Реальное должно быть
правдой, потому что в нереальном правды нет.Мне с трудом удалось вновь обрадоваться солнцу. Я шагнул к каменной ограде большого луга, на котором, в тени группы деревьев,
стояла Илок и отгоняла хвостом кровожадных мух. Она поприветствовала меня тихим ржанием, подошла ближе. Я перелез через ограждение, принял ее голову на сгиб руки. Но кобыла проявляла беспокойство, и мне пришлось убить нескольких мух, сосавших кровь из ее
вымени, прежде чем нас с Илок соединили немногие минуты взаимопонимания. (Я не перестал убивать мух.) Моя душа тоже нуждалась
в утешении, что правда, то правда. А кто, достижимый для меня, был
бы красивее и невиннее, чем Илок? Был бы более понимающим и
верным? — Она снова начала щипать траву. Вышла из тени и сразу
покрылась капельками пота.Я теперь думаю вспять, думаю о ее матери. Об Ио, родившей так
много жеребят, — о кобыле цвета корицы, с черной гривой, черным
хвостом и черными чулками. — Когда в январе выпал снег, мы с Тутайном взяли напрокат сани и принялись объезжать остров. У Ио уже
был круглый живот: там шевелился жеребенок. Мы не сделали больших открытий; но всякий раз забирались довольно далеко. Мы пытались догадаться о строении здешней почвы. Топографическая карта
подсказывала нам, где должны быть пруды, ручьи, озера, болота, обнажения каменной породы, дикие утесы, поросшие кустарником. Лесные массивы, подобно темным стенам, высились на белых холмах.Только весной, когда снег растаял, мы наконец решились. Купили
землю. Этот участок был нами обследован еще в суровые дождливые
недели конца зимы. Одинокое плато, в котором ручей и доисторические глетчеры прорéзали долину. На склонах, где утесы покрыты влажным гумусом, растет беспорядочный лес: ясени, грабы, березы, лещина,
отдельные дубы; на гребнях — здесь почва скудная и сухая — тянутся
к высокому небу темные ели. Короткое ущелье: две гранитные стены,
высотой десять или пятнадцать метров, разделенные расстоянием в
несколько шагов, стоят вертикально друг против друга, оставляя пространство для узкого журчащего ручья. Там, где долина расширяется,
из земли поднимается каменный конус; на нем растут можжевельник
и вереск. Забытое место для жертвоприношений, языческих времен…
На краю противоположного крутого обрыва лежит округлый валун,
который когда-то зашвырнул сюда черт — с материка, через море, —
чтобы разрушить романскую церковь в ближайшей деревне. Черт не
добросил камень, он плохо прицелился. Черти всегда бывают глупыми увальнями, если верить сагам. — Такие рассказы когда-то использовались, чтобы лишить святости еще памятные людям места, связанные с языческими верованиями. — Пахотной земли нам досталась
только узкая полоса; и рядом с ней — большой плоский луг. Зато пустырь между тремя низкими холмами — очень просторный. Целая
пустошь с кустарником, утесами, вересковыми зарослями и молодыми деревцами. Мы выбрали уединенное место. Вряд ли туда ведет хоть
одна дорога. Такие глухие места нынче не в цене. Поросшие лесом
скалы почти ничего не стоят. Лес приносит маленький доход, который
весь уходит на арендную плату. Крестьяне, которые рассматривают не
поддающуюся обработке землю как бесполезный «довесок» к своим полям, обрадовались, что получили от нас хоть какие-то деньги. (Крестьян было двое: Аймар Бенгтсон и Вигго Делгрен. Первый умер вскоре
после заключения сделки, и теперь на хуторе хозяйничает его вдова,
на пару с работником. Говорят, будто они делят постель. Во всяком случае, оба курят большие сигары, которые достают из одного ящика. Другой хозяин перебрался в унаследованный от родителей городской дом,
а его сын, тучный молодой крестьянин, клянет меня на чем свет стоит, потому что я не разрешаю отстреливать дичь в моих владениях.)План дома мы набросали еще до покупки земли. Тутайн, хороший
рисовальщик, сделал чертеж. Изобразил тушью черные толстые стены. Дому мы отвели место недалеко от луга, на краю парка-заповедника
с утесами. Тутайн хотел строить дом целиком из необработанных гранитных блоков, в память о норвежском высокогорном сетере. Но в
результате только северная стена, гумно для приготовления лошадиного корма и конюшня были построены методом циклопической
кладки; добывать камень, грубо обрабатывать его и воздвигать почти
метровой толщины стены обошлось бы нам слишком дорого и потребовало бы много времени. Так что постройку — до стропил — довершили стены из желтого кирпича. Узкий длинный дом. Надежная защита
от зимы. Потолок из балок с тройным настилом не пропускает внутрь
ледяное дыхание, проникающее через черепичную крышу. — Это наш
дом, наше жилище. Три комнаты, с окнами на восток и на юг. Кухня,
кладовая для корма, конюшня и гумно; длинный коридор расположен
с северной стороны, он соединяет все помещения. Входная дверь выходит на юг; дверь конюшни — на север, она обращена к лугу. Таким
дом возник тогда. Таков он и сегодня. Только за несколько дней до
Йоля, через год после нашего прибытия на остров, мы смогли туда
переехать. Ио тем временем ожеребилась, опять была покрыта жеребцом, жеребенка отлучили от материнского вымени. Оба стойла
конюшни получили обитателей. Тутайн купил Эли, молодого черного
пуделя. Мы поддерживали сильный огонь во всех печах, чтобы изгнать из дома оставшуюся после строительства сырость. Тутайн выбрал себе комнату с окном на фасадную сторону, на восток; мне досталась западная комната, которой я пользуюсь и сегодня. В общей жилой
комнате мы проводили первые расплывчато-счастливые дни нового
начала, легкомысленных надежд. Мы достигли цели. Мы в это верили. Уже тогда Тутайн сказал, что умрет раньше меня; это послужило
поводом, чтобы в поземельном кадастре записать купленную нами
недвижимость на мое имя.Сбережения Тутайна от торговли лошадьми теперь были израсходованы; зато мы обрели дом и родину, а мой чудесный капитал должен был кормить нас и впредь. Кажется, мы вообще тогда не думали
о будущем. Оно, наверное, представлялось нам тихим прозябанием,
похожим на жизнь монахов. Наши цели отныне были внутренними:
мы хотели, в любом случае, стать частью того куска природы, что составлял наше владение; хотели работать меньше, чем лесничие, и
все-таки жить одной жизнью с деревьями и пустошью. Вскоре мы
приняли решение: засадить пустошь молодыми дубами. А когда весной мы выгнали лошадей на траву, возник еще один план: обнести
луг каменным ограждением.
Жорж Перек. W, или Воспоминание детства
- Жорж Перек. W, или Воспоминание детства / Пер. с фр., сост., послесл. и коммент. В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 392 с.
В книге собрана автобиографическая проза французского писателя Жоржа Перека. Роман «W, или Воспоминание детства» — уникальный пример совмещения действительности и вымысла: скудная на перипетии история сироты и жертвы холокоста срастается с красочной фантазией о тоталитарном обществе острова W, одной из самых страшных антиутопий XX века. Эссе «Эллис-Айленд» посвящено американскому транзитно-пропускному пункту, через который прошло около шестнадцати миллионов эмигрантов из Европы и описывает символическое место рассеяния и блуждания, испытания и надежды. Сборник дополняют заметки писателя, а также интервью с ним.
Ньокки осени той, или Ответ на несколько затрагивающих меня вопросов*
На другой стороне улицы, у края крыши дома напротив, неподвижно сидят три голубя. Над ними, правее, дымится труба; к дымоходам жмутся озябшие воробьи. Внизу шум улицы.
Понедельник. Девять часов утра. Вот уже два часа, как я пишу этот давно обещанный текст.
Первый вопрос, несомненно, таков: «Почему надо было ждать до последнего момента?» Второй вопрос: «Почему такое название и такое начало?» Третий вопрос: «Почему текст начинается с вопросов?»
Что в этом такого сложного? Зачем начинать с игры слов — в меру заумной, дабы потешить горстку приятелей? Зачем продолжать через описание — в меру псевдонейтральное, дабы все понимали, что я встал рано, поскольку не успеваю и чувствую себя неловко оттого, что не успеваю, хотя — совершенно очевидно — не успеваю только потому, что сама тема последующих страниц вызывает у меня неловкость. Мне неловко. Правильный вопрос: почему мне неловко? Должен ли я оправдываться за то, что мне неловко? Или же мне неловко, потому что я должен оправдываться?
Это может продолжаться очень долго. Литератору свойственно рассуждать о своем бытии и вязнуть в липкой жиже противоречий: проницательность и потерянность, одиночество и солидарность, фразерство об угрызениях совести и так далее. Это продолжается уже много лет и начинает утомлять. Вообще-то, мне это никогда не казалось интересным. Не мне зачинать процесс интеллектуалов, я не собираюсь снова лезть…
Моя задача, наверное, в том, чтобы достичь — не скажу, истины (с какой стати мне знать ее лучше других и, следовательно, по какому праву выступать?) — не скажу и действенности (это проблема между словами и мной), а скорее — откровенности. Это не вопрос этики, а вопрос практики. Это, несомненно, не единственный вопрос, которым я задаюсь, но это, мне кажется, единственный вопрос, который почти постоянным образом оказывается для меня кардинальным. Но как ответить (искренне), если именно искренность я и ставлю под сомнение? Что делать — и в какой уже раз, — чтобы избежать этих зеркальных игр, внутри которых «автопортрет» будет всего лишь каким-то по счету отражением изрядно прореженного сознания, гладко отшлифованного знания, тщательно вышколенного письма? Портрет художника в виде ученой обезьяны: могу ли я сказать «искренне», что я — клоун? Могу ли достичь искренности вопреки пышному и громоздкому аппарату, в глубинах которого последовательность вопросительных знаков, отмеряющая предыдущие параграфы, — это уже давно инвентаризованная фигура (сомнения)? Могу ли я и впрямь надеяться на то, что выкручусь при помощи нескольких более или менее ловко брошенных фраз?
«Способ является частью истины в той же мере, что и результат…» — эту фразу я уже давно тяну за собой. Но мне все труднее верится, что я сумею выкрутиться при помощи девизов, цитат, лозунгов и афоризмов: я уже извел целый арсенал: «Larvatus prodeo», «Я пишу, чтобы себя пройти», «Open the door and see all the people» и так далее, и тому подобное. Некоторым все еще удается меня очаровывать, волновать, они по-прежнему исполнены поучительности, но с ними можно делать что угодно, отбрасывать, подбирать, они обладают всей требуемой от них покорностью.
И все же…
Каков правильный вопрос? Вопрос, который позволит мне действительно ответить, ответить себе? Кто я? Что я? Где я?
Могу ли я измерить пройденный путь? Достиг ли я хотя бы некоторых из поставленных перед собой целей, если я действительно ставил перед собой какие-то цели? Могу ли я сказать сегодня, что я — такой, каким хотел когда-то стать? Я не спрашиваю себя, отвечает ли моим устремлениям мир, в котором я живу, потому что при ответе «нет» у меня все равно не возникло бы ощущения, что я значительно продвинулся. Но соответствует ли моим пожеланиям, моим ожиданиям жизнь, которую я веду?
Сначала все кажется простым: я хотел писать и я писал. В результате этих усилий я стал писателем; сначала и долго я был писателем для себя одного, сегодня — и для других. В принципе, мне нет нужды оправдываться (ни в своих глазах, ни в глазах других): я писатель, это установленный факт, данность, очевидность, определение. Я могу писать или не писать, могу неделями или месяцами ничего не писать, либо писать «хорошо», либо писать «плохо»: это ничего не меняет, это не делает мою писательскую деятельность побочной или дополнительной. Кроме писательства, я не делаю ничего другого (разве что выискиваю время, чтобы писать), я не умею делать ничего другого, я не захотел научиться чему-то другому…
Я пишу, чтобы жить, и живу, чтобы писать, и в какой-то момент я был недалек от того, чтобы вообразить, что письмо и жизнь могли бы полностью слиться. Я жил бы в окружении словарей, в уединении, в какой-нибудь провинциальной глуши; по утрам гулял бы в лесу, пополудни марал бы несколько страниц, а по вечерам мог бы иногда давать себе послабление и слушать немного музыки…
Разумеется, когда возникают подобные идеи (даже если это всего лишь карикатурные идеи), то понимаешь, что следует срочно задать себе несколько вопросов…
Я знаю в общих чертах, как я стал писателем. Но я не знаю точно почему. Неужели, чтобы существовать, мне действительно требовалось строчить слова и фразы? Неужели, чтобы быть, мне требовалось быть автором нескольких книг?
Чтобы быть, я ждал, когда другие меня обозначат, идентифицируют, признают. Но почему через письмо? Могу предположить, что по тем же самым причинам я долгое время хотел стать художником, но стал все же писателем. Почему это было именно письмо?
Имелось ли у меня нечто особенное сказать? Но что я сказал? Речь идет о том, чтобы сказать — что? Сказать, что существуешь? Сказать, что пишешь? Сказать, что ты писатель? Потребность сообщить — что? Потребность сообщить, что есть потребность сообщаться? Что в этот момент происходит общение? Письмо говорит, что оно есть, и ничего другого, и вот мы снова оказываемся в зеркальном дворце, где слова отсылают друг к другу, отражаются до бесконечности, но всегда упираются лишь в свои тени.
Я не знаю, чего именно — начав писать пятнадцать лет назад — я ждал от письма. Но мне кажется, я начинаю осознавать зачарованность, которую письмо вызывало — и продолжает вызывать — у меня, и в то же время провал, который эта зачарованность скрывает и выявляет.
Письмо меня оберегает. Я выступаю под защитой слов, фраз, искусно сцепленных параграфов, хитроумно запрограммированных глав. Я не лишен изобретательности.
Неужели мне все еще требуется защита? А если щит превратится в ярмо?
Когда-нибудь мне все же придется использовать слова для разоблачения действительности, для разоблачения своей действительности.
Вот что сегодня я могу сказать наверняка о своем замысле. Но я знаю, что он полностью осуществится только в тот день, когда — раз и навсегда — мы изгоним Поэта из города. В тот день мы сможем — не шутки ради и впервые запретив себе насмешливость, притворство и деланое геройство — взять кирку или лопату, отбойный молоток или мастерок. Дело даже не в том, что так мы добьемся какого-то прогресса (все, наверное, будет измеряться на другом уровне), а в том, что наш мир наконец начнет освобождаться.
* Во французском названии «Les gnocchis de l’automne ou réponse à quelques questions me concernant» («Осенние ньокки…» или «Осенние клецки…») обыгрывается фонетическое сходство с греческим изречением «γν§θι σεαυτόν» («познай самого себя»). Эта фраза, подсказанная Аполлону «семью мудрецами» и высеченная на храме Аполлона в Дельфах, лежит в основе сократовской теории познания.
Эрик Сати. Заметки млекопитающего
- Эрик Сати. Заметки млекопитающего / Пер. с фр. В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 416 с.
В книгу «Заметки млекопитающего» вошли избранные прозаические отрывки и наброски, притчи и скетчи, «мысли и афоризмы», критические отзывы и эстетические воззвания, письма и эпистолы Эрика Сати (1866–1925), первого современного композитора, вдохновителя группы «Шести», изобретателя «меблировочной музыки», абсурдиста и фантазера, который «пришел слишком юным в мир слишком старый».
ВОСПОМИНАНИЯ СКЛЕРОТИКА
(ФРАГМЕНТЫ)Кто я такой Кто угодно вам скажет, что я не музыкант. Это правда.
Еще в начале карьеры я сразу же записал себя в разряд фонометрографов. Все мои работы — чистейшей воды фонометрия. Если послушать «Звездного сына» или «Пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре» или «Сарабанды», сразу становится понятно, что при создании этих произведений я не руководствовался никакими музыкальными идеями. В них господствует только научная мысль.
К тому же мне приятнее измерять звук, нежели в него вслушиваться. С фонометром в руке я работаю радостно & уверенно.
И что я только не взвешивал и не измерял? Всего Бетховена, всего Верди и т. д. Весьма любопытно.
Впервые я применил фоноскоп для того, чтобы изучить си бемоль средней толщины. Смею вас заверить: в жизни не видел ничего более омерзительного. Я даже позвал слугу, чтобы и он посмотрел.
На фоновесах обычный, вполне заурядный фа диез потянул на 93 килограмма. Его издавал взвешенный мною очень жирный тенор.
Знаете ли вы, что такое очистка звука? Дело грязное. Операция по растяжке намного чище. Классификация — весьма кропотливое занятие, требующее хорошего зрения. Здесь мы уклонились в фонотехнику.
Что касается звуковых, часто столь неприятных взрывов, их силу можно надлежащим образом смягчить, — правда, в индивидуальном порядке — если заткнуть уши ватой. Здесь мы уклонились в пирофонию.
При сочинении «Холодных пьес» я использовал записывающий калейдофон. На это у меня ушло семь минут. Я даже позвал слугу, чтобы и он послушал.
Позволю себе заявить, что фонология выше музыки. Она разнообразнее. И в денежном отношении выгоднее. Своим состоянием я обязан именно ей.
Во всяком случае, средненатренированный фонометрист может легко извлечь на своем мотодинамофоне намного больше звуков, нежели самый искусный музыкант. А времени и сил потратит на это столько же. Вот почему я так много написал.
Итак, будущее — за филофонией.
Совершенное окружение Жить среди прославленных произведений Искусства — одна из самых великих радостей, данных нам в ощущении. Из всех бесценных памятников человеческой мысли, которые я, учитывая свой скромный достаток, избрал себе в спутники жизни, прежде всего заслуживает описания великолепный фальшивый Рембрандт, выполненный масштабно и проникновенно, как раз для поедания глазами — как внушительный зеленющий фрукт.
В моем рабочем кабинете вы можете увидеть еще один уникальный предмет для восхищения: бесспорно изыскан ный и красивейший «Портрет, приписываемый Неизвестно кому».
Я еще не рассказывал вам об утонченной подделке Тенирса? Это также восхитительная и редчайшая в своем роде вещица.
Мои сокровища в оправе из твердой древесины — божественны. Не правда ли?
Но что превосходит все эти искусные произведения, подавляя их тяжестью гениального величия, затмевая своим ослепительным светом? Фальшивая рукопись Бетховена — великолепная апокрифическая симфония мастера, — благоговейно приобретенная мною лет, наверное, десять назад.
Среди всех произведений титанического музыканта эта еще неизвестная десятая симфония — одна из самых пышных. Пропорции просторные, как дворцовые залы; идеи тенистые и прохладные, аранжировки точные и правильные.
Эта симфония должна была существовать непременно: «девять» — совершенно не бетховенское число. Он любил десятеричную систему. «У меня же десять пальцев», — объяснял композитор.
Придя внимать этому шедевру своими отрочески сосредоточенными и мечтательными ушами, некоторые совершенно безосновательно посчитали, что он ниже бетховенского дарования, о чем не преминули высказаться. И даже зашли еще дальше в своих оценках.
В любом случае, Бетховен не может быть ниже себя самого. Его техника и форма остаются знаменательными и возвышающими, даже в неимоверно малом. Упрощение к нему неприменимо. Бетховена не может смутить ничто, даже если ему, как художнику, припишут подделку.
Неужели вы полагаете, что какой-нибудь прославленный атлет, чья сила и ловкость уже давно получили публичное триумфальное признание, унизит себя тем, что понесет скромный букетик из тюльпанов и веток жасмина? Насколько он умалит свое достоинство, если нести этот букет ему поможет ребенок?
Что вы на это можете возразить?
Три кандидатуры меня одного Более удачливый, чем я, Гюстав Шарпантье — член Института Франции. На правах давнего приятеля позволю себе прямо здесь почтить его нежным рукоплесканием.
Я трижды выдвигался кандидатом в Изысканное Собрание, претендуя на кресло Эрнеста Гиро, кресло Шарля Гуно и кресло Амбруаза Тома.
Совершенно безосновательно мне были предпочтены гг. Паладиль, Дюбуа & Лёневё.
И это меня сильно огорчило.
Не будучи слишком наблюдательным, я все же отметил, что Драгоценные Члены Академии Изящных Искусств проявили по отношению к моей персоне настырную пристрастность, предвзятость, граничащую с явной предумышленностью.
И это меня сильно огорчило.
Когда выбирали г-на Паладиля, друзья говорили мне: «Мэтр, не противьтесь. Потом он проголосует за вас. Его поддержка будет обладать бóльшим весом». Я не получил ни его голоса, ни его поддержки, ни его веса.
И это меня сильно огорчило.
Когда выбирали г-на Дюбуа, друзья говорили мне: «Мэтр, не противьтесь. Потом они вдвоем проголосуют за вас. Их поддержка будет обладать бóльшим весом». Я не получил ни их голосов, ни их поддержки, ни их веса.
И это меня сильно огорчило.
Я самоустранился. Г-н Лёневё посчитал вполне приличным занять причитающееся мне место и не испытал при этом никакой неловкости. Он хладнокровно уселся в мое кресло.
И это меня сильно огорчило.
С непреходящей грустью буду вспоминать г-на Эмиля Пессара, моего старого Соратника и Сопретендента. Я неоднократно имел возможность убедиться в том, что он действует неправильно, весьма неловко и совершенно бесхитростно. Он не в курсе, причем так, что всем очевидно, что он не в курсе. Несчастный господин! Как ему будет трудно втереться, проникнуть в лоно, которое к нему столь нелюбезно, неприветливо, негостеприимно! Вот уже двадцать лет я вижу, как он тыкается в сие неблагодарное, ожесточенное, угрюмое место вожделения, а ушлые господа из Дворца Мазарини удивленно взирают и поражаются его бессильному упорству и жалкой немощи.
И это меня сильно огорчает.
Театральные штучки Я уже давно подумывал написать лирическую драму с таким вот необычным сюжетом:
Я — алхимик.
Как-то в полном одиночестве отдыхаю у себя в лаборатории. За окном — мрачное тускло-свинцовое небо: какой ужас!
Я грустен, не зная почему; почти испуган, не понимая отчего. Ради развлечения решаю медленно посчитать на пальцах от одного до двухсот шестидесяти тысяч.
Считаю. И еще больше печалюсь. Встаю, беру волшебный орех и бережно кладу его в шкатулку из кости альпака, инкрустированную семью бриллиантами.
И тотчас чучело птицы взлетает, скелет обезьяны убегает, кожа свиньи лезет на стену. Ночь скрывает предметы и размывает формы.
Вдруг кто-то стучится в дальнюю дверь, возле которой хранятся мидийские талисманы, проданные мне одним полинезийским одержимым.
Кто это? Господи! Не оставляй раба своего. Он, конечно, грешил, но раскаялся. Прости его, прошу тебя!
Тут дверь приоткрывается, открывается и раскрывается, как глаз: входит, проходит и подходит какое-то бесформенное и безмолвное существо. Моя оторопевшая плоть исходит холодным потом. В горле все пересыхает и высыхает.
Во мраке возносится голос:
— Сударь, кажется, у меня дар прозрения. Голос незнакомый. А существо вновь произносит:
— Сударь, это я. Это ведь я.
— Кто «я»? — в ужасе кричу я.
— Я, ваш слуга. Кажется, у меня дар прозрения. Вы ведь бережно положили волшебный орех в шкатулку из кости альпака, инкрустированную семью бриллиантами?
— Да, друг мой, — ошарашенно лепечу я. — А как вы узнали?
Он приближается ко мне, ускользая от взгляда, сумрачный, черный в кромешной тьме. Я чувствую, как он дрожит. Наверняка боится, что я выстрелю в него из ружья.
И, икая, как малое дитя, слуга шепчет:
— Я вас прозрел в замочную скважину.
Распорядок дня музыканта Художник должен упорядочить свою жизнь.
Вот точное расписание моих занятий на день:
Подъем: в 7 ч. 18 мин.; вдохновение: с 10 ч. 23 мин. до 11 ч. 47 мин. Обедаю в 12 ч. 11 мин. и встаю из-за стола в 12 ч. 14 мин. Спасительная прогулка верхом в глубине моего парка: с 13 ч. 19 мин. до 14 ч. 53 мин. Очередной приступ вдохновения: с 15 ч. 12 мин. до 16 ч. 07 мин. Различные занятия — фехтование, размышления, замирание, посещения, созерцание, разработка ловкости рук, плавание и т. д.: с 16 ч. 21 мин. до 18 ч. 47 мин. Ужин накрывается в 19 ч. 16 мин. И заканчивается в 19 ч. 20 мин. Затем следуют симфонические чтения вслух: с 20 ч. 09 мин. до 21 ч. 59 мин. Обычно мой отход ко сну происходит в 22 ч. 37 мин.
Раз в неделю — внезапное пробуждение в 3 ч. 19 мин. (по вторникам).
Я ем исключительно белую пищу: яйца, сахар, тертые кости; сало мертвых животных; телятину, соль, кокосовые орехи, курицу, сваренную в свинцовом сахаре; плесень фруктов, рис, репу; камфорную колбасу, лапшу, сыр (белый), ватный салат и некоторые виды рыб (без шкурки). Пью кипяченое и остуженное вино, разбавляя его соком фуксии. У меня хороший аппетит; но я никогда не разговариваю во время еды из боязни подавиться.
Дышу я аккуратно (каждый раз понемногу).
Танцую редко. Во время ходьбы держусь за бока и пристально смотрю назад.
У меня очень серьезный вид, и если я смеюсь, то делаю это нечаянно. За что извиняюсь всегда и искренне.
Сплю только одним глазком; сон мой весьма крепок. Кровать у меня круглая с дыркой для головы. Каждый час появляется слуга с градусником; он забирает мою температуру и оставляет мне чужую.
Я уже давно выписываю журнал мод. Ношу белую шапку, белые чулки и белый жилет.
Мой врач неизменно советует мне курить табак. После традиционной рекомендации он всякий раз добавляет:
— Курите, друг мой! Иначе вместо вас закурит кто-то другой.
Томас Венцлова. Пограничье
- Томас Венцлова. Пограничье: Публицистика разных лет. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 640 с.
В Издательстве Ивана Лимбаха вышла книга избранных публицистических статей литовского поэта Томаса Венцловы «Пограничье». Судьба неофициальной культуры и моральный выбор творческой личности в тоталитарном государстве; опыт внутренней и внешней эмиграции; будущее Литвы как части Евросоюза и соседа современной России — одни из многих тем, над которыми размышляет автор. Книгу дополняют воспоминания о Юрии Лотмане, Ефиме Эткинде, Иосифе Бродском и Чеславе Милоше.
Русские и литовцы
Одна из величайших бед в мире — стадные инстинкты и навязанные жаргоны: коммунистические, антикоммунистические, любые другие. У нас только тогда появляется возможность сказать что-нибудь стоящее, когда мы решаемся противоречить общепринятому — особенно касаясь такой болезненной темы, как национальные отношения и взаимные счеты. Еще в Литве я написал для самиздата статью «Евреи и литовцы». Я не отказываюсь ни от одной ее строчки (правда, мне хотелось бы самому перевести ее на родной язык, и, наверное, я это сделаю). За рубежом она не только вызвала дискуссию, что естественно, но и послужила поводом для позорных антисемитских комментариев. Эта реакция доказывает, что статья не была бессмысленной, что, само собой, приятно каждому публицисту. Более серьезные люди в эмиграции упрекали меня в том, что я поддерживаю теорию коллективной ответственности нации (то есть и коллективного наказания); однако в статье я говорил не о коллективной ответственности, а о коллективной совести — явлении, о необходимости которого, немцам напомнил Генрих Бёлль, а русским — Александр Солженицын.
Тема, которую я собираюсь рассмотреть сейчас, не менее, даже более сложна. Правда, теперь я пишу не для самиздата, а для нормальной печати, и это вполне ощутимая разница. Но я снова коснусь вопроса о коллективной, национальной совести. Я и теперь считаю, что нацию в определенном смысле можно и нужно понимать персоналистически, как большую личность. Это основная предпосылка, из которой следуют достаточно серьезные выводы. Полагаю, что она не противоречит и научно-социологической точке зрения. Она лишь находится в другой (моральной) плоскости, рассматривает национальную проблематику в другом измерении.
Для начала процитирую слова одного нового литовского эмигранта. Делясь своими мыслями с компанией земляков-эмигрантов, он сказал несколько слов и о том, что сейчас (кстати, не только сейчас) меня занимает. На вопрос, не ощущают ли литовцы превосходства над русскими, ответил так: «Ощущают в том смысле, что русские — не европейцы, а русско-монголо-татарская ассимиляционная смесь, для которой явления европейской культуры непонятны и чужды, а в советском масштабе даже враждебны и опасны».
Эти слова вызывают у меня (как, вероятно, у любого рационалиста) внутренний протест. Я никогда не соглашусь, что Чаадаев или Набоков «не европейцы» и что для них «явления европейской культуры непонятны и чужды». У литовцев, к сожалению, европейцев такого масштаба до сих пор не было. Я уверен, что и Солженицын с Сахаровым своей деятельностью реализуют именно те идеалы, которые веками складывались в Европе. Кстати, само противопоставление «европейцев» и «азиатов» — вещь сомнительная и скользкая. Ну да ладно. Русских сопоставляют с татарами и монголами — а ведь здесь не все так просто. Во-первых, не доказано, и вряд ли будет доказано, что «ассимиляционная смесь» чем-то существенно хуже чистой расы. Во-вторых, татары и монголы заслуживают презрения не больше, чем любая другая нация. Скажем, крымские татары, став жертвой геноцида, снискали всеобщее уважение своей героической (и очень европейской) борьбой за человеческие и национальные права. А монголы дали не только Чингисхана, но и утонченную буддийскую культуру (совершенно так же, как немцы дали не только Гитлера, но и Гёте и Гегеля). С тем, что явления европейской культуры «в советском масштабе даже враждебны и опасны», тоже можно поспорить. Ведь марксизм, в верности которому и сейчас клянутся советские вожди, родился не где-нибудь, а в университетах и библиотеках Европы. Правда, здесь стоит вспомнить старую московскую шутку. Центральная улица Москвы — проспект Маркса — начинается с библиотеки и университета, а заканчивается небезызвестным зданием на Лубянке. Но начало-то все же в чисто европейских учреждениях… И большинство знатоков марксизма согласится, что конфигурация проспекта не лишена внутренней логики.
Художник Владисловас Жилюс, сказавший процитированные мной слова, — человек, сомневаться в таланте и решительности которого у меня нет ни малейшего повода. Кроме того, не совсем ясно, говорит ли он от своего имени или передает мнение, бытующее в Литве. Поэтому я его ни в коей мере не осуждаю. Тем более что это мнение в Литве действительно распространено — в этом Жилюс нисколько не ошибается. Массовое сознание не только эмигрантов, но и живущих в Литве таит в себе немалую толику презрительного и агрессивного отношения к русским. У рядового русского, само собой, по отношению к литовцам наблюдаются аналогичные чувства (может быть, несколько меньше презрения, которое нередко заменяется завистью).
Легко сказать, что это естественное явление. С русскими в сознании литовцев связаны воспоминания о депортациях, экономических бедах, ежедневном насилии над культурой и религией, об унижающей человеческое и национальное достоинство обязанности всевозможными способами прославлять старшего (точнее, большего) брата; наконец, с ними связана то отдаляющаяся, то приближающаяся, но всегда маячащая на горизонте опасность тюрьмы и физической гибели. У русского в свою очередь есть тайная уверенность, что литовцы — это фашисты, которые стреляли в его соотечественников (что было, то было) и при случае пальнут в него самого; кроме того, они как-то умудряются жить лучше, чем он, по сути дела эксплуатируя Россию таким же манером, как чехи, поляки или кубинцы. Вот на такой психологический фундамент опирается ежедневный, бытовой контакт обоих народов. Здесь можно и часто даже нужно увидеть похвальную литовскую стойкость и пассивное сопротивление. Но я в этом усматриваю еще и трагедию двух народов.
Ненависть можно понять. В Восточной Европе ее понять особенно просто. Иногда ненависть можно в большей или меньшей степени оправдать (точнее, простить). Но ненависть и чувство мести не способствуют конструктивному решению каких бы то ни было социальных проблем. Большáя, а может быть, и бóльшая часть литовцев смотрят на русских недифференцированно, руководствуясь лишь эмоциями и чуть ли не расовыми инстинктами, а не разумом. С этой точки зрения, положение в Литве и в эмиграции мало чем отличается. Русский становится тем козлом отпущения, на которого сваливают все несчастья советских лет. Русского считают жандармом, алкоголиком, апатичным варваром, развратником, наконец, убийцей. Увы, прибывающие в Литву «колонисты», особенно администраторы, частенько соответствуют если не всем, то хотя бы части этих эпитетов. Эпитеты эти, впрочем, применимы и ко многим литовцам, но на это, само собой, обращается куда меньше внимания. Русский, мол, таким уж уродился, и ничего тут не поделаешь; а литовец — только «заразился» или «продался», но со счетов его окончательно списывать нельзя. Эти чувства и психологические стереотипы достаточно сильны и в рядах литовской коммунистической элиты. Там чувства достигают, возможно, наибольшего накала, так как элита вынуждена ежедневно громогласно клясться в любви к русскому народу, а вообще-то жаждет переделить с русскими в свою пользу места у власти и оклады. Кроме того, различные мелкие подлости, которые часто совершают сами литовские партийцы, прекрасно могут быть объяснены «диктатом Москвы» или «нежеланием злить Москву» — в то время как Москва об этих делах порой знать не знает. Такая ежедневная практика лицемерия психически давит на человека власти, доводит его до бешенства, и ему можно только посочувствовать.
Недифференцированный, несбалансированный, ксенофобский взгляд, напоминающий взгляд европейского мещанина на «гастарбайтеров» или американского мещанина на афро-американцев, проявляется и в других слоях общества. Порой — к счастью, достаточно редко — эта точка зрения прорывается и в подпольную печать. Отчасти это следствие пережитых и переживаемых до сих пор несчастий. Но отчасти это не что иное, как «советизация наизнанку». Люди не принимают скомпрометировавшей себя идеологии и не в состоянии выработать другую, более конструктивную и гуманную. Не хватает знаний о мире, о своих собственных традициях, нет нормальных условий для дискуссии, наконец, нет ни сил, ни времени, ни большого желания.
И власть, кажется, начинает замечать, что эти нецивилизованные национальные чувства иногда ей на руку — по древнему закону «разделяй и властвуй». В Польше, Украине всевозможными методами разжигается антисемитизм (с гордостью можно утверждать, что в сегодняшней Литве разжечь его не удалось). В той же Польше Гомулка и Мочар для сохранения своей власти пытались использовать даже антирусские настроения (думается, с молчаливого одобрения Москвы). В резко антирусско настроенной Албании внутренняя политика больше соответствует сталинской модели, чем в самой России (над этим стоит задуматься людям, которые считают, что независимость — это лекарство от всех болезней). Кстати, следователи литовской госбезопасности, насколько известно из подпольной печати, часто задают задержанным диссидентам-националистам сокрушительный, с их точки зрения, вопрос: «И что тебе этот Сахаров? Он же русский».
Разумеется, особенно сильно — намного сильнее, чем литовский, — разжигается русский шовинизм. Но это, с моей точки зрения, должно беспокоить (и беспокоит) русскую интеллигенцию. Меня же, литовца, беспокоят мои земляки, их комплексы, их ошибки. Так или иначе, обратная связь национальной ненависти и мести — штука очень опасная и нежелательная. Если эти психологические настроения будут усиливаться, в случае изменений в Восточной Европе мы можем дождаться резни, перед которой померкнут события современного Ольстера и даже трагическая партизанская борьба в Литве сороковых-пятидесятых годов. Лучшие люди Литвы и России — это я могу утверждать со всей ответственностью — постепенно гасят эту обратную связь. И эмиграция, общаясь с новой русской эмиграцией, может им оказать некоторое содействие. Это не будет ни «национальным разоружением», ни «потерей бдительности». Наоборот, настоящие национальные поражения начинаются тогда, когда анализ сменяется неконтролируемыми эмоциями, ксенофобией и громогласными фразами.
Народ можно понимать как своеобразное многогранное целое, составные части которого дополняют, поддерживают, регулируют, а иногда и заменяют друг друга. Они даже могут бороться между собой, не теряя своего сущностного единства. Эта точка зрения, думаю, приемлема как для ученого-рационалиста (например, кибернетика), так и для мыслителя религиозной ориентации: они видят один и тот же феномен в разных, но не отрицающих друг друга перспективах.
Кроме того, нация (как и личность) — система с временным измерением. И только в том случае она достойна названия нации, если у нее есть историческая память и самобытный, отличный от других проект будущего. Усилия современного тоталитаризма денационализировать, ликвидировать нации направлены прежде всего на это временное измерение: национальная историческая память всячески разрушается, прошлое искажается, подвергается цензуре, а в будущем всем предлагается одна и та же судьба (собственно говоря, увековечивание судьбы теперешней). В несколько схожем направлении действуют тенденции массовой культуры в демократических странах, но все же это другая (и очень сложная) проблема. Уничтожение наций, их слияние, несомненно, означало бы конец мировой культуры — по крайней мере, той культуры, которую мы знаем, любим, которую действительно стоит любить. К счастью, похоже, это уничтожение — все-таки утопия.
Человека формирует его нация, ее семиотические системы (главнейшая среди них язык, но иногда ее дополняют, а иногда и заменяют другие системы, например, религия). Сочетание различных национальных систем, их взаимопроекции и даже борьба (пока она не оборачивается уничтожением) делают культуру более динамичной, обогащают ее, и тем самым культура становится более адекватным средством ориентации и самосохранения человека. Солженицын в своей нобелевской речи указал на этот факт словами, которые часто цитируются: «Исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди приобрели один характер, стали на одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его: самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла». Хотя Солженицын, по своему обыкновению, употребляет религиозную терминологию, его точка зрения хорошо понятна и неконфессионально настроенному человеку. Добавлю еще, что малые нации особенно расширяют возможности мировой культуры, потому что их культурный потенциал (так сказать, исторически данное им количество «культурных штатных единиц»), как правило, не связан напрямую с их величиной. Кстати, система функционирует оптимально до тех пор, пока не превзойдет определенный масштаб. Среди наиболее успешно функционирующих государств мы видим Исландию, среди наименее успешных — тоталитарные СССР и Китай, а также демократическую Индию (с другой стороны, скажем, у небольшой Венгрии есть многочисленные достоинства в сравнении с СССР). Разумеется, всюду есть исключения, но и они объясняются исторически и географически. Нации (и прежде всего небольшой нации) присуще особое самоопределение в мире, в нормальных условиях приобретающее форму самостоятельного государства. В таком государстве, в общем, проще решать социальные конфликты и культурно расти; современные мировые тенденции к интеграции не противоречат этому факту. Конечно, независимыми могут считаться лишь те нации, которые действительно хотят этого и заслуживают это своей активностью, — другими словами, те, у которых есть свой «проект» и которые сумели сохранить его. При одном и том же языке могут быть разные «проекты» (англичане и американцы, португальцы и бразильцы); иногда язык может быть утрачен, а «проект» сохранен (ирландцы). Кстати, то, что случилось с ирландцами, может произойти с украинцами и особенно с белорусами, хоть это и нежелательно.
Следовало бы также сказать, что каждый народ — это открытая система. Ее ценность и возможности измеряются отнюдь не чистотой крови — скорее наоборот. В «гравитационное поле» более сильной культуры всегда попадает немалое число инородцев. Такие случаи хорошо известны русской истории: Гоголь был украинцем, Достоевский если не литовцем, как иногда утверждают, то, по крайней мере, белорусом, Мандельштам — евреем. Некоторые авторы «Континента» (Пятигорский) говорят в этой связи об имперском золотом веке русской культуры, когда инородцы включались в нее по собственной воле, не теряя при этом своих свойств и достоинств. Достаточно спорное утверждение. Но интересно, что похожее «гравитационное поле» есть и у литовцев. Это говорит о силе нации и даже могло бы избавить нас от некоторых комплексов. Литовскую культуру избрали для себя многие немцы (например, Юргис Зауервейнас и Йозеф Эрет), русские (например, Лев Карсавин), евреи (например, Ицхокас Мерас), поляки (хотя в последнем случае более сильным был обратный процесс).
Народы, без сомнения, могут нормально общаться, укреплять и обогащать друг друга только в условиях подлинного суверенитета и демократии. В этих условиях тоже возможны конфликты, но они в принципе решаемы при стремлении к стабильности и сотрудничеству. Нетрудно заметить, что в современном
мире стабильности и сотрудничества сильно не хватает, но виноват в этом тоталитаризм — тот Карфаген,
который должен быть разрушен.1977
Перевод с литовского Владиславы Агафоновой
Чеслав Милош. Азбука
- Чеслав Милош. Азбука / Пер. с польск. Н. Кузнецова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 608 с.
В конце января в Издательстве Ивана Лимбаха впервые на русском языке выходит интеллектуальная биография польского поэта Чеслава Милоша. «Азбука» написана в форме энциклопедического словаря и включает в себя портреты людей науки и искусства, раздумья об этических категориях и философских понятиях (Знание, Вера, Язык, Время и многое другое), зарисовки городов и стран — все самое важное в истории многострадального ХХ века.
Ангельская сексуальность. Когда появляется Единственная? Беатриче не была ни женой, ни невестой
Данте, а всего лишь молоденькой девушкой, которую
он иногда видел издали. Однако в «Божественной комедии» она встречает его и ведет, после того как Вергилий покидает поэта в последнем круге чистилища.
Этот средневековый идеал далекой и боготворимой
женственности постоянно появляется и в поэзии трубадуров Лангедока. Возвеличивание женщины как той, кто
посвящает в amore sacro, — в некотором роде отражение культа Марии.Позднее христианская культура поддалась влиянию латинской языческой поэзии, а это не способствует возвышенной любви, хотя красота дам и воспевалась
в бесчисленных стихах. А уж восемнадцатый век, Век
разума, и вовсе отличался свободой сексуальных нравов, в чем первенствовала Италия, так что дневники
Казановы, похоже, описывают не только его приключения.Единственная, предназначенная судьбой женщина
характерна для романтизма, и, вероятно, Вертер должен был застрелиться, не сумев добиться ее любви. Такая причина самоубийства была бы совершенно непонятна стоикам и эпикурейцам, а также придерживавшимся античной философии поэтам. Но люди конца
восемнадцатого — начала девятнадцатого века, в том
числе и польские романтики, читали совсем иные книги, из которых могли узнать кое-что о браке двух душ.Например, труды Сведенборга, которыми питалось
воображение Словацкого и Бальзака, когда они были
детьми. Кстати, стоит отметить, что «Час раздумий» и
два «сведенборгианских» романа Бальзака — «Серафита» и «Луи Ламбер» — написаны приблизительно в
одно и то же время, в начале 30-х годов XIX века. Людвика Снядецкая была воображаемой любовью Словацкого, зато госпожа Ганская действительно заняла важное
место в жизни крайне чувственного толстяка, а «Серафита» была написана не без мысли о преодолении католической щепетильности любовницы и заключении
брака с хозяйкой Верховни.Ни одна теософская система не приписывает любви
двух людей такого центрального значения, как конструкт воображения Сведенборга. Поскольку чувственный
и духовный миры связаны у него нитями «соответствия», всё, что происходит на земле, получает продолжение и на небесах. Земная любовь не приобретает
форму средневекового аскетизма или платоновской
идеализации. Это любовь, осуществляемая в браке, — телесная, но строго моногамическая. Именно такая любовь есть предвестие небес, ибо все небесные ангелы
были когда-то людьми и сохраняют силу и красоту времен своей молодости, а также пол, мужской или женский. Сохраняют они и чувственное влечение, отличаясь неизменно высокой сексуальной потенцией.
Счастливые земные супружеские пары вновь встречаются и обретают молодость. Оставшиеся одинокими
находят себе небесных партнеров.Ангельская сексуальность у Сведенборга — это не
лишение тела, не бегство в эфемерные миры, какие-то
вечные мечты и грезы. Она физическая, земная в своей
сверхъестественности и разительно отличается от порочной сексуальности лишь тем, что влечение направлено
на одного человека. Полная гармония двух душ и тел —
вот цель земных существ, а если им не удается ее достичь, — тогда небесных, которые вдобавок не знают
усталости и никогда не наскучивают друг другу.В «Серафите» Бальзак вводит мотив андрогинности, то есть такого соединения мужской и женской
души, что вместе они составляют двуполое единство, —
может быть, потому, что, согласно концепции Сведенборга, на небесах умы супругов полностью сливаются воедино, и пара именуется не двумя ангелами, а
одним.Похоже, ни «Серафита», ни письма, в которых Бальзак пытался приобщить пани Ганскую к сведенборгианству, не изменили ее взглядов, разве что содержащаяся в них критика христианских конфессий приправила ее католичество вольтерьянством.
Откуда я об этом знаю? Я не бальзаковед, однако
знание французского позволяет мне обнаруживать комментарии и статьи, которых во Франции множество.
За «Человеческой комедией» Бальзака кроется сложная
философская конструкция, обычно недооценивавшаяся теми, кто видел в нем только реалиста. Несколько
раз переписывавшийся роман «Луи Ламбер», главный
герой которого — гениальный мыслитель, дает представление о двух переплетающихся направлениях: «научном» и мистическом. Во втором немаловажное место
занимает Сведенборг — впрочем, известный Бальзаку,
как и Словацкому, преимущественно из вторых рук.Сведенборгианские образы множества небес и преисподних вдохновляли литераторов — наверное, прежде всего потому, что традиционный христианский
образ ада и вечного наказания не согласовывался с понятием благого Бога. Легче представить себе естественное тяготение подобных к подобным, которые возносятся на небеса или падают в преисподнюю в силу
этого взаимного влечения, а не осуждения. Поэты черпали из Сведенборга полными пригоршнями — например, когда, подобно Бодлеру, взяли у него идею соответствий между чувственным и духовным мирами,
придав им значение символов.
Литература нон грата
На ярмарке Non/Fiction не хватит пары рук, чтобы унести все понравившиеся книги, и пары глаз, чтобы выбрать то, что действительно нужно. «Что у вас такое? Про Кафку? Нет, я его не читала. Что-нибудь женское подскажете?», — наперебой спрашивают покупатели. Журнал «Прочтение» решил узнать у издателей, какие новинки моментально сметаются с прилавков и есть ли запретные для России темы.

Ирина Кравцова, редактор Издательства Ивана Лимбаха:
— Российскому читателю интересны мемуары (в основном русская мемуаристика), классика, религиозные размышления, научно-популярная литература. Например, выпущенная нами книга Дика Свааба «Мы — это наш мозг» стала бестселлером. Совершенно не пользуются популярностью книги, связанные с маргинальными аспектами жизни. У нас вышел роман Паскаля Брюкнера «Дом ангелов» о том, как успешный риэлтор опускается на самое дно, буквально становится бомжом. Этот сюжет отторгается читателем с порога. Он даже не откроет книгу, если рассказать ему, о чем она. К писателю, пускай и не очень известному, возникает интерес, если о нем убедительно рассказать. Нужен дополнительный посыл.
Мы очень надеемся, что молодой аудитории будет интересна наша новинка — роман о приезжих «Чефуры, вон!» словенского писателя Горана Войновича. Книга очень заметная и похожа на произведение «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Это монолог семнадцатилетнего подростка о самосознании в чужой для себя стране. Он ведь тоже в некотором роде чефур, тот самый приезжий неизвестно откуда, неизвестно куда.

Ирина Трефильева, специалист по связям с общественностью издательства Livebook:
— Наши читатели крайне тяжело воспринимают книги на остросоциальные темы. Люди привыкли действовать по принципу «с глаз долой, из сердца вон», «меня это не коснется». Мы выпустили книгу Летти Коттина Погребина «Испытание болезнью: как общаться, сохранить отношения и помочь близкому» и сотрудничаем с благотворительными фондами, поднимаем тему культуры помощи. Сейчас это необходимо. На выставке мы наблюдаем, как люди, если берут книгу в руки и начинают вчитываться, тут же ее не просто кладут, а бросают. Они будто боятся прикоснуться и стать прокаженными. Конечно, это книга не для каждодневного чтения, но подобные темы не должны восприниматься как табу.
Неожиданно для нас оказалась востребована поэзия. Прекрасно продаются сборники Веры Полозковой, а недавно вышла книга стихов Андрея «Дельфина» Лысикова. Тираж пришел в конце ноября, а мы уже поднимаем вопрос о допечатке. Также читателей потрясла книга Миры Дэй «Мистер Вуду и дни недели». Она легкая и уютная, а после чтения хочется пойти испечь лимонный пирог. Этой наивной детскости сейчас многим не хватает. При этом книга глубока по внутреннему содержанию, в ней есть философский подтекст. Еще мы отмечаем интерес к качественному фэнтези. Читателям нравятся полностью выдуманные миры без магических особенностей с ощущением, что туда можно добраться на электричке. Не угасает интерес к нон-фикшн, например к нашей серии книг Леонарда Млодинова. Там серьезные научные темы поданы в доступном виде.

Ольга Бушуева, руководитель PR-службы издательской группы «Азбука-Аттикус»:
— Нашим читателям интересны хорошие романы, в том числе женские. Выведенных недавно на рынок авторов Джоджо Мойес, Лиан Мориарти и Элис Манро с большим удовольствием обсуждают на форумах. Пользуется популярностью остросюжетная проза, например роман Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» стал мировым бестселлером. Читателям интересны произведения Ю Несбе, Жана-Кристофа Гранже. Популярен и исторический нон-фикшн. Недавно вышла новая книга Энтони Бивора «Высадка в Нормандии», а в прошлом году его книга «Вторая мировая война» вошла в топ-лист нон-фикшн. «Нерассказанная история США» Оливера Стоуна в первую очередь вызывает интерес из-за качества ее исполнения.
Мы видим, что спросом пользуются красиво изданные книги. Также мы являемся эксклюзивным издательством, публикующим тексты Джоан Роулинг в России, выпускаем почти всю детскую классику. Еще есть интересный проект раскрасок, который мы называем «От нуля до 105». Взрослые с радостью покупают раскраски с рисунками Ив Сен-Лорана и Жана Кокто.
Ирина Уварова. Юлий Даниэль и все все все
- Ирина Уварова. Юлий Даниэль и все все все. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 360 с.
В «Издательстве Ивана Лимбаха» вышла книга воспоминаний Ирины Уваровой, вдовы писателя Юлия Даниэля, с чьим именем связывается громкий судебный процесс по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Книга охватывает период 1960—1980-х — годы «застоя» и одновременно активной культурной жизни. Ирина Уварова рассказывает о ключевых фигурах того времени, а также о центрах притяжения интеллигенции: театрах, художественных мастерских и журналах.
И было море
Говорить о нем, о Юлии, можно долго, а чувство, что главного так и не сказала. Есть такая формула — дьявол в мелочах. Но ведь ангелы тоже. Хочу закончить эпизодом, который, может быть, никому ничего не скажет, а мне — очень многое.
Первый отпуск вдвоем. Вначале даже не верилось. Как это так? Для Юлия ничего лучше моря и быть не могло.
Приехав с рекомендательным письмом от некого издательского фотографа, мы оказались в жилище ветхом, но просторном, там обитали две старушки. Бывшая хозяйка и бывшая служанка. Сказали: можете пожить у нас, пока не приедет
писатель Михалков, вы ведь знаете, кто он? Мы хором кивнули.— А тогда найдем вам что-нибудь другое. Пока же вот комната.
И мы открыли осевшую, еле живую дверь. Комната была велика и пуста. Что-то посредине вроде ложа, что-то в углу вроде буфета. Хозяйка прохромала через пустынное пространство к противоположной стене — и… открыла море.
Дверца вела прямо в море!
Я застыла.
Юлий же прямо туда пошел, на ходу раздеваясь, — в море! За дверью! Даже не помню, отделяла ли нас полоса глины…
А он уже плыл, он уже отдыхал на спине — и не было во всем мире и море человека счастливее его.Однажды спросила: ты что же, лес вовсе не любишь?
— У меня вся любовь к природе на море ушла.
Потом одна из старушек, та, что была когда-то служанкой, куда-то сходила, с кем-то сговорилась на другом краю поселка, и мы перебрались. Теперь до моря было несколько минут неспешной ходьбы, зато пляж наш собственный. Если какой-то
прохожий решал опрометчиво пляж пересечь, хозяин домика тут же появлялся и укорял неизвестного:— Совести нет, не видишь — люди отдыхают?
Мы были одни. Поначалу даже уши закладывало от тишины небывалой. В обед я жарила рыбу — хозяин ее оставлял в ведерке под верандой. Он много не разговаривал.
Хотя нет: однажды вдруг рассказал, как шпиона изловил и повел к пограничникам. Шпион ему семьсот рублей предлагал; что он ответил, помню дословно:
— Я, говорю, родину не продаю, да и семьсот рублей не деньги.
Такая жизнь. Сказочная и беспечная. Мы отдыхаем, на другом конце поселка патриарх Михалков, — говорят, с дамой, но это уж нас совсем не касается.
А патриарх все-таки касается. Дело в том, что он должен был стать общественным обвинителем на суде, да казус вышел. Казус замяли, но и в обвинители теперь не годился. Перед зданием суда в толпе сочувствующих Синявскому и Даниэлю ко мне подошла незнакомая женщина «из своих».— А вы знаете, что в Союзе писателей бардак?
— Да кто ж этого не знает!
— Нет, не в переносном смысле!
Поговаривали, что Михалков как-то к этой подпольной (не в переносном смысле) организации (надо же!) был причастен и потому не был допущен блеснуть на суде во всем великолепии.
И теперь то обстоятельство, что Михалков и Даниэль оказались обитателями этого в сущности необитаемого острова, было курьезным.— Может, ночью пойдем петь под окном серенаду? «Союз нерушимый республик свободных»?
— Да ведь у меня слуха нет.
Мы веселились, мы были беспечны, мы были вдвоем.
Впрочем, как раз не вдвоем, и вот об этом я хочу рассказать.
Когда вечером выходили на море посидеть на теплом песке, с нами приходил пес хозяйский, в репьях и клещах. Скоро и другие собаки поселка приходили посмотреть на закат.
Непонятно, что происходило в собачьем мире, но честно скажу — они к нему приходили, а не к нам. Меня только терпели. Или не замечали. Так мы сидели на теплом песке в окружении стаи.
А стая все увеличивалась, и уже, кажется, все собаки поселка сидели с нами, а потом провожали до самой калитки. И только хозяйский пес провожал Даниэля до крыльца.— Когда-нибудь я уйду от людей, — неожиданно сказал Юлий, — и буду кормить собак.
Дома в Москве нас поджидал Алик, черный спаниель, а также кот Лазарь Моисеевич, уж они-то рассказали бы вам, какой Юлий был замечательный создатель еды для зверья.
Последние сутки в приморском раю лил сумасшедший дождь. Оказалось — под нашей верандой вылупились котята, и много их было. Они замерзли, промокли и плакали. Пришлось их всех забрать к себе, так что последнее воспоминание о Приморском было: компресс из котят.Рай на то и рай, чтобы было солнце, море, звери. Но:
— Когда-нибудь я уйду от людей…
Что же это было?
Напрасно кольнуло в сердце, напрасен был мгновенный укус страха.
До этого не дошло.
Все кончилось раньше, не стало Юлия.
Но прежде чем его забрала смерть, ушли наши звери. Алик умер, Лазарь пропал в лесу под Перхушковом.Господи! Неужели же не смогу я просто вспомнить то море, ту тишину и того Юлика — предводителя стаи.
Был он смугл, тонок, в шортах, а псы — в репьях.
Да неужели все это было…
Полина Барскова. Живые картины
- Полина Барскова. Живые картины. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 176 с.
В Издательстве Ивана Лимбаха выходит первая книга прозы поэта Полины Барсковой. Сборник «Живые картины», двенадцать произведений которого объединены темой памяти, — результат многолетних архивных изысканий автора по истории блокады. Основанные на материалах дневников и писем тексты в некотором роде продолжают поэтический цикл Барсковой «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941–1945».
В книге, написанной «между прозой и поэзией, между вымыслом и документом, на территории травмы и стыда, голода и безумия блокады», литература становится не только исследованием, но способом освобождения персонажей от проклятия исторической амнезии.ПРОЩАТЕЛЬ
I
Снежные хлопья всё росли и обратились под конец в белых куриц. Одна из них, отряхнувшись,
оказалась небольшим пьяницей с пластиковым
пакетом в руках. Из мешка торчала герань.Подойдя к девочке, прохожий стал заглядывать ей в лицо. Совершенно размокшее, оно было раскрашено как будто для подслеповатых взглядов оперного райка: огромные брови, огромные губы, тяжёлые собачьи глаза, преувеличенные
жирными чёрными тенями. — А тепло ли тебе,
милая? А не жениха ли ты здесь ждёшь? — Мне
бы спичек. — А меня жена из дома выгнала. А давай я тебе скажу. — Он рыгнул и монотонно
страшно зашептал, не глядя: — Cмотри…Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас — больным крылом взмахнёт,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь…— Ого, — почти не удивившись, засмеялась
она. — Прямо греческий хор. Мне бы спичек?
Не были бы Вы так любезны? Не найдётся ли у
Вас случайно?Было ясно, что Морозко поддаётся только
на избыточную вежливость.За три часа под снегом её карманный коробок совсем сник.
— А нету, вот цветок бери.
Она рассеянно, послушно ухватила полный
снега мешок и стала идти.Справа из светло-бурого неба на неё вывалился клодтовский конь, весь выгнутый, но уже
готовый поддаться, злой.II
Пока его очередная мучка-мушка отдыхала, пытаясь отдышаться, покрытая лёгким потом,
Профессор, прислонясь лицом к стеклу, вспоминал и вспомнил до слова (уникальная па-
мять!):«Невдалеке от эстрады в проходе стоял человек.
Крепко сбитый, выше среднего роста, он
держал руки скрещёнными на груди.Он был странно одет, почти неприлично для
тех времён, для довоенного 13-го года: на нём
был шерстяной, белый, безукоризненной чистоты свитер: лыжник, пришедший прямо из снегов, это впечатление усиливалось обветренным
цветом лица и слегка кудрявыми тускло-рыжеватыми волосами; светлые, почти стеклянные,
как у птицы, глаза.Все проходили мимо него, слегка даже задевая его в тесноте, никто не подозревал, что
они проходят мимо самого Блока.Фотография поэта оповестила всю Россию
о его облике — фотография передержанная: чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые,
с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке, с отложным воротником, а главное — этот демон вторил ещё каким-то ранее
виденным оперным образам!»Профессору нравилось представлять его
себе — белоглазого, с обветренной кожей неузнаваемого невидимку, не того, кого они все ждут.Он и сам себе казался таким невидимкой,
никто не знал ни его, ни его настоящего голоса,
и это незнание было его смыслом и утешением.III
Тоска — томление — прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти
голоса могут составить единый голос, и тогда
сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого,
ни будущего, а только стыдотоска — никто не
забыт ничто не забыто — никому не помочь, а
забыты все.Кто я, не Харон ли я?
Ночной кораблик в Питере, стайка резвых
иностранок: — А Вы нас покатаете? — Покатаем? — А Вы насколько пьяны? — Да пошла ты! —
ласково-удивлённый клёкот. Мы заходим на
кораблик, и я вижу возле рулька початую бутылищу, даже скорее жбан. Харону трудно на трезвую голову: души ропщут.Архивист перевозит души из одной папки в
другую, из такой папки, откуда никто никогда
не услышит, в такую, откуда кто-нибудь — ну
хоть совсем ненадолго.Читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей, это уже физиология, остановиться читать нельзя.
Иногда казалось, что единственный способ
снова сделать это читаемым — переписать всё
заново, как башмачкин, букву за буквой, язычок
старательно высунут: как у котика, как у ботика.
Обвести блёкнущие каракули, таким образом их
обновив, привнеся в сегодня сам этот акт по-над-писывания.Слово за словом, исчезающие, как жир и сахар в ноябре, склонения спряжений. Запятые и
тире бледнеют и падают, перестают делать смысл,
не дышат и тают. Знаки препинания умерли в
блокадных дневниках первыми, лишние знаки,
как лишние люди, бескарточные беженцы из
Луги и Гатчины.Главное — противостоять времени: время будет давить на тебя.
Но смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несёшь себе, в себе.
IV
Вот и ещё один голос высовывается, выплывает,
расправляется и раздаётся.Катя Лазарева, шести лет в 1941 году, сероглазая суровая насмешливая.
Играли с мамой в буриме. Мама начинала:
Шёл дистрофик с тусклым взглядом,
Нёс корзинку с мёртвым задом.Катя заканчивала:
Шёл дистрофик по дороге.
У него распухли ноги.Или так:
Идёт дистроф, качается, вздыхает на ходу:
Сейчас стена кончается, сейчас я упаду.
А по вечерам они устраивали шарады.«Первая часть слова: поэт — чёрные кудри, чувственный рот, полузакрытые, с прищуром чёрные глаза, образ демона в бархатной куртке.
Вторая часть слова: папа в длинной ночной
рубашке изображает грешника, которого чертовка-мама жарит на сковороде».Как было сыграно междометие «А», Катя Лазарева не помнит, но всё слово в целом было
представлено так: саночки с ведром воды и
баночками для столовской каши, которые тащил спотыкающийся от голода дистрофик.
БЛОКАДА.V
А вот и ещё один голос.
Всю жизнь итальянский еврей Примо Леви с
упорством бестактного вредоносного насекомого
сумасшедшего писал о выпавшей ему неудаче.Смущённое мировое сообщество выдавало
ему премии и призы, благо теперь это было совсем легко. Получая приз, он ещё полгода его
переваривал, как удав, а потом выпускал из себя
новый том.Ни о чём другом он ни писать, ни говорить
не мог, и сны видел про это, и в болезненную
безликую жену входил про это, и истерики долго умирающей матери устраивал про это.В его случае продвижение от одного текста
к следующему означало укрупнение кадра, уточнение детали:
при пытке ощущение скорее таково нежели
воняло теперь более так чем двухнедельная
дизентерияКак и все наделённые природой и историей
таким тембром, он не смог хорошо приклеиться
к быстрому течению времени, оно его отторгло
и выбросило — в пролёт лестницы.Смущённая мировая общественность постановила, что это был несчастный случай, и присудила ещё одну премию — за изящество и скорость полёта, за то, что освободил он их всех от своих воспоминаний.
Крик дикого гуся, или 5 высказываний Мариуша Вилька
В четверг, 25 сентября, в отеле «Старая Вена» состоялась встреча с карельским писателем польского происхождения Мариушем Вильком. Бывший политический активист и военный корреспондент, он с 1991 года живет в России и ведет записи в своем самобытном «Северном дневнике» — художественном цикле, который том за томом выпускает Издательство Ивана Лимбаха. В камерной, дружеской обстановке Мариуш поделился размышлениями, которые возникают у него в доме над Онего.
О «Северном дневнике»
Все мои книги (на сегодняшний день их шесть) напоминают бетонные кольца — если кто-нибудь из вас копал колодец, то понимает, о чем речь. Первое кольцо, которое в самом низу, это роман «Волчий блокнот», второе — «Волок», третье — «Тропами северного оленя», четвертое — «Дом над Онего», пятое — «Путем дикого гуся». Шестой роман сейчас в переводе, а седьмой я пишу. Каждое кольцо отдаляет смотрящего в колодец от зеркала воды. Я бы хотел, чтобы все, кто возьмут эти книги, могли бы по мере чтения увидеть в них не мое отражение, а свое.
О задумке нового цикла книг
В последней главе «Путем дикого гуся» появляется моя дочь, которая родилась в тот момент, когда я заканчивал этот том. И я понял, что во всех предыдущих книгах на разный лад описал ее родину — Север. Теперь я задумываю начать другой цикл под названием «Дом отца», в котором мне надо успеть описать для нее Отчизну. Так получилось, что понятие «Отчизна», как и понятие «Бог», сильно политизировано и является игрушкой в руках партий. Поэтому в польском языке я использую слово XIV–XV веков, которое означает наследие по отцу, оно тогда было прежде всего отождествлено с домом или куском земли, но для меня важно оставить дочери наследство духовное — в виде книг и ценностей, размышлений о писателях и местах, которые я люблю. То есть Отчизна — это не только Польша, а шире — Европа, начиная с острова Крита, куда, по мифологии, бык привез маленькую девчонку на своей спине.
О дочери
Когда родилась Мартуша, для меня совсем по-другому пошло время — с этой темой связаны мои медитативные раздумья во всех томах. Каждый год, когда дочь задувает свечи на торте, я понимаю, что для нее это прибавление жизни, а для меня — убывание. Я отсчитываю от конца: минус шесть, минус семь.
Ее полное имя — Марта Матильда. И в посвящении своей новой книги я напишу уже не «Мартуше», не «дочери», а «М.М.», навязывая этим буквам смысл, который вкладывали в них средневековые монахи: каждую рукопись они начинали с сокращения М.М. — memento mori. Для меня моя дочь ассоциируется с размышлениями о смерти, но не в негативном смысле. Когда она родилась, я понял, что смерти не существует.

Об образе диких гусей
Первую зиму после рождения моя маленькая девчонка провела на печке в доме в Заонежье, которое я называю Зазеркальем. Следующая зима была для нее уже опасной, потому что она научилась ходить, а с пола всегда дует так, что замерзает вода. К тому же недостаток солнца и витаминов мог отразиться на здоровье. Мы решили, что каждую зиму будем жить на юге. И тут появилась тень дикого гуся, который на лето прилетает на север. Знаете зачем? Для любви. Это понятно, когда слышишь их крики: весной это крик радости, они кувыркаются в воздухе от счастья, что будут размножаться, и чувствуется энергетика в воздухе; а осенью — тоскливый, жалостный крик: «Опять этот юг!» И в нашей жизни получилось точно так же.
Но тогда встает вопрос, где же Отчизна. Я помню разговор на эту тему с Анной Нива, дочерью известного слависта, — она родилась в Швейцарии, живет во Франции, очень любит Россию. Я спросил ее: «Как ты думаешь, где отчизна гусей?» Мы поразмышляли и решили, что это ни юг и ни север. Это небеса. Ведь там тоже есть Отец, к которому мы все вернемся, независимо от вероисповедания.
О том, что есть на Севере, чего больше нет нигде на Земле
В цивилизованном мире, например, Европе на каждом шагу встречаются архитектурные и исторические памятники. Как на картине один слой накладывается на другой: видно и Средневековье, и Ренессанс — следы везде, где ни копнешь. На Севере есть пустота. Потому что там жили кочевники, которые не оставляли никаких трактов, базилик, замков, парков. Единственная архитектура — деревянная, которая со временем гниет и уходит в землю. Пустота в том числе пространственная, которая сближает с Папой.
Я считаю, что детство, если оно складывается в естественных условиях и не спеша, — это рай, из которого нас потом выгоняет знание. Неслучайно Ева дала Адаму плод Древа познания добра и зла. Факт того, что Север пустой и там нет напластований, может ассоциироваться с чистотой детства.