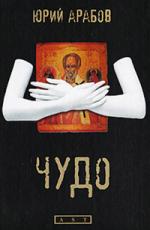Эссе из книги «Частный случай»
Morton, 44
«Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-ст. — просто попытка избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением», — писал Бродский про свою нью-йоркскую квартиру, в которой он дольше всего жил в Америке. Опустив промежуточные между Ленинградом и Нью-Йорком адреса, Бродский тем самым выделил оставшиеся точки своего маршрута.
Улица Мортон расположена в респектабельной части Гринвич-Виллидж, что напоминает эстетский район Лондона — Блумсбери. Впрочем, в лишенном имперского прошлого Нью-Йорке, как водится, все скромнее: улицы поуже, дома пониже, колонн почти нет.
То же относится к интерьеру. Но фотография, как театр, превращает фон в декорацию, делает умышленной деталь и заставляет стрелять ружье. Все, что попало в кадр, собирается в аллегорическую картину.
Что же — помимо хозяина — попало в фотографическую цитату из его жилья? Бюстик Пушкина, английский словарь, сувенирная гондола, старинная русская купюра с Петром Первым в лавровых листьях.
Название этому натюрморту подобрать нетрудно: «Окно в Европу». Сложнее представить, кому еще он мог бы принадлежать. Набокову? Возможно, но смущает слишком настойчивая, чтоб стоять без дела, гондола. Зато она была бы уместным напоминанием о венецианских корнях Александра Бенуа, одного из русских европейцев, которых естественно представить себе и в интерьере, и в компании Бродского.
Имя западников меньше всего подходит этим людям. Они не стремились к Западу, а были им. Вглядываясь в свою юность, Бродский писал: «Мы-то и были настоящими, а может быть, и единственными западными людьми». Этот Запад, требовавший скорее воображения, чем наблюдательности, Бродский не только вывез с собой, но и сумел скрестить с окружающим.
«Слово „Запад“ для меня значило идеальный город у зимнего моря, — писал Бродский. — Шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками„.
К удивлению европейцев, такой Запад можно найти не только в Венеции, но и в Нью-Йорке. Отчасти это объясняется тем, что руин в нем тоже хватает. Кирпичные монстры бывших складов и фабрик поражают приезжих мрачноватым — из Пиранези — размахом. Это настоящие дворцы труда: высокие потолки, огромные, чтобы экономить на освещении, окна, есть даже херувимы — скромная, но неизбежная гипсовая поросль фасадов.
Джентрификация поступила с останками промышленной эры лучше, чем они могли рассчитывать. Став знаменитыми галереями, дорогими магазинами и модными ресторанами, они не перестали быть руинами. На костях индустриальных динозавров выросла изощренная эстетика Сохо. Суть ее — контролируемая разруха, метод — романтизация упадка, приметы — помещенная в элегантную раму обветшалость. Здесь все используется не по предназначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды — уэллсовские элои, проматывающие печальное наследство морлоков.
Культивированная запущенность, окрашивающая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, созвучна Бродскому. Он писал на замедленном выдохе. Энергично начатое стихотворение теряет себя, как песок в воде. Оно преодолевает смерть, продлевая агонию. Любая строка кажется последней, но по пути к концу стихотворение, как неудачный самоубийца, цепляется за каждый балкон.
Бродскому дороги руины, потому что они свидетельствуют не только об упадке, но и расцвете. Лишь на выходе из апогея мы узнаем, что высшая точка пройдена. Настоящим может быть только потерянный рай, названный Баратынским заглохшим Элизеем.
Любовь Бродского ко всякому александризму — греческому, советскому, китайскому (“Письма эпохи Минь») — объясняется тем, что александрийский мир, писал он, разъедают беспорядки, как противоречия раздирают личное сознание.
Историческому упадку, выдоху цивилизации сопутствует усложненность. И это не «цветущая сложность», которая восхищала Константина Леонтьева в Средневековье, а усталая неразборчивость палимпсеста, избыточность сталактита, противоестественная плотность искусства, короче — Венеция.
Она проникла и на Мортон, 44 — как Шекспир, дом Бродского скрывал за английским фасадом итальянскую начинку. Стоит только взглянуть на его внутренний дворик, чтобы даже на черно-белом снимке узнать венецианскую палитру — все цвета готовы стать серым. Среди прочих аллюзий — чешуйки штукатурки, грамотный лев с крыльями, любимый зверь Бродского, и звездно-полосатый флажок, который кажется здесь сувениром американского родственника. Недалеко отсюда и до воды. К ней, собственно, выходят все улицы острова Манхэттен, но Мортон утыкается прямо в причал.
Глядя на снимки Бродского возле кораблей, Довлатов решил, что они сделаны в Ленинграде. На этих фотографиях Бродский и правда выглядит моложе. Мальчиком, говорят, он мечтал стать подводником, в зрелости считал самым красивым флагом Андреевский.
Вода для Бродского — старшая из стихий, и море — его центральная метафора. С ним он сравнивал себя, речь, но чаще всего — время. Одну из его любимых формул — «географии примесь к времени есть судьба» — можно расшифровать как «город у моря». Такими были три города, поделивших Бродского: Ленинград — Венеция — Нью-Йорк.
Учитель поэзии
Всю свою американскую жизнь — почти четверть века — Бродский преподавал, что никак не выделяет его среди западных, но отличает от российских коллег. Когда выступавшего перед соотечественниками Бродского не без сочувствия спросили, как он относится к преподаванию, он ответил: «С энтузиазмом, ибо этот вид деятельности дает возможность беседовать исключительно о том, что мне интересно».
Профессорские обязанности, помимо чуть ли не единственного постоянного заработка, дают поэту то, к чему он больше всего привык, — вериги. Условие, ограничивающее свободу преподавателя, как сонет — поэта, — более или менее относительное невежество студентов. По правилам игры, во всяком случае так, как их понимал Бродский, аудитория следит за лектором, ведущим диалог с голым стихотворением, освобожденным от филологического комментария и исторического контекста. Все, что нужно знать студенту, должно содержаться в самом произведении. Преподаватель вытягивает из него вереницу смыслов, как кроликов из шляпы. Стихотворение должно работать на собственной энергии, вроде «сосульки на плите» (Фрост).
Хотя студентами Бродского чаще всего были начинающие поэты, он, как и другие ценители литературного гедонизма — Борхес и Набоков, учил не писать, а читать. Иногда он считал это одним и тем же: «Мы можем назвать своим все, что помним наизусть».
Тезис Бродского «Человек есть продукт его чтения» следует понимать буквально. Чтение — как раз тот случай, когда слово претворяется в плоть. Нагляднее всех этот процесс представляют себе поэты. У Мандельштама читатель переваривает слова, которые меняют молекулы его тела. С тем же пищеварением, физически меняющим состав тела, сравнивает чтение Элиот. Нечто подобное писал и Бродский: «Человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого». Учитель поэзии в этом культурном метаболизме — фермент, позволяющий читателю усвоить духовную пищу. Оправдывая свое ремесло, Шкловский говорил, что человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил.
Бродский тоже описывает свою методологию в биологических терминах. Разбирая стихотворение, он показывает читателю, перед каким выбором ставила поэта каждая следующая строка. Результат этого неестественного отбора — произведение более совершенное, чем то, что получилось у природы.
Биологией отдает даже любовь Бродского к традиции. Метр созвучен той гармонии, которую тщится восстановить искусство. Он — подражание времени или даже его сгусток, выловленный поэтом в языке. Классические стихи сродни классицистическому пейзажу, которому присущ «естественный биологический ритм».
О соразмерности человека с колонной рассказывают снимки Бродского в Колумбийском университете. Среди ионических колонн и изъясняющихся по латыни статуй он выглядит не гостем, а хозяином.
Двусмысленность этого фона — классические древности в стране, где не было и Средневековья, — оборачивается тайной близостью нью-йоркской и петербургской античности. И та и другая — продукт просвещенного вымысла, запоздалый опыт Ренессанса, поэтическая и политическая вольность.
Бродский вырос в городе, игравшем в чужую историю. В определенном смысле отсюда было ближе до античности, чем из мест не столь от нее отдаленных. В Петербурге счет идет всего лишь на поколения, а не на тысячелетия. В таких хронологических рамках «Ленинграду» выпадает роль варварского нашествия, обогатившего античный ландшафт руинами. С ними петербургский миф приобрел ностальгический оттенок, необходимый каждому имперскому преданию. Из этой хотя упаднической, но благородной атмосферы соткалась плеяда поэтов и писателей, которая выросла в развалинах пусть коммунальной, но роскоши. В их домах с обильной лепниной и многочисленными соседями не хватало многого необходимого, зато было много лишнего. За убожество интерьера с лихвой расплачивалось окно, из которого можно было выглянуть не только в Европу, но и в ее прошлое. За этот подарок Бродский щедро расплатился, прибавив русской поэзии античность, столь же вымышленную и столь же настоящую, как та, что соорудил из себя город, который он называл переименованным.
Что касается Америки, то ее сенаты и капитолии — прямая параллель имперскому Петербургу, где даже Медный всадник вместе с Лениным на броневике восходят к Марку Аврелию.
Лицо
Бродский любил повторять слова Ахматовой о том, что каждый отвечает за черты своего лица. Он придавал внешности значение куда большее, чем она заслуживает, если верить тому, что ее не выбирают. Бродского последнее обстоятельство огорчало. Он бы взял себе похожее на географическую карту лицо Одена. Беккет был запасным вариантом: «Я влюбился в фотографию Самюэля Беккета задолго до того, как прочел хотя бы одну его строчку».
Люди синонимичнее искусства, говорил Бродский. Старость отчасти компенсирует разницу. Она помогает избежать тавтологии — время на каждом расписывается другим почерком. Главное тут, конечно, глубокие, как шрамы, морщины.
Бродский сравнивал со шрамами строчки, оставленные пером. Объединение двух метафор дает третью — лицо как страница, на которой расписывается опыт. Лицо — это всегда готовое к ревизии сальдо прожитой жизни.
Морщины — иероглифы природы. Мы обречены их носить, не умея прочесть. И все же они лучше стихов рассказывают о прожитой жизни. В конце концов, морщины говорят не об отдельных словах, а сразу обо всем словаре, иначе — о поэте, чье лицо больше самого полного собрания сочинений, потому что написанное в нем уживается с ненаписанным.
В этом смысле банальный ответ Бродского на стандартный вопрос («Над чем работаете?» — «Над собой») оборачивается выгодным для фотографии признанием. В отличие от картины, снимок — как реликвия. Он не передает реальность, он — след, который реальность оставляет в нем. Фотография — посмертная маска мгновения. «Жизнь — кино, фотография — смерть», — цитируя Сьюзен Зонтаг, говорил Бродский. Даже составленные вплотную снимки передают не движение, а череду состояний, прореженных пустотой, как колонны в портике.
Когда фотограф пытается преодолеть врожденную дискретность фотоискусства, например в серии снимков размышляющего Бродского, то оказывается, что каждая следующая фотография изображает другое лицо. Как кадры остановленного мультфильма, снимки демонстрируют механизм, изготовляющий морщины.
Думающий Бродский одновременно сосредоточен и рассеян. Он собран, как боксер в темноте, не знающий, откуда ждать удара. Он готов, но — неизвестно к чему. В его лице — статичная напряженность моста, от которой устает даже металл. Кажется, что мысль стягивает кожу и напрягает мышцы — гимнастика лица, если угодно — культуризм, с бо#льшим, чем обычно, основанием использующий свой корень. Сидя за столом, Бродский похож на человека ждущего. Даже — не вдохновения, а просто ждущего, пока проходящие сквозь него мгновения намотают достаточный для стихов срок.
Творчество Бродский описывал в пассивном залоге. Поэт не делает нового — оно создается в нем. Поэт не демиург, а медиум. Он сторожит материю там, где она истончается до духа. Занимаясь языком, расположенным на границе между конечным и бесконечным, поэт помогает неодушевленному общаться с одушевленным.
Следить за думающим человеком — все равно что смотреть, как растет трава. Когда мы уподобляемся флоре, ничего не происходит, но все меняется. Так мы ближе всего ко времени, которое, как мысль, работает незаметно и неостановимо. Этой аналогии вторит неизбежная на фотографиях Бродского сигарета, длина которой свидетельствует о беге времени не хуже ходиков.
Перемены в лице Бродского носят квантовый характер. Оно меняется уступами, резко и сильно. Это заметно даже по снимкам, разделенным тремя-четырьмя годами. Сначала он перестает быть похожим на свои шаржи, потом — и на фотографии. Если на ранних снимках завиток на виске напоминал о рожках сатира, то на поздних — о венке. Да и залысины так обнажают лоб, что невольно вспоминается взятая им в эпиграфы ахматовская строка — «седой венец достался мне не даром». К концу жизни от лица Бродского остается, кажется, один удобный для чеканки профиль, с длинным, как у Данте, носом.
Диалог
Стулья обладают привилегированным статусом в поэзии Бродского. Возможно, потому, что эти вертикальные вещи со спиной и ногами больше другой мебели похожи на нас. А может, потому, что стулья первыми встречают и последними провожают поэта, когда он выступает перед публикой. В полном зале они скромны и незаметны, зато в пустом — стулья тревожно глядят бельмами в сторону микрофона. Общаясь с аудиторией, Бродский будто бы помнил и об их безмолвном присутствии.
И вещи, и люди были не вызовом и не предлогом, а условием диалога, который Бродский вел с залом. Он в него вслушивался с бо#льшим вниманием, чем выдавал взгляд поверх голов. Читая, Бродский сочувствовал аудитории, но не помогал ей. Скорее наоборот. Нащупав взаимопонимание («вам нравится энергичное с коротким размером»), немедленно переходил к длинному и сложному, вроде «Мухи» или «Моллюска». В этом не было садизма, он испытывал не терпение слушателей, а себя. «Ухитрившись выбрать нечто привлекающее других, — писал он, — ты выдаешь тем самым вульгарность выбора». Сопротивление среды, тем большее, что ее составляли восторженные поклонники, подтверждало нехоженость его путей.
Однажды Бродский сказал, что значительную часть жизни учишься не сгибаться. Оставшееся время, надо понимать, уходит на то, чтобы воспользоваться этой наукой.
Даже на многолюдных снимках Бродского всегда легко выделить. В самой густой толпе между ним и остальными сохраняется дистанция. Отчуждение облекало его прозрачным скафандром. Не смачиваемый людским потоком, Бродский проходил сквозь зал, как покрытая маслом игла в воде. В этом зрелище было что-то из учебника физики. Как у разнополюсных магнитов, сила отталкивания увеличивалась от сближения тел.
В частную беседу, особенно если она требовала долгого монолога, Бродский привносил такое напряжение, что его собеседника бросало в пот. Дефицит инерции — отсутствие само собой разумеющегося — мешал собеседнику поддакивать, тем паче спорить даже тогда, когда Бродский говорил что-нибудь диковинное. (В начале перестройки он, например, предлагал переориентировать КГБ на охрану личности от государства.)
Свойственная поэзии Бродского бескомпромиссность в разговоре отзывалась непредсказуемым разворотом мысли. Но иногда в беседе, как цукаты в кексе, появлялись неоспоримые в прямодушной наглядности образы. Объясняя антропоморфностью свою любовь к старой авиации, он разводил руки, становясь похожим на самолеты из хроники.
Но обычно Бродский обгонял собеседника на целый круг, и тогда он включал улыбку, сопровождаемую теми вопросительными «да», которыми пересыпаны все его интервью. Он просил не согласиться, а понять. Улыбка, в которой участвовали скорее глаза, чем губы, походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную паузу, дающую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно замедляла разговор. Так тормозят на желтый свет.
Описывая близких людей, Бродский редко пересказывал беседы с ними. Возможно, он и не придавал им значения. Важнее обмена репликами было само присутствие, временное соседство в той или иной точке пространства.
Чаще, чем с людьми, Бродский ведет диалог с вещами. Молчание неодушевленного мира Бродский понимал как метафизический вызов. Вслушиваясь в немоту вещей и природы, он искал с ними общий язык.
Литература для Бродского — не общение, а одинокое познание, рано или поздно приводящее автора в изгнание. Постепенно писатель, говорил Бродский, приходит к выводу, что он обречен жить в безнадежной изоляции. Его можно сравнить с человеком, запущенным в космос. Капсула — это язык писателя. Именно с ним, а не с читателем, автор ведет диалог, пока ракета удаляется от Земли.
Концерт
Выступления, которыми Бродский очень скупо делился с соотечественниками, лучше всего назвать концертами. Но прежде надо вернуть этому слову его этимологию, отсылающую к музыкальному контрасту, к наигранному противоречию двух партий, к дружественному поединку, в процессе которого антагонизм оркестра и соло оборачивается полюсами одной гармонии.
В концерте Бродского такой парой были звуки и буквы. Вкупе с третьим — самим поэтом — они составляли треугольник ошеломляющей драмы, в которой разрешалось ключевое противоречие поэзии.
Для слушателя озвучивание текста бывало мучительным, ибо речь Бродского заведомо обгоняла смысл. Бессильный помочь аудитории, Бродский оставался наедине со своими стихами, которые читал как бы для них самих. Произнося строчки вслух, он выпускал их на волю. Звукам возвращалось то, что у них отняли чернила, — жизнь.
Бродский весьма сурово обходился с одним из двух условий своей профессии. Находя письменность малоприспособленной для передачи речи, он решительно отдавал предпочтение звуку. Передать человеческий голос способна только поэзия, причем классическая, всегда оговаривал Бродский с настойчивостью сердечника, ценящего правильную размеренность ритма.
Если поэзия, как писал он, одинаково близка троглодиту и университетскому профессору, то именно устная природа стихов делает это чудо возможным. Даже когда поэт обращается в «пустые небеса», сама акустическая природа стиха дает ему надежду на ответ.
Эхо — не точное, а искаженное отражение. Эхо — первый поэт. Оно не повторяет, а меняет звук — убирает длинноты, снижает тон, повторяясь, рождает метр, возводя «в куб все, что сорвется в губ», подбирает рифму. Только последняя, как утверждал Бродский, и способна спасти поэзию. В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте, неподдельный — оттого что бессознательный — отпечаток авторской личности.
Конечные созвучия — знак равенства, протянувшийся между всем рифмующимся. Поэтому Данте, напоминал Бродский, никогда не рифмовал с низкими словами имена христианских святых. Рифма — метаморфоза. Не хуже Овидия она показывает, что «одно — это другое». Под бесконечными масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность — звук.
В натурфилософии поэзии звук играет роль воды. И та и другая стихия обладают способностью совершать круговорот — претерпевая превращения, не терять того, что делает ее собой.
Если звук — вода поэзии, то, обращаясь к небу, поэт вновь пускает в оборот взятый напрокат материал. Чтение стихов сближается с молитвой, шаманским заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем родной. Даже для американцев Бродский обязательно читал стихи и по-русски. Иностранные слова, говорил он, всего лишь другой набор синонимов.
Со звуками, видимо, дело обстоит иначе. Поза читающего Бродского отличается той же скупостью, что и его дикция. Фотографии, компенсируя немоту, прекрасно передают статичность этого зрелища. Стоящий у микрофона поэт напоминает вросшую в землю и потому ставшую видимой колонну незримого собора звука. Похож он и на атланта, сгорбившегося под тяжестью той «вещи языка», которой в стихах Бродского назван воздух.
Сероватая, «цвета времени», атмосфера составлена из духоты и дыма — пепельница с горой окурков, как верещагинский «Апофеоз войны». От снимка к снимку воздух будто сгущается от растворенных звуков. Отработанные часы отзываются беспорядком в одежде: исчезает пиджак, итальянским ярлыком задирается галстук, слева, над сердцем расплывается темное пятно на сорочке. Переход к крупному плану сужает перспективу, но наводит на резкость: колонна превращается в бюст, поза — в гримасу. Как в убыстренном кино, Бродский, демонстрируя трансмутацию материи в звук, стареет перед камерой.
Старость
От других нобелевских лауреатов — Октавиа Паса, Чеслава Милоша и Дерека Уолкота, попавших на общий снимок во время выступления в нью-йоркском кафедральном соборе, Бродский отличается возрастом. Он родился на десять лет позже самого молодого из них.
Возраст выделил бы его и среди русских поэтов. Он на семнадцать лет пережил Пушкина, на двадцать восемь — Лермонтова, на восемь — Мандельштама, на шесть — Цветаеву. Если бы классики прожили дольше, мы могли бы, как мечтает Битов, взглянуть на фото Пушкина, прочесть, что написал бы Лермонтов о Достоевском, Мандельштам о лагерях, Цветаева о старости.
Бродскому повезло быть там, где не были они. Ценя разницу, накопленную годами, он — чтобы заранее знать, есть ли автору чему научить читателя — предлагал крупно печатать на обложке, сколько лет было писателю, когда он написал книгу. Однако, требуя точности в возрасте других, он путался со своим.
Если судить по стихам, Бродский старостью не кончил, а начал жизнь. Мгновенный старик, по загадочному выражению Пушкина, он уже в двадцать четыре года писал: «Я старый человек, а не философ».
Вкрадчивое движение без перемещения, старость соблазняет стоическим безразличием к внешнему миру. Чем больше покой, тем громче — но не быстрее! — тикает в нас устройство с часовым механизмом. Старость — голос природы, заключенной внутри нас. Вслушиваясь в ее нечленораздельный шепот, поэт учится смиряться и сливаться с похожим, но и отличным от нее временем. Старость ведь отнюдь не бесконечна, и в этом ее прелесть. Она устанавливает предел изменениям, представляя человека в максимально завершенном виде. Старость его лица, пишет Бродский об Исайе Берлине, «внушала спокойствие, поскольку сама окончательность черт исключала всякое притворство».
К старости — и тут она опять сходится со временем — нечего прибавить, как, впрочем, нечего у нее и отнять. Бродский любуется благородством этой арифметики. Описывая застолье с другим английским стариком — поэтом Стивеном Спендером, он называет его «аллегорией зимы, пришедшей в гости к другим временам года».
В этой картинке этики больше, чем эстетики. Для Бродского зима моральна. Она — инвариант природы, скелет года, голые кости, которые в «Бесплодной земле» Элиота высушил зной, а у Бродского — мороз. «Север — честная вещь», — говорит он в одном месте, и зима, продолжает в другом, «единственное подлинное время года».
Мороз у Бродского — признак и призрак небытия, в виду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры. «Здесь Родос! Здесь прыгай!» — говорит зима, предлагая нам испытывать жизнь у предела ее исчезновения.
Зимой, когда оголенному морозом, как старостью, миру нечем прикрыться, появляются стихи не «на злобу дня, а на ужас дня». Так Бродский говорил о нравившихся ему поэтах. В первую очередь — о носившем зимнюю фамилию Фросте, у которого злободневное — повседневно. Так и должно быть, объясняет Бродский, в подлинной поэзии, где ужасна норма, а не исключение.
Неизбывность ужаса — как монохромность зимы, как монотонность времени, как постоянство старости — не изъян, а свойство мира, которому мы уподобляемся с годами.
Выступая в нобелевском квартете, Бродский сперва по-английски, потом по-русски читал «Колыбельную Трескового мыса». По аналогии с цветаевской «Поэмой горы» ее можно было бы назвать «Поэмой угла». Бродский и написал-то ее на мысе, дальше всего вдающемся в восток. Автора сюда привели сужающиеся лучи двух империй и двух полушарий. Сходясь, они образуют тупик:
Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
В этой точке исчерпавшее себя пространство встречается со временем, чтобы самому стать мысом — «человек есть конец самого себя и вдается во Время». Старость делает угол все острее — и мыс все дальше вдается туда, где нас нет. В это будущее, запрещая себе, как боги — Орфею, оборачиваться, вглядывался Бродский, читая свою «Колыбельную» с кафедры нью-йоркского собора святого Иоанна.
Проводы
«Вкус к метафизике отличает литературу от беллетристики», — написал Бродский в последнем сборнике эссе, большая часть которого посвящена взаимоотношению одушевленного с неодушевленным, другими словами — человека со смертью. В ней он видел инструмент познания. Поэтому в стихах — и своих, и чужих — его интересовала загробная история и география. Овладевая языком бесконечного, поэзия рассказывает нам не только и даже не столько о вечной жизни, сколько о вечной смерти. Бродский, поэт небытия, видел в нем союзника, жаждущего быть услышанным не меньше, чем мы услышать. Любовь к симметрии, если не нравственное чувство, заставляла Бродского уважать паритет жизни со смертью, совместно составляющих вселенную. За равенством их сил следит гарант космической справедливости — Хронос. Доверие к этому великому синхронизатору оправдала случайность, связанная с кончиной самого Бродского.
Дата поминального вечера, состоявшегося в том самом нью-йоркском соборе, где Бродский читал «Колыбельную Трескового мыса», была выбрана без умысла — просто до 8 марта собор был занят. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло сорок дней со дня его смерти.
В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым, на девятый — «разрушается все здание тела, кроме сердца», на сороковой — исчезает и оно. В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В своем «Памятнике» — «Литовском ноктюрне» — он писал: «Только звук отделяться способен от тел».
И действительно в поминальный вечер собор святого Иоанна заполняли звуки. Иногда они оказывались музыкой — любимые композиторы Бродского: Перселл, Гайдн, Моцарт, чаще — стихами: Оден, Ахматова, Фрост, Цветаева, и всегда — гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие сама готическая архитектура. Привыкший к сгущенной речи молитв, собор умело вторил псалму: «Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными».
Высокому стилю псалмопевца не противоречили написанные «со вкусом к метафизике» стихи Бродского. Их читали, возможно, лучшие в мире поэты. На высокую церковную кафедру взбирались, чтобы прочесть английские переводы Бродского, нобелевские лауреаты — Чеслав Милош, Дерек Уолкот, Шеймус Хини. По-русски Бродского читали старые друзья — Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Анатолий Найман, Томас Венцлова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Профессионалы, они не торопясь ощупывали губами каждый звук. Профессионалами они были еще и потому, что читали Бродского всю жизнь.
После стихов и музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не холод. Вопреки календарю, в Нью-Йорке было так же холодно, как и за сорок дней до этого. В этом по-зимнему строгом воздухе раздался записанный на пленку голос Бродского:
Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
И стану просто одной звездой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.
Не сердце, а голос последним покидал тело поэта. После стихов в соборе осталась рифмующаяся с ними тишина.
На фото: Иосиф Бродский на балконе с видом на Преображенский собор. Фото А. И. Бродского 1956 г. www.brodsky-museum.org/rus/