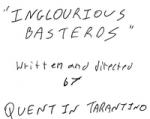Вышедшая несколько дней назад экранизация «Сумерки. Сага. Новолуние» сразу стала рекордсменом кассовых сборов. В основе фильма — вторая часть вампирской саги Стефани Майер («Сумерки», «Новолуние», «Затмение», «Рассвет»). Отрывок из книги «Сумерки».
Я брела по улицам, заполненным спешащими домой людьми, и надеялась, что двигаюсь к центру. По сторонам особо не смотрела, рассчитывая, что без труда найду дорогу к пристани. В конце концов, именно туда направляется большая часть машин. Отчаяние захлестывало черными волнами. О нем я старалась не думать, да и Анжела говорила, что… Страшно разочарованная, я старалась забыть о планах на субботу, но как только среди машин попадался серебристый «вольво», ничего не могла с собой поделать и думала, думала, думала… Чертов вампир, я схожу по нему с ума!
Я шла в южном направлении к магазинам с большими витринами. Однако, подойдя поближе, поняла, что это ремонтная мастерская, а соседнее помещение и вовсе пустует. До встречи с подругами еще много времени, а мне нужно собраться с мыслями и взять себя в руки. Машинально пригладив волосы, я вздохнула полной грудью и завернула за угол.
Только сейчас я поняла, что иду не туда. Машин стало меньше, почти все они двигались на север, а место магазинов заняли склады. Я решила повернуть на восток и найти улицу, которая приведет меня к пристани.
Навстречу попались четверо молодых людей, одетых слишком неформально для работы в офисе, и слишком грязных, чтобы быть туристами. Парни выглядели чуть старше меня, громко смеялись и толкали друг друга в бока. Я прижалась к стене склада, чтобы мы могли разминуться, а потом быстро зашагала прочь.
— Эй, ты! — крикнул один из них, проходя мимо.
Вокруг больше никого не было, значит, они обращаются ко мне. Я непроизвольно подняла глаза. Двое остановились рядом, а еще двое поодаль. Ближе всех ко мне оказался крепко сбитый темноволосый парень лет двадцати, одетый в грязную футболку, затертую фланелевую рубаху и рваные джинсы. Он шагнул ко мне.
— Привет! — машинально пробормотала я и быстро свернула за угол. Грубый хохот несся мне вслед.
— Подожди! — снова закричал
Тротуарная дорожка вела меня мимо мрачного вида складов с запертыми на ночь дверьми. На южной стороне улицы не было даже тротуара, только забор с колючей проволокой, за которым находились детали
Итак, я забрела в район Порт-Анжелеса, который вряд ли показывают туристам. Смеркалось, на западе появились облака, а на востоке — красные и оранжевые полоски. Куртка осталась в машине, и, пытаясь согреться, я скрестила руки на груди. Мимо проехал фургон, дорога опустела.
Небо стало еще темнее, я испуганно оглянулась и увидела двух парней, от которых меня отделяло не более пяти метров. Парни были из той компании, что недавно попалась мне навстречу, хотя темноволосого крепыша я не разглядела. Я зашагала быстрее, чувствуя, что меня колотит нервная дрожь, и на этот раз дело было не в холоде. Сумочку я специально повесила так, чтобы не украли — ремешок на правом плече, сама сумка — на левом бедре. Газовый баллончик остался в дорожной сумке, я даже не подумала, что его неплохо бы взять. Денег с собой немного — долларов двадцать пять; мелькнула трусливая мысль: «случайно» уронить сумку на асфальт и уйти. Но
Я вся обратилась в слух — парни вели себя очень тихо, не кричали и не шумели. «Дыши глубже! — успокаивала я себя. — Может, они идут не за тобой». Я шла быстро, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Через несколько метров можно повернуть направо. Кажется, расстояние между мной и преследователями не сократилось. С юга на улицу выехала синяя машина и быстро пронеслась мимо. Я хотела броситься на дорогу, чтобы остановить машину и попросить водителя отвезти меня на пристань, но в последний момент передумала. А что, если меня не преследуют?
Дойдя до угла, я увидела, что это тупик, подъездная дорога к другому складу. Пришлось сделать вид, что меня это ничуть не удивляет. У следующего поворота улица кончалась — на одном из домов висел «кирпич», значит, по перпендикулярной дороге движение запрещено. Я прислушалась, решая, идти быстрым шагом или бежать. Судя по всему, незнакомцы немного отстали, хотя в любую минуту могли нагнать. Я боялась, что если попытаюсь идти быстрее, обязательно поскользнусь и упаду. Да, парни действительно отстали. Чтобы успокоиться окончательно, я решила оглянуться. Так, теперь между нами метров десять, я вздохнула с облегчением.
Неужели я никогда не дойду до поворота? Я шла спокойно, надеясь, что с каждым шагом преследователи отстают. Наверное, они поняли, что напугали меня, и теперь об этом сожалеют.
Мимо проехали две машины, и я встрепенулась — за перекрестком наверняка улица пооживленнее, и кто-нибудь обязательно подскажет, как попасть на пристань. Я радостно завернула за угол… и остановилась как вкопанная.
Насколько хватало глаз, вдоль улицы тянулась высокая бетонная стена.
Ноги примерзли к асфальту.
Я остановилась буквально на секунду, но она показалась мне вечностью. Резко обернувшись, я бросилась к противоположной стороне улицы, сердцем чувствуя, что делаю это напрасно. Шаги зазвучали громче.
— Вот вы где! — прогудел коренастый и посмотрел так, что я чуть не подпрыгнула. Оказывается, он обращается вовсе не ко мне.
— Да уж, — послышался низкий голос одного из преследователей, — пришлось немного прогуляться.
Расстояние между мной и идущими сзади стремительно сокращалось. Голос у меня громкий, я вдохнула, приготовившись закричать, но горло пересохло. Наверное, вместо крика получится хрип! Я быстро перевесила сумочку на плечо, чтобы отдать ее или использовать для самообороны.
Тем временем темноволосый крепыш отлепился от бетонной стены и медленно, вразвалочку, пошел ко мне.
— Не подходи! — закричала я.
— Не будь несговорчивой, крошка, — просюсюкал здоровяк, а дружки мерзко заржали.
Я попыталась взять себя в руки и вспомнить что-нибудь из самообороны. Так, можно ударить кулаком в нос, с силой нажать на глаза, а в идеале — выцарапать, или классический прием — пинок в промежность. Здравый смысл подсказывал, что я и с
— Садись! — приказал раздраженный голос.
Поразительно, как только я села на переднее сиденье и захлопнула дверцу, всепоглощающий ужас тут же отпустил. Нет, волна спокойствия разлилась по телу даже раньше — как только я услышала его голос.
В машине было темно, и в свете приборной панели я едва видела знакомое лицо. Шины скрипели, «вольво», распугивая прохожих, стремительно несся на север к бухте.
— Пристегнись! — скомандовал Эдвард, и только тут я поняла, что судорожно сжимаю сиденье. Я тут же послушалась, и ремни безопасности громко щелкнули в темноте. Мы мчались вперед, не обращая внимания на дорожные знаки.
Мне было так хорошо, что думать о том, куда мы едем, совершенно не хотелось. Я смотрела на Каллена с огромным облегчением, и дело было не только в чудесном спасении. Наблюдая за его лицом, я постепенно успокаивалась, пока не заметила, что оно перекошено от гнева.
— Ты злишься? — спросила я, удивившись, как грубо звучит мой голос.
— Нет, — раздраженно ответил Эдвард.
Я так и сидела, молча наблюдая за бледным лицом и пылающими глазами, пока машина вдруг не остановилась. За окном было темно и, оглядевшись по сторонам, я не увидела ничего, кроме темных силуэтов растущих вдоль дороги деревьев. Значит, мы уже не в городе.
— Белла, — сдавленно произнес Каллен.
— Да? — прохрипела я.
— Ты в порядке? — Он
— Пожалуйста, расскажи что-нибудь!
— Что сделать? — недоуменно переспросила я.
— Просто болтай о чем-нибудь веселом, пока я не успокоюсь, — пояснил Эдвард и, закрыв глаза, стал тереть переносицу. За что же он так на меня злится?
— Ну, — я ломала голову в поисках какой-нибудь забавной чепухи, — завтра утром я бодну новый «ниссан» Тайлера Кроули.
— Что? — недовольно переспросил он.
— Он всем разболтал, что на выпускной пойдет со мной. Наверное, если слегка поцарапать его машину, Тайлер поймет, что мы квиты, и перестанет лебезить. Надеюсь, и Лорен не будет злиться, когда увидит, что Кроули оставил меня в покое. Нет, «ниссан» придется разбить вдребезги, тогда Тайлер точно не позовет меня на выпускной!
— Я слышал о том, что болтает Кроули, — уже спокойнее проговорил Эдвард.
— Слышал? — недоверчиво переспросила я, чувствуя, что начинаю заводиться. — Может, на всякий случай сломать ему пару ребер? Эдвард тяжело вздохнул.
— Если хочешь, можешь на меня покричать, — предложила я.
— За что мне на тебя кричать? — с презрением спросил он, не удостоив взглядом.
— Не знаю. Может, станет легче. В голове теснилось бесчисленное множество вопросов, но с ними лучше подождать, пока Эдвард справится с гневом.
— Хммм, так за что мне на тебя кричать? Неужели ты снова иронизируешь?
— Ну, — осторожно начала я, — мне следовало остаться с Анжелой и Джесс и внимательно смотреть, куда иду. Еще стоило взять с собой газовый баллончик.
— Совершенно верно! — Наконец-то Эдвард на меня посмотрел. Глаза казались спокойными, а зрачки, хотя в слабом свете приборной доски я могла ошибиться, — чересчур светлыми. — До сих пор злишься?
— Я злюсь вовсе не на тебя.
— Тогда в чем же дело?
— Порой я очень раздражителен, — Эдвард смотрел в окно, — но даже это не заставит меня охотиться на… — Он не договорил и отвернулся, снова сражаясь со своим гневом. — По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить.
— Да, — совершенно не к месту проговорила я.
Повисла тишина. Я взглянула на часы на приборном щитке. Половина седьмого.
— Анжела с Джессикой будут волноваться. Мы должны были встретиться.
Не сказав ни слова, Эдвард завел мотор, и мы помчались обратно в город. В считаные секунды мы выехали к пристани и запетляли среди машин, медленно направлявшихся к парому. Стоянка была переполнена, но Каллен отыскал крошечное местечко и аккуратно припарковался.
Выглянув в окно, я увидела вывеску «Ла Белла Италия» и Анжелу с Джессикой, как раз выходящих из ресторана.
— Как ты… — начала было я и тут же осеклась. Эдвард вышел из машины. — Ты куда?
— Приглашаю тебя на ужин, — улыбнулся он и сильно хлопнул дверцей. Я отстегнула ремень и поспешно выбралась из машины.
— Останови Джессику с Анжелой, пока это не сделал я, — велел Эдвард.
— Джесс! Анжела! — закричала я и помахала рукой.
Девушки бросились ко мне. Когда они увидели, кто стоит рядом со мной, облегчение на их лицах уступило место шоку. Обе застыли в полуметре от нас с Эдвардом.
— Где ты была? — бросилась в атаку Джессика.
— Заблудилась, — нерешительно ответила я, — а потом встретила Эдварда.
— Не возражаете, если я к вам присоединюсь? — мягким вкрадчивым голосом спросил Эдвард. По ошеломленным лицам подруг я поняла, что они никогда раньше не испытывали на себе силу его чар.
— Да, конечно, — пролепетала Джессика.
— Вообще-то мы поели, пока ждали тебя, Белла, — призналась Анжела. — Прости!
— Все в порядке, я не голодна, — пожала я плечами.
— Думаю, тебе стоит поесть, — тихо, но настойчиво сказал Эдвард. Взглянув на Джессику, он заговорил чуть громче: — Не возражаешь, если я сам отвезу Беллу домой? Тогда вам с Анжелой не придется ждать.
— Наверное, так будет лучше… — закусила губу подруга, пытаясь по выражению моего лица понять, возражаю я или нет.
Больше всего на свете мне хотелось остаться наедине с тем, кто уже не в первый раз спас мою жизнь, и я украдкой подмигнула Джессике. Нужно задать Эдварду столько вопросов, а при девчонках это невозможно.