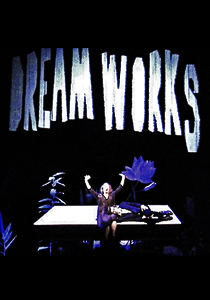- Борис Мессерер. Промельк Беллы. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2016. — 848 с.
Книга Бориса Мессерера начиналась как попытка упорядочить записанные на диктофон рассказы Беллы Ахмадулиной о детстве, семье, войне, поэзии, просто истории, случаи из жизни. «Белла говорила все это не для записи, а просто разговаривая со мной, — вспоминал Мессерер. — Когда эти беседы были расшифрованы и легли на бумагу, то, перечитывая их, я заново понял всю безмерность таланта Беллы». Потом к ним закономерно добавились собственные мемуарные очерки Бориса Мессерера: портреты отца — выдающегося танцовщика и балетмейстера Асафа Мессерера, матери — актрисы немого кино, красавицы Анель Судакевич, кузины — великой балерины Майи Плисецкой.
Венедикт Ерофеев
История моих отношений с Веничкой Ерофеевым началась, когда мы с Беллой прочли его великую поэму «Москва — Петушки» в Париже в 1977 году. Об обстоятельствах этого события я уже писал — на чтение отводилась всего одна ночь, а книгу нам дал Степан Татищев. Это были гранки, которые Степан должен был утром вернуть в типографию.
И вот в цветущем Париже, среди неправдоподобного изобилия продуктов, невиданных кулинарных изысков, безумного количества разнообразных вин, мы читали Венедикта Ерофеева:
— Будете чего-нибудь заказывать?
— А у вас чего — только музыка?
— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя…
Опять подступила тошнота.
— А херес?
— А хереса нет.
— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!
И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой…
Белла о поэме «Москва — Петушки»:
Нам с Борисом дал рукопись Степан Татищев — подвижник российской словесности, русский, родившийся во Франции. <…>
— Свободный человек! — вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшим героя своим соименником. Герой, Веничка Ерофеев, мыкается, страдает, пьет все мыслимые (и немыслимые) напитки, существует вне и выше предписанного порядка. Автор, Веничка Ерофеев, сопровождающий героя в пути, трезв, умен, многознающ, ироничен, великодушен. Зримый географический сюжет произведения, обозначенный названием, лишь пунктир, вдоль которого мчится поезд. Это скорбный путь мятежной и гибельной души.
В повести, где действуют пьянство, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой — непорочная душа, с которой напрямую, как бы в шутку, соотносятся превыспренние небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые ангелы. Их присутствие — несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть своим глубоким целомудрием изнутри супротивна своей дерзкой внешности. И тем возможным читателям-обвинителям, кому недостает главного — в суть проникшего взгляда. Я предвижу их проницательные вопросы касательно «морального облика» автора. Предвижу и отвечаю.
…В 10 утра мы вернули рукопись ее первому рецензенту. И, оглядев его безукоризненно хрупкий силуэт, я сказала: «Останется навсегда. Как, скажем, «Опасные связи» Шодерло де Лакло». Все-таки он оказался совершенно русским, этот француз: мы втроем счастливо рассмеялись.
Визит в мастерскую
Прошло совсем немного времени, и в дверь моей мастерской позвонили. В одной из пошатывающихся фигур, топтавшихся на пороге, я различил хорошо знакомый силуэт моего старого друга Славы Лёна, а в другой угадал Веничку Ерофеева. Лён держал в руках две бутылки шампанского и весьма изящно стал извиняться, что они с Венедиктом зашли ко мне в мастерскую без звонка, не предупредив о визите. Я был безумно рад видеть и Славу, и Веничку, достал из холодильника две бутылки водки, всяческие закуски и пригласил гостей к столу.
Веничка был очень высокого роста и показался мне удивительно красивым: прямые светлые волосы падали на лоб треугольной прядью, а совсем прозрачные, немного выцветшие глаза изначально голубого цвета светились мудростью и всезнанием. На устах у Венички блуждала полуулыбка, напоминающая улыбку Джоконды.
Он передвигался по мастерской чрезвычайно осторожно, держась галантно и предупредительно по отношению к человеку, с которым ему доводилось общаться. Слава и Веничка сели на углу большого стола, рассчитанного на многих гостей, и я — тоже галантно и предупредительно — налил им понемногу водки, оставляя шампанское на потом, и предложил закусывать. Шел десятый день июля.
Немного смущающийся Веничка, осторожно пригубив водку, начал извиняться, что он слегка опьянел:
— Борис, что ты хочешь? Ведь я ел только в июне!
В это время зазвонил телефон и раздался голос Андрея Битова.
Я стал горячо приглашать его зайти в гости, пояснив, что у меня сидят Веничка Ерофеев и Слава Лён. Битов ответил:
— Если Веничка, то я приду! Вместе с Резо Габриадзе!
Тут же позвонили и в дверь: пришел один из знакомых Венички, которому позвонил Лён. Веничка представил его как своего друга и сказал:
— Это мой друг — католик. И я тоже — католик!
Я спросил:
— Как Чаадаев?
Веничка утвердительно кивнул.
Я продолжал:
— Веничка, здесь нет людей, которые бы придирались к той или иной вере.
На пороге появились Андрей Битов и Резо Габриадзе. Встречаясь с Резо, я всегда поражался необыкновенному устройству его личности. Он создал уникальный театр марионеток, с которым объездил весь мир. Эти крошечные фигурки, причудливо двигающиеся на нитках, заставляли зрителей разных стран радоваться и плакать над своей судьбой. Те избранники, которые попадали на его спектакли, уходили после просмотра счастливыми и просветленными. Его, известного сценариста и режиссера, никогда не мучил «вождизм» — страсть к лидерству и верховодству. Его высказывания о себе самом часто носили уничижительный характер.
Помню, как однажды я провожал Резо в Переделкине на станцию, а он при этом, не щадя себя, говорил:
— Я трус! Я всего боюсь! Я даже на электричке боюсь ездить!
Не думаю, что он и в самом деле этого боялся — скорее, Резо так себя позиционировал, чтобы, не дай бог, его не сочли этаким удалым и отчаянным рубахой-парнем.
За этим самоуничижением проступало тончайшее человеческое устройство, которое позволяло Резо уберечь наивный, простодушный взгляд на людей и явления жизни, давало возможность использовать эти качества в работе режиссера и художника. А наивный художник ничего не боится, становясь самым храбрым человеком на свете, он поступает так, как велит ему совесть. Он позволяет себе на равных общаться с гениями всех времен и народов. Он может, например, напрямую разговаривать с Пушкиным и изображать его на своих наивных рисунках, придумывая новые штрихи его биографии.
Эти качества Резо роднили его с Венедиктом. Веничка отождествлял себя со своим литературным героем, который действительно мог все себе позволить. Никакие ниспосланные судьбой унижения не действовали на Веничку, поскольку в своем творчестве он брал более высокую ноту, и тогда все обстоятельства жизни ничего для него не значили. Веничка мог быть и разнорабочим, и лифтером, и кем угодно еще, но никакая «низовая» работа не могла ранить его высоко парящую душу. Он всегда был выше всех обстоятельств.
Познакомившись с Веничкой, Андрей и Резо, естественно, принялись восхищаться его поэмой «Москва — Петушки». Веничка величественно слушал и принимал комплименты с той же самой полуулыбкой Джоконды. Разговор, так или иначе, зашел о литературе.
Каждое новое имя несли на суд Венедикта, и Веничка вершил этот суд, вынося торжественный приговор:
— Нет! Этому я ничего не налью!
Желая обострить разговор, я спросил:
— А как ты относишься к тому, что пишет Битов?
Веничка невозмутимо ответил:
— Ну, Битову я полстакана налью!
Андрей реагировал благороднейшим образом:
— Веничка, что бы ты ни сказал, я никогда не обижусь на тебя!
Разговор зашел и о Белле. Ее самой не было в мастерской, она жила и работала тогда в Доме творчества композиторов в Репине под Ленинградом.
Веничка задумчиво проговорил:
— Ахатовну я бы посмотрел…
А дальше на вопрос, как он оценивает ее стихи, Веничка произнес:
— Ахатовне я бы налил полный стакан!
На диване возле стола лежало множество разбросанных книг,
которые я небрежно скинул туда, когда готовил наше застолье. Среди них Веничка неожиданно заметил скромный томик стихов Владимира Нарбута, вышедший в издательстве «Аnn Arbor». Полистав книжку, он спросил:
— А ты можешь подарить мне ее?
Я с радостью ответил:
— Я готов тебе подарить все, что ты хочешь!
И добавил к книге Нарбута все имевшиеся у меня книги Беллы.
У Венички дома, на Флотской улице, рядом с Речным вокзалом, была не одна полка со сборниками любимых поэтов.
Наше застолье близилось к концу. Постепенно гости разбредались. Ушли Андрей с Резо. Ушел католик. Заснул на диване возле стола Слава Лён. А нам с Веничкой показалось, что напитка не хватает.
— Веничка, жди меня! — сказал я решительно, сел в машину и поехал к ресторану Дома кино, потому что в магазинах вечером спиртного купить было нельзя. Несмотря на количество выпитого, я доехал до Дома кино, где в ресторане меня знали и дали необходимые напитки и вкусную горячую еду, которой я хотел накормить Венедикта.
Однако, вернувшись, я нигде не мог его найти. Слава уже ушел, а Веничка не отзывался. Его не было в спальне, не было в каминной, сплошь заставленной моими работами, и я в совершенной растерянности поднялся на антресоль, где вдруг увидел его, спящего на конструкции из стульев. Он полусидел-полулежал в кресле-качалке, но из-за своего роста не мог разместиться в нем полностью и положил ноги на стул, стоящий рядом.
Растолкав Веничку, я встретился с другой проблемой: поскольку он был такой высокий, мне было не по силам помочь ему спуститься по крутой лестнице с антресолей. На этот путь ушло довольно много времени, но мы в конце концов его одолели. С грохотом опрокинув стоящую рядом со столом аптечку, забрызгавшую все вокруг зеленкой, Веничка был водружен за стол, где я постарался накормить его горячей едой. Мои старания увенчались успехом частично, но выпивать мы продолжили. Переночевали в мастерской, и утром я повез Венедикта домой.
В Дом кино на правительственной «Чайке»
С той поры мы не раз сидели вдвоем у меня в мастерской и разговаривали о жизни. Иногда наши встречи заканчивались причудливо: однажды, например, мы так завелись, что нам захотелось завершить вечер как-нибудь необычно. Надо сказать, что Веничка не любил бывать в ресторанах — отчасти это объяснялось тем, что у него никогда не было денег. И я попросил:
— Веничка, ну не упрямься, разреши пригласить тебя в мой любимый ресторан Дома кино. Ничего плохого не произойдет, если раз в жизни мы пойдем туда вместе.
Наконец Венедикт согласился. Из моей мастерской на Поварской мы вышли, конечно, не совсем ровной походкой. Тем не менее я действовал по намеченному плану, и мы преодолели короткий маршрут, в который входила задача обогнуть норвежское посольство и затем спуститься по лестнице к Новому Арбату, где можно было поймать машину, чтобы доехать до ресторана.
Как нарочно, машин было мало, и они отказывались ехать по указанному адресу. И вдруг мой взгляд упал на правительственную «Чайку», припаркованную у тротуара напротив Дома книги. Я смело подошел и обратился к водителю:
— Командир, сделай одолжение, довези нас до Дома кино на Васильевской. Это недалеко! — и предложил значительную сумму.
Водитель даже не удостоил меня взгляда. Тогда я назвал сумму, втрое превышающую первоначальную. Величественный шофер правительственного лимузина внимательно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Все более заводясь, я назвал огромную по тем временам сумму, в десять раз превышающую первоначальную. Тут уж «командир» расплылся в улыбке и поинтересовался:
— А зачем вам это надо, ребята?
Я поднял вверх указательный палец и ответил:
— История не простит!
Мы устроились в машине. Я был полон гордости за содеянное и радовался за Венедикта, что вот он едет по Москве на «Чайке». Веничка сидел молча, сохраняя на устах присущую ему полуулыбку Джоконды.
К моему сожалению, у входа в этот широко посещаемый ресторан никого из знакомых не оказалось. Триумфального прибытия не получилось.
В зале многие меня приветствовали, но Веничка был неузнан своим народом. Свободных мест в ресторане не было. Единственным, кто раскрыл нам свои объятия, оказался известный фотограф Николай Гнатюк. Он держал столик для своих опаздывающих друзей. Мы сели к Коле, я сделал широкий заказ, и мы продолжили выпивать уже вместе с Колей.
Николай Гнатюк, знавший многих известных людей, конечно, был рад познакомиться с Веничкой и тут же бросился готовить аппаратуру для съемки. Сюжет «Венедикт Ерофеев в ресторане Дома кино» очень его взволновал. Но тут произошло непредвиденное. После того как он сделал несколько снимков, кто-то из сидящих позади нас отозвал Колю в сторону. Я не придал этому значения. Однако все кончилось хуже, чем я мог себе представить. Как рассказывал мне потом Коля, это были люди из блатного мира, и они не хотели, чтобы их лица остались на сделанных Гнатюком фотографиях. Они потребовали отдать им пленку. Коля наотрез отказался.
Надо сказать, что Гнатюк был хотя и невысокого роста, но очень сильный парень. Завязалась драка в фойе Дома кино. Бандиты, их было четверо, сумели отобрать у Коли фотоаппарат и засветить пленку. Аппарат они бросили и исчезли. Коля вернулся к столу. Мы же с Веничкой даже не подозревали, что происходило за дверями ресторана. Как могли, мы успокоили Колю и продолжили выпивать.
Квартира на Флотской улице
Веничка со своей женой Галей жил в большой четырехкомнатной квартире в «генеральском» доме на Флотской улице. Наличие такой большой и фешенебельной квартиры у Венички было трудно предположить, но объяснялось все очень просто. Раньше Веничка жил в самом центре Москвы, в Камергерском переулке напротив МХАТа, в двухэтажном доме, где когда-то располагалось кафе «Зима», название которого в зимнее время представлялось весьма логичным, а в летнее манило прохладой другого сезона. Потом зданием завладела финская авиационная компания «Finnair» и расселила жильцов в далекие от центра районы, а чтобы жильцы дали согласие переехать, компания соблазняла их роскошными четырехкомнатными квартирами. Так Веничка оказался среди генералов. Ситуация была совершенно сюрреалистическая. Веничка с Галей жили в почти пустых комнатах, лишь кое-где висели книжные полки, заставленные книгами, а перед ними стояли вереницы маленьких бутылочек, так называемых «шкаликов» или «мерзавчиков», из-под водки, а иногда из-под коньяка. Веничка выпивал маленькую бутылочку и ставил ее на полку для украшения.
Эти маленькие бутылочки имели собственную оригинальную судьбу. Веничка был совершенно нищий человек без постоянного заработка. Ему довелось побывать и разнорабочим на стройке, и лифтером, и много кем еще. Так он оберегал свою профессиональную независимость, предпочитая работать кем угодно, только не заниматься подневольным литературным трудом. Галя приносила в дом небольшую зарплату: у нее была малооплачиваемая должность инженера-химика. В стране шла кампания по борьбе с пьянством. За спиртным выстраивались огромные очереди. Веничка занимал очередь, но, когда после многочасового стояния подходил к прилавку, мог позволить себе купить только две или три маленькие бутылочки: у него просто не было денег. Выбрасывать эти выстраданные бутылочки ему было жалко, и он ставил их на полки перед книгами.
Последние годы Венички
Когда я бывал в квартире на Флотской, Веничка показывал мне свои записные книжки, в которых исключительно аккуратным почерком были выписаны цитаты из великих философов, мудрецов и писателей прошлого. Среди опубликованного есть совершенно замечательная книжка, составленная Веничкой из цитат В. И. Ленина, — «Моя маленькая лениниана».
Много раз я спрашивал Венедикта о том случае, когда в электричке пропала рукопись его романа о Шостаковиче, но отчетливого ответа так и не получил. Скорее всего, портфель с рукописью был забыт на сиденье.
Тогда, в середине 1980‑х замечательный хирург онкологического центра им. Блохина Евгений Матякин, наш большой друг, оперировал Веничку и продлил его жизнь на четыре года. Правда, теперь Веничка мог говорить, лишь подставляя к горлу микрофон, придающий голосу какой-то металлический звук. Это устройство мы называли «говорилкой».
Как-то мы сидели вдвоем с Венедиктом у меня в мастерской, попивая коньячок из 250-граммовых бутылочек, которых у нас было немало. Мы с Веничкой мирно беседовали, он уже пользовался «говорилкой». Неожиданно в дверь позвонили, и на пороге возникла довольно разнообразная компания.
В то время в практике нашей с Беллой жизни это было возможно: близкие люди могли зайти вечером в мастерскую без предуведомления. Среди пришедших оказалась Инга Морат. Она сразу оценила мизансцену: мы с Венедиктом за столом, а на переднем плане — батарея коньячных бутылочек. Некая российская экзотика заключалась еще и в том, что Веничка сидел в кроличьей шапке-ушанке, — ему казалось, что в мастерской прохладно. Инга попросила нас не двигаться и сделала памятный снимок. На фотографии наши смущенные улыбки говорят сами за себя.
Инга нас снимала, и через два года, уже после того, как Венички не стало, я получил эту фотографию в подарок. И по сей день признателен ей.
Но вечер так просто не закончился. Некоторые из дам вошли в кураж. Одна из них обнимала, целовала Веничку и все просила убрать «говорилку»:
— Брось эту штуку, ты и так хорошо говоришь!
В итоге Веничка, хорошо выпивший в тот вечер, уехал, позабыв «говорилку» на диване.
Рано утром зазвонил телефон. В трубке я услышал лишь молчание и торопливо сказал:
— Веничка, это ты? Я сейчас привезу тебе «говорилку»! Еду к тебе на машине.
Стояло именно то время суток, о котором Веничка восклицал:
О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!
Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!
Через сорок минут я вручил Венедикту «говорилку» и бутылку коньяка. Мы сидели на кухне и вспоминали вчерашние перипетии.
Рядом с Веничкой была его Галя, самоотверженно делившая с ним все тяготы жизни.
В опубликованных записных книжках Венички есть запись о похожей встрече:
13–14–15. xi. В один из этих дней в гостях у Мессерера по его приглашению. За коньячком в его мастерской, тет-а-тет. Белла отсутствует: она под Ленинградом, в Доме творчества. Веселых и приятных мыслей полон. На следующий день обнаруживаю, что оставил у Бориса Мессерера свою синюю сумку с записными книжками, звоню — так и есть. Отличный малый Мессерер: подъезжает на машине, вручает сумку и плоский, позарез нужный флакон коньяку. Мало того: обнаруживаю в каждом кармане по полсотне.
Мы с Беллой обожали Веничку, и он со своей стороны платил нам любовью и даже, по-моему, был влюблен в Беллу. Когда она читала стихи, он слушал как завороженный. Веничка и Галя бывали у нас на даче в Переделкине: врачи рекомендовали Веничке как можно больше ходить пешком на свежем воздухе. Мы гуляли по аллеям, разговаривали, а потом шли обедать.
У меня сохранились подаренные им книжечки с короткими дарственными надписями в весьма своеобразном Веничкином стиле.
Например: «Борису Месс. С уже устоявшейся любовью».
Когда Веничке стало в очередной раз плохо, мы с Беллой по звонку Гали примчались на Флотскую улицу. Кое-как снарядив Веничку, на безумной скорости помчались вчетвером через весь город в больницу на Каширском шоссе и чудом успели к назначенному часу.
Это была последняя поездка Венедикта. Мы с Беллой навещали его в больнице. Веничка погибал. Помню, как он сидел на кровати, одетый в голубую рубашечку, так гармонировавшую с цветом его глаз…
Женя Матякин делал все возможное, чтобы спасти Веничку, но это уже было выше его сил.
Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг и вечность эту
равно благодарю я мир.
Что б ни случилось, не кляну,
а лишь благословляю легкость:
твоей печали мимолетность,
моей кончины тишину.
Отпевали Ерофеева в храме Ризоположения на Донской, между Ленинским проспектом и Шаболовкой. Собралось множество людей.
Похоронили Веничку на Новокунцевском кладбище. Поминки были в кафе на Скаковой улице.
Галя не выдержала жизни в одиночестве. Она выбросилась из окна той самой квартиры на Флотской.
Говорит Белла:
Слова заупокойной службы утешительны: «…вся прегрешения вольные и невольные»… «раба Твоего»… «новопреставленного Венедикта»…
Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких наук, научения, опыта — утешающих.
Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Других людей и себя утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно-опрятных крыл совести, художественного и человеческого предназначения суетой, вздором, — он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, все правильно, справедливо, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью делиться не стану. Отдам лишь легкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для не-читателя тоже. Не-читатель как прочтет? Но вдруг ему полегчает — он не узнает, но это Венедикт Ерофеев взял себе его печаль и муку. Взял и вернул всем нам уроком, проповедью добра, любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Столь свободный человек, прежде и теперь, он нарек героя его знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником — страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники. Веничка, вечная память.