Эссе из книги «Частный случай»
Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции. Поэтому всякое детство отчасти викторианское. Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно. Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченный латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел (как изюм в булочках, носивших злодейское по нынешним временам имя «калорийные») охотничьими рассказами. «С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену крааля». (О, это заикающееся эстонское «а», экзотический трофей — от щедрот. Так Аврам стал Авраамом и Сара — Саррой.) Но лучше всего были сочные, почти переводные, картинки. Они прикрывались доверчиво льнущей папиросной бумагой.
Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервилей в холмах Девоншира. Болота мне там увидеть не довелось — мешал туман, плотный, как девонширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги и уже все равно, куда идти. Чтобы вернуться к машине, мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели.
В глухом тумане слышен лишь звериный вой, в слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть.
Трудно не заблудиться в девонширских пустошах. Особенно — овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойля.
Его считали певцом Лондона, но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь. Вычерчивая приключенческую карту своей страны, Конан Дойль исподтишка готовил возрождение мифа, устроенное следующим поколением английских писателей. Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности.
Преступление — мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится зрячей. Ей есть что рассказать. Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую.
Признание Холмса «Я ничего не читаю, кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников» неплохо описывает «Илиаду» и «Одиссею».
Главное свойство гомеровского мира — фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все равно важно: и щит, и Ахилл, и прялка. В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь — часть организма, субстанциальная, как сердце.
Гомер не умел отделять частное от общего, Холмс — не хотел. Подробности наделяли его гомеровским — пророческим — зрением: он видел изнанку вещей, знал прошлое и предвидел будущее.
Пристальность Холмса делает его беспристрастным. Ему все равно, что знать, — знание его нечленораздельно, зоркая мудрость безразлична к смыслу. Конан Дойль так и не объяснил, зачем его герой пересчитал ступеньки лестницы на Бейкер-стрит.
Холмс все знает на всякий случай. Как Британская энциклопедия, которую переписывает владелец ссудной кассы Джабез Уилсон из рассказа «Союз рыжих».
Я люблю этот рассказ за красочную избыточность аферы. Убогую затею — подкоп к сейфу — маскирует ярмарочный балаган. Чтобы отвлечь рыжего владельца лавки, расположенной рядом с банком, злоумышленники устраивают цирковой парад: «Флит-стрит была забита рыжеволосым народом, Попс-корт напоминал тележку разносчика апельсинов. Здесь были рыжие всех оттенков — соломы, лимонов, апельсинов, кирпича, ирландского сеттера, желчи, глины».
Расцвечивая унылую лондонскую палитру, Конан Дойль приносит сюжетную логику в жертву эффекту. Длинный ряд вопиюще разнородных предметов — от сеттеров до лимонов — соединен фальшивым условием цвета. Это — энциклопедия рыжих Англии! Собранная ради одного абзаца, она поражает бессмысленным размахом. Но так и должно быть, ибо полнота — пафос энциклопедии. В ней заперт дух работящего ХIХ века, который перечислял окружающее в надежде исчерпать тайны мира.
Просветительская мечта энциклопедии — упорядочить мир, связав его узлом перекрестных ссылок. Ее герой — рантье науки, эрудит-накопитель, каталогизатор, коллекционер, классификатор, одним словом — Паганель. Умеющий отличить пепел сорока табаков, Холмс приходится Паганелю умным братом. Он собирает факты, Холмс ими пользуется.
В сущности, Конан Дойль — изобретатель компьютера. Человек, по Холмсу, — склад знаний. Его мозг — чердак, чью ограниченную природой площадь нужно использовать с максимальной эффективностью. Повышая ее, Конан Дойль с простодушием IBM увеличивает объем памяти: чем умней персонаж, тем больше череп.
Мистер Уилсон — черновик Холмса. Он собирает знания, не умея их употребить. Холмсу информация служит, Уилсон сам служит информации. Он — раб энциклопедии, не смеющий от нее оторваться. Бесцельность навязанной ему эрудиции подчеркнута ее ложной системностью. Строя свою утопию, энциклопедия набрасывает на вселенную случайную узду алфавита. Поэтому, переписывая первый том Британской энциклопедии, Уилсон «приобрел глубокие познания о предметах, начинающихся на букву „А“: аббатах, артиллерии, архитектуре, Аттике».
Мне трудно представить автора, которого не соблазнит этот список. Беккет закончил бы им рассказ, у Байрона он стал бы батальным сюжетом: аббаты аттического монастыря отстреливаются от турок. Конан Дойль поступает иначе. Он забывает о несчастных аббатах. Союз рыжих распущен, и выстрелившая деталь валяется на полях пустой гильзой.
Жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивей других.
Детектив напоминает сон. Те, кто толкуют его по Фрейду, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни — правдивые окраины текста.
Постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это не наблюдения за жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они — бесспорная улика действительности.
Велик удельный вес случайного на полях детективного сюжета. Самое интересное в детективе происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способны удержать силовые линии преступления — радиация трупа.
Мы читаем рассказы о Холмсе, выуживая не относящиеся к делу подробности. В них — вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойля.
Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойля, помимо сюжета, все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих — проговаривается. У ХIХ века не было свидетеля лучше Холмса — мы чуем, что за ним стоит время.
Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. Пытаясь расшифровать эту скоропись, мы следим за Холмсом с той пристальностью, которой он сам же нас и научил.
Наиболее истовые из его читателей — как новые масоны. Они назначили деталь реликвией, сюжет — ритуалом, чтение — обрядом, экскурсию — паломничеством. Так уже целый век идет игра в Священное писание, соединяющая экзегезу с клубным азартом.
В этой аналогии меньше вызова, чем смысла: Шерлок Холмс — библия позитивизма. Цивилизация, которая ненароком отразилась в сочинениях Конан Дойля, достигла зенита самоуверенного могущества. Ее сила, как всемирное тяготение, велика, привычна и незаметна.
О совершенстве этой социальной машины свидетельствует ее бесперебойность. Здесь все работает так, как нам хотелось бы. Отправленное утром письмо к вечеру находит адресата с той же неизбежностью, с какой следствие настигает причину, Холмс — Мориарти, разгадка — загадку.
Эпоха Холмса — редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда.
Если преступление — перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Читая Конан Дойля, мы подглядываем за жизнью в тот исключительный момент, который кажется нам нормой.
Криминальная проза — куриный бульон словесности.
Детектив — социальный румянец, признак цветущего здоровья. Он кормится следствием, но живет причиной. Он последователен, как сказка о репке. В его жизнерадостной системе координат жертва и преступник скованы каузальной цепью мотива: кому выгодно, тот и виноват.
Если есть злоумышленник, значит, зло умышленно. Что уже не зло, а добро, ибо всякий умысел приближает к Богу и укрывает от пустоты.
В мире, где жертву выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление — норма, литературе больше удаются абсурдные, а не детективные романы.
Цивилизованный мир — главный, но тайный герой Конан Дойля, о котором он сам не догадывался. Да и мы узнаем о нем только тогда, когда, собрав рассыпанные по тексту приметы, поразимся настойчивости их намека.
Как Ленин, Конан Дойль торопится захватить все, что нас связывает: телеграф, почту, вокзалы, мосты, но прежде всего — железную дорогу: Холмс никогда не отходит далеко от станции, Уотсон не расстается с расписанием.
Возможно, в авторе говорил цеховой интерес. Рассказы о Холмсе — первая классика вагонной литературы. Они, мерные, как гири, рассчитаны на недолгие пригородные переходы. Единица текста — один перегон. Сочетая стремительность фабулы с уютом повествования, они идеально дополняют меблировку купе.
Детектив — дом на колесах. Лучше всего читать его на ходу.
Всякая дорога потворствует приключениям. Нанизывая на себя авантюры, она выпускает случай на волю. У Конан Дойля, однако, железная дорога не нуждается в оправдании. Она помогает не сюжету, а героям: в купе они набираются сил.
Железная дорога — кровеносная система цивилизации. Делая перемещение бесперебойным, а остановки предсказуемыми, она покоряет пространство и время, укладывая стихию в колею прогресса. Здесь не может случиться ничего непредвиденного. Сюда запрещен вход случаю, ибо он угрожает главной ценности ХIХ века — размеренности движения.
Железная дорога — перенесенное из истории в географию наглядное пособие по эволюции, страстную любовь к которой Конан Дойль разделял со своим временем.
Холмс — живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения. Педантично прослеживая путь от мелкой подробности к судьбоносной улике, сыщик подражает природе, превратившей амебу в венец творения. Как Дарвин, Конан Дойль демонстрирует скрытые от непосвященных ходы эволюции. Он устанавливает связь между низшим и высшим — фактом и выводом.
Самому Холмсу важен не результат, а метод: «Всякая жизнь, — пишет он, — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену».
Знаменитая дедукция — квинтэссенция ХIХ века, боготворившего постепенность. Секрет его завидного достоинства — в отсутствии квантовых скачков, экзистенциальных разрывов, с которыми уже примирился современный человек, выброшенный из лузы своей биографии.
Автор этой бильярдной метафоры толковал эволюцию не по Дарвину, а по Ламарку. Осваивая поэтику разрыва, Мандельштам мыслил опущенными звеньями. Пафос Конан Дойля — в демонстрации всех ступеней эволюции. Для этого написан «Затерянный мир». В этом викторианском «Парке Юрского периода» Конан Дойль делает естественную историю частью обыкновенной.
Название этой повести напоминает Диснейленд, образы — «Искушение святого Антония», содержание — «Божественную комедию». Спускаясь по эволюционной лестнице, автор приводит нас в доисторическую преисподню: «Место было мрачное само по себе, но, глядя на его обитателей, мне невольно вспомнилась сцена из седьмого круга Дантова „Ада“. Здесь гнездились птеродактили… Вся эта копошащаяся, бьющая крыльями масса ящеров сотрясала воздух криками и распространяла вокруг себя такое страшное зловоние, что у нас тошнота подступала к горлу„.
Важнее, однако, что в затерянном мире герои находят — и истребляют — раздражающее науку недостающее звено — получеловека-полуобезьяну.
С помощью нижних ступеней эволюции Конан Дойль удлинил викторианскую цивилизацию. Спиритизм должен был сделать ее вечной. Конан Дойль верил, что избавиться от сверхъестественного можно, лишь превратив его в естественное. Поднимаясь от бездушной молекулы до бесплотной души, он не пропускал ступеней,
Спиритизм — оккультная истерика рационализма; детектив — его разминка.
Лучше других Холмс знает, что загадка — антитеза тайны: она отменяет непознаваемое. Поэтому Холмс не вступает в диалог со сверхъестественным — он отказывается с ним считаться. Холмс — последняя инстанция в споре рационального с необъяснимым.
Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста; его скрытая цель — заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса — демистифицировать мир, разоблачив попытки судьбы выдать себя за Высший Промысел. Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным.
Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме вселенной, случай угрожает ее отлаженному ходу. Срывая покров невозмутимости с высокомерного лица цивилизации, случайность выводит мир из себя.
Тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признаёт случайность либо ложной, либо слепой. В первом случае она уступает преступному расчету, во втором — математическому.
“Четыре миллиона человек толкутся на площади в несколько квадратных миль. В таком колоссальном человеческом улье возможны любые комбинации событий и фактов» — так начинается построенный на череде совпадений «Голубой карбункул».
В центре рассказа — гуси. Их столько же, сколько букв английского алфавита, — двадцать шесть. Незадачливый преступник спрятал похищенную драгоценность в зоб одной из двух белых птиц с полосатыми хвостами. Опечатка зачинает сюжет: похититель зарезал не того гуся. Перепутанные гуси попадают к перепутанным людям — драгоценная птица оказывается у некоего Генри Бейкера. В Лондоне, где «живет несколько тысяч Бейкеров и несколько сот Генри Бейкеров», так же трудно найти нужного Бейкера, как нужную птицу в гусином стаде. В эту призрачную толпу однофамильцев затесались и Холмс с Уотсоном, живущие на Бейкер-стрит. Цепь случайностей завершает трапеза, на которой «опять-таки фигурирует птица: ведь к обеду у нас вальдшнеп».
Череда совпадений помогает Холмсу избавиться от намеков судьбы. «Случай, — добродушно резюмирует он, — столкнул нас со странной и забавной загадкой, и решить ее — сама по себя награда».
Элиот предостерегал толковавших его темные стихи критиков от пагубной привычки придумывать загадки ради радости их отгадывать.
Критики, однако, неисправимы. Сторожа подробность, они заставляют ее выболтать секрет, в том числе неизвестный автору. Распуская ткань повествования на нити, критики превращают героя в подсудимого, чернила — в кровь, исписанную страницу — в чистую. Книга для них — не продукт, а сырье, tabula rasa искусственного мирозданья. Им должно быть понятно то, что другим не видно, и видно то, что другим не понятно.
Выступая в этом качестве, даже презиравший детективы Набоков подражал Холмсу: «Мой курс — своего рода детективное расследование с целью раскрыть тайну литературных структур».
Литература, как и преступление, — частный случай. Она — исключение из правил, потому что учитывает их. (Чего не скажешь о наших буднях.) Художественный замысел равноценен преступному уже потому, что он есть.
Профессиональный читатель — следопыт. С сыщиком его объединяет уверенность в том, что у следов есть автор — писатель или преступник. Мы идем за ним, пока не поймем его, как себя. Повторяя — как нитка за иголкой — его ходы, мы сближаемся с каждым стежком, чтобы, настигнув, обогнать. Предвидя, куда свернет сюжет или убийца, мы заглядываем в будущее. Пределы этой власти ставит лишь невозможность исправить чужие ошибки.
Представляя Холмса, Конан Дойль выдает его за критика: мы знакомимся с ним как с автором статьи «Книга жизни». То, что в ней написано, Лотман, Барт и Эко назвали бы семиотикой повседневности.
Окружающее для Холмса — текст, который он предлагает читать «по ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки…»
Прочесть вселенную — старый соблазн. Новым его делает то, что Холмс читает мир не как книгу, а как газету.
Газета — волшебное зеркало детектива. Склеенное из мириад осколков, оно отражает мир с угловатой достоверностью снимков.
Газета — любимица Конан Дойля. Соединяя его с Холмсом и Уотсоном, она предлагает каждому упомянутому свои услуги.
Конан Дойлю газета часто заменяет рассказчика. Излагая обстоятельства преступления, газета дает всегда подробную, обычно ясную и неизбежно ложную версию событий. Газета отличается поверхностным взглядом, самоуверенным голосом и нездравым смыслом. Принимая очевидное за действительное, она предлагает вульгарное и единственно правдоподобное объяснение происшедшего.
Газета — шарж на Уотсона. На ее фоне и он блестит. Как слюда.
Холмса газеты окружают как воздух и нужны ему не меньше. Он умеет пользоваться газетами с толком: Холмс «достал свой огромный альбом, куда изо дня в день вклеивал вырезанные из лондонских газет объявления о розыске пропавших, о месте встреч и тому подобное.
— Боже мой! — воскликнул он, листая страницы. — Какая разноголосица стонов, криков, нытья! Какой короб необычайных происшествий!»
Оказавшись в тупике, Холмс часто обращается к газете, чтобы найти там разгадку. Печатая ее черным по белому, Конан Дойль открывает секрет своего мастерства: ключ к преступлению у всех на виду и никому не виден. Кроме Холмса, назвавшего своей профессией «видеть то, что другие не замечают».
ХIХ веку газеты заменяли Интернет — они были средством публичной связи. Газетные объявления позволяли вести интимную переписку тем, кто не мог воспользоваться почтой. От чужого глаза приватный диалог укрывала ссылка на понятные только своим обстоятельства.
Разбирая птичий язык объявлений, Холмс замыкает преступную цепь на себе. Дальний отпрыск Фауста, он унаследовал от предка дар чернокнижника: Холмс читает газету, как каббалист Тору.
Если Холмс — критик гениальный, то Уотсон — добросовестный, как Белинский. Вглядываясь в окружающее, первый отмечает, что видит, второй — что знает.
Уотсон отнюдь не лишен наблюдательности, но он следит не за фактами, а за их культурными отражениями. Холмс подглядывает за голой действительностью, Уотсон приукрашивает ее литературной традицией.
Их разделяет поэтика. Холмс поклоняется богу деталей. Его правда кормится сырой эмпирикой. Аскет по призванию, он охватывает мир глазом акмеиста: «Для того чтобы добиться подлинно реалистического эффекта, необходим тщательный отбор, известная сдержанность». В окружающем Холмс ценит вещное, штучное, конкретное.
Для Уотсона частное — полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Уотсон защищается от него штампами: «Вошел джентльмен с приятными тонкими чертами лица, бледный, с крупным носом, с чуть надменным ртом и твердым, открытым взглядом — взглядом человека, которому выпал счастливый жребий повелевать и встречать повиновение».
Уотсон — жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету.
Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойль обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в видеоискатель Уотсона. Он крупнее фигуры, которую может изобразить Уотсон, но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но неискусному рисунку.
В манере Уотсона Холмсу не нравились сантименты: «Это все равно что в рассуждение о пятом постулате Эвклида включить пикантную любовную историю».
Уотсон, однако, делит любовь к мелодраме не только со своим веком, но и со своим другом. Театральные эффекты, которыми злоупотребляет Холмс, компенсируют ту экономию усилий, что Шопенгауэр называл грацией.
Сворачивая веером свои рассуждения, Холмс страдает от того, что некому оценить алгебру его мысли — цепь уравнений, ставших бесполезными ввиду вывода-ареста.
В Уотсоне Холмс ценит не биографа, а болельщика, который охотно признаётся, что «не знал большего наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью».
Спортивные достижения Уотсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойль не устает напоминать, что Уотсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано.
Спорт — кровная родня закону. У них общий предок — общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Уотсон относится к Холмсу.
Спортивность Уотсона противостоит артистизму Холмса.
Шерлок Холмс обладает ренессансным темпераментом. Он сам себе устанавливает правила, по которым играет. Даже на скрипке: «Когда он оставался один, редко можно было услышать пьесу или вообще что-либо похожее на мелодию».
Уотсон живет на краю мира, не задавая ему тех вопросов, на которые Холмс отвечает. Призвание Холмса — истребить хаос, о существовании которого Уотсон не догадывается.
Холмс норовит проникнуть в тайны мироздания — и разоблачить их. Ему нужна правда — Уотсон удовлетворяется истиной: одному надо знать, как было, — другому хватает того, что есть.
Беда Холмса в том, что сквозь хаос внешних обстоятельств он различает внутренний порядок, делающий жизнь разумной и скучной.
Восхищаясь Холмсом, Конан Дойль не заблуждается относительно его мотивов. Они своекорыстны и эгоцентричны. Мораль Холмсу заменяет ментальная гигиена: «Вся моя жизнь — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней».
Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. «Счастье лондонцев, что я не преступник», — зловеще цедит Холмс, и ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки.
Холмс — отвязавшаяся пушка на корабле. Он — беззаконная комета. Ему закон не писан.
Уотсон — дело другое. Он — источник закона.
Уотсону свойственна основательность дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Уотсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев.
Уотсон сам похож на закон: не слишком проницателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени.
Холмс стоит выше закона, Уотсон — вровень с ним. Ценя это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя «лучшим присяжным Англии». Уотсон — посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие — гарантия законности.
Холмс — отмычка правосудия. Уотсон — его армия: он годится на все роли — вплоть до палача.
Холмсу Конан Дойль не доверяет огнестрельного оружия — тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Уотсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера.
Впрочем, у Конан Дойля стреляют редко и только американцы.
Не описанные Уотсоном дела Холмса — блеф Конан Дойля. Они должны нас убедить в том, что Холмс может обойтись без Уотсона. Не может.
Трагедия сверхчеловека Холмса в том, что он во всем превосходит заурядного Уотсона. Безошибочность делает его уязвимым. Оторвавшись от нормы, он тоскует по ней. Уйдя вглубь, он завидует тому, кто остался на поверхности.
«Кроме вас, у меня друзей нет», — говорит Холмс, понимая, что без Уотсона он — ноль без палочки.
Холмс — пророческий символ науки, которая может решить любую задачу, не умея поставить ни одной.
Прислонившись к пропущенному вперед Уотсону, Холмс, как и положено нулю, удесятеряет его силы. Оставшись один, он годится лишь на то, чтобы пародировать цивилизацию, выращивая пчел в Сассексе.
Дон Кихот не изменится, уверял Борхес, если станет героем другого романа. С легкостью преодолев эту планку, Холмс и Уотсон выходят из своего сюжета в мир, чтобы воплотить в нем две стороны справедливости.
Иерусалимский дворец правосудия построен на одном архитектурном мотиве — прямой коридор закона замыкает полукруглую арку справедливости.
Это тот природный дуализм, что сталкивает и объединяет милосердие с разумом, истину с правдой, настоящее с должным, гуманное с абстрактным, искусство с наукой, Уотсона с Холмсом и закон с порядком.
Закон — это порядок, навязанный миру. Порядок — это закон, открытый в нем.
Условность одного и безусловность другого образуют цивилизацию, которая кажется себе единственно возможной. Растворяя искусственное в естественном, она выдает культуру за природу, полезное за необходимое, случайное за неизбежное.
Парные, как конечности, устойчивые, как пирамиды, и долговечные, как мумии, Шерлок Холмс и доктор Уотсон караулят могилу того прекрасного мира, что опирался на Закон и Порядок, думая, что это одно и то же.
 «Сумерки „Сайгона“» я и мое поколение можем читать как учебник истории, вернее те его главы, которые посвящены жизни простых людей. Что надо делать сегодня, чтобы тебя причислили к контркультуре? Разорвать одежду, сменить половые признаки, петь песни, где 60% текстов чистый мат, — и вот ты уже контркультурист. Интересно читать о времени, когда для того, чтобы выделиться, приходилось идти в Публичную библиотеку, когда ценитель кофе уже являлся в чем-то оппозиционером. В старших классах мы читали «1984» Оруэлла, не по литературе, а по обществознанию. Помнится, роман меня сильно поразил. Естественно, место действия ассоциировалось с СССР. Сложно было представить, что очаг инакомыслия может существовать прямо в центре такой страны. А ведь существовал!
«Сумерки „Сайгона“» я и мое поколение можем читать как учебник истории, вернее те его главы, которые посвящены жизни простых людей. Что надо делать сегодня, чтобы тебя причислили к контркультуре? Разорвать одежду, сменить половые признаки, петь песни, где 60% текстов чистый мат, — и вот ты уже контркультурист. Интересно читать о времени, когда для того, чтобы выделиться, приходилось идти в Публичную библиотеку, когда ценитель кофе уже являлся в чем-то оппозиционером. В старших классах мы читали «1984» Оруэлла, не по литературе, а по обществознанию. Помнится, роман меня сильно поразил. Естественно, место действия ассоциировалось с СССР. Сложно было представить, что очаг инакомыслия может существовать прямо в центре такой страны. А ведь существовал! Книга достаточно точно передает атмосферу тогдашнего города, наверно, потому что в ней представлены воспоминания многих людей, воспоминания с разных точек зрения. Мы как будто одно и то же место за разных людей, слушаем один и тот же стих в разных углах кафе, смотрим на одну и ту же картину с разной высоты. Для меня лично это является как плюсом, так и минусом, потому что иногда эти повторы интересны, а иногда — нет. Книга большая, и вряд ли ее можно полностью осилить за один раз, скорее читать ее надо как журнал: когда сначала читаешь статьи с тем, что ты знаешь, потом с тем, что слышал, а потом прочитываешь весь журнал от корки до корки (я имею в виду хороший журнал).
Книга достаточно точно передает атмосферу тогдашнего города, наверно, потому что в ней представлены воспоминания многих людей, воспоминания с разных точек зрения. Мы как будто одно и то же место за разных людей, слушаем один и тот же стих в разных углах кафе, смотрим на одну и ту же картину с разной высоты. Для меня лично это является как плюсом, так и минусом, потому что иногда эти повторы интересны, а иногда — нет. Книга большая, и вряд ли ее можно полностью осилить за один раз, скорее читать ее надо как журнал: когда сначала читаешь статьи с тем, что ты знаешь, потом с тем, что слышал, а потом прочитываешь весь журнал от корки до корки (я имею в виду хороший журнал).

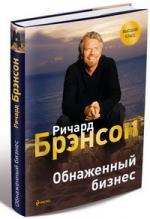
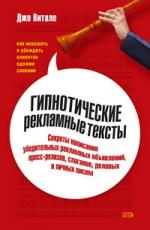



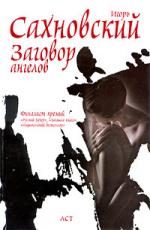






 Ученица Сергея Соловьева, Меликян пришла в кино с телевидения, и, казалось бы, ровным счетом ничего не предвещало, что у нее будет выходить приличное кино. Прежде чем поступить во ВГИК, она работала режиссером телевизионных ток-шоу, ставила одну из церемоний закрытия ММКФ. Попутно прошла стажировку в Германии — одним словом, быть ей постановщиком закрытий-открытий и ток-шоу «Чего хочет женщина?».
Ученица Сергея Соловьева, Меликян пришла в кино с телевидения, и, казалось бы, ровным счетом ничего не предвещало, что у нее будет выходить приличное кино. Прежде чем поступить во ВГИК, она работала режиссером телевизионных ток-шоу, ставила одну из церемоний закрытия ММКФ. Попутно прошла стажировку в Германии — одним словом, быть ей постановщиком закрытий-открытий и ток-шоу «Чего хочет женщина?».
 История появления в кинематографе Павла Руминова в точности отражает его фильмы. Придумано здорово, за исполнение — кол. Идея неплохая, но уж больно вычурно, не столько фигурное катание, сколько корова на льду. Простой парень из Владивостока приехал с любительской камерой в Москву и покорил строгих кинокритиков и синефилов, которые в него без памяти влюбились.
История появления в кинематографе Павла Руминова в точности отражает его фильмы. Придумано здорово, за исполнение — кол. Идея неплохая, но уж больно вычурно, не столько фигурное катание, сколько корова на льду. Простой парень из Владивостока приехал с любительской камерой в Москву и покорил строгих кинокритиков и синефилов, которые в него без памяти влюбились.
 Лобан для русского кино персонаж исключительный. Редкий случай — режиссер пришел в большое кино не из ВГИКа и не с чужих съемок, а откуда-то из подворотни. В девяностые он с друзьями баловался камерой, снимая все что попало. На жизнь компания, называвшая себя «Свои-2000», зарабатывала тем, что делала передачу «До шестнадцати и старше…» в последние годы ее существования. Во что превратилась перестроечная передача «для детей и юношества», страшно вспомнить. Там фигурировали Андрей Бартенев и Петлюра — этого вполне достаточно. Параллельно «Свои» устраивали перформансы на московских улицах.
Лобан для русского кино персонаж исключительный. Редкий случай — режиссер пришел в большое кино не из ВГИКа и не с чужих съемок, а откуда-то из подворотни. В девяностые он с друзьями баловался камерой, снимая все что попало. На жизнь компания, называвшая себя «Свои-2000», зарабатывала тем, что делала передачу «До шестнадцати и старше…» в последние годы ее существования. Во что превратилась перестроечная передача «для детей и юношества», страшно вспомнить. Там фигурировали Андрей Бартенев и Петлюра — этого вполне достаточно. Параллельно «Свои» устраивали перформансы на московских улицах.
 Киновед по образованию, Хлебников начал снимать достаточно поздно. И, что особенно ценно в его случае, он не норовит на каждом шагу напомнить зрителям о своей насмотренности и эрудиции.
Киновед по образованию, Хлебников начал снимать достаточно поздно. И, что особенно ценно в его случае, он не норовит на каждом шагу напомнить зрителям о своей насмотренности и эрудиции.
 Николай Хомерики подбирался к «большому» кино долго: сначала учился на Высших режиссерских курсах у Владимира Хотиненко, потом во французской киношколе La Femis. И это продолжительное, старательное обучение видно по его фильмам. Первые короткометражки — «Тезка» и «Шторм» — очень осторожные, ученические. Что-то вроде академического рисунка. И только снятая после окончания La Femis картина «Вдвоем» с лунгинской клоунессой Натальей Колякановой в главной роли показала все способности режиссера. И была отмечена призом Cinefondation Каннского кинофестиваля — как лучший короткометражный дебют. И по заслугам — простенькая и лаконичная история была снята Хомерики искусно и умно. Подобные фильмы — лучший способ для молодых режиссеров продемонстрировать свое мастерство, все свои способности. И заслужить карт-бланш на первую полнометражную работу.
Николай Хомерики подбирался к «большому» кино долго: сначала учился на Высших режиссерских курсах у Владимира Хотиненко, потом во французской киношколе La Femis. И это продолжительное, старательное обучение видно по его фильмам. Первые короткометражки — «Тезка» и «Шторм» — очень осторожные, ученические. Что-то вроде академического рисунка. И только снятая после окончания La Femis картина «Вдвоем» с лунгинской клоунессой Натальей Колякановой в главной роли показала все способности режиссера. И была отмечена призом Cinefondation Каннского кинофестиваля — как лучший короткометражный дебют. И по заслугам — простенькая и лаконичная история была снята Хомерики искусно и умно. Подобные фильмы — лучший способ для молодых режиссеров продемонстрировать свое мастерство, все свои способности. И заслужить карт-бланш на первую полнометражную работу.











