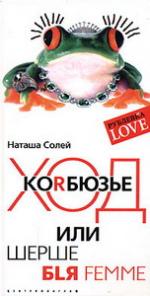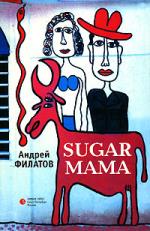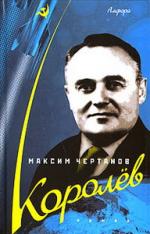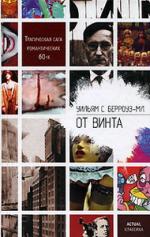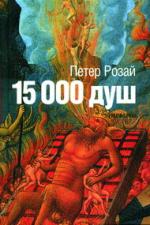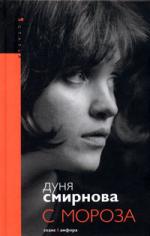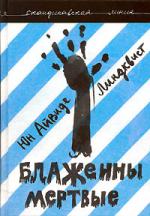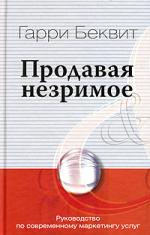- М.: Центрполиграф, 2006
- Переплет, 304 с.
- ISBN 5-9524-2501-1
- 100 000 экз.
«Не верю!»
Ну не верится в эту книгу, никак. Ни в сюжет, ни в героев, ни в большие литературные способности автора, ни в то, что книга — «потенциальный бестселлер», каким ее именуют. Окрестили даже «романом-провокацией» — непонятно, на каких основаниях. Кому же неизвестно, как фосфоресцирующие блондинки прокладывают себе дорогу к теплому камину загородного коттеджа? Что продвижение к светлому будущему может тормозить темное прошлое?.. А на Рублевско-Успенском шоссе матушки Москвы в своей палатке не поселишься. И все же «Ход Коrбюзье» занимает одну из первых строк в рейтинге самых читаемых книг 2006 года.
Книга вышла в серии «Рублевка love» (необходимость упомянуть о престижном районе продиктована временем), что указывает на ее родство с жанром «chicklit», то есть литературой для женщин. В «рублевской» книге ведется охота на чужие деньги, на чужих мужчин и женщин, на чужие реликвии, идет борьба за место перед объективом фото- и телекамер. Известность, пусть скандальная или наследованная от знаменитых предков, помогает совершить заплыв дальше и клиентов найти богаче. Людей встречают по одежке: тут и там по тексту разбросаны названия модных марок, которые потенциальным читательницам могут ни о чем и не говорить. Зато не могут не говорить, что книга выдержана «в стиле».
По словам самой Натальи Солей, ей хотелось, чтобы в книге присутствовали «элементы интеллектуальной прозы», потому что сегодняшний читатель из-за ускорившегося темпа жизни должен «развлекаясь просвещаться». Так вот эти «элементы» инкрустированы весьма кустарно, они не равны в весовой категории событиям романа, и сам авторский текст из-за этого проигрывает. Да, Н. Солей по ходу написания книги вскопала интересный материал, узнала много нового для себя и всем этим захотела поделиться с читателями… Но лучше бы читатели добыли информацию сами, из соответствующих источников. Достаточно было бы ссылки, не закутанной в ворох скучноватых страниц. «Все смешалось…»: тут и лекция о стиле ар деко, и биография французского архитектора Шарля Эдуара ле Корбюзье, и театральная хроника (Н. Солей в прошлом театральный критик), и развернутая цитата из З. Фрейда. Последнее особенно «изящно» подано: когда уважаемый банкир и без пяти минут муж завидной невесты, правнучки Корбюзье, подверается нешуточной атаке медиа-акулы, его приятель зачитывает ему выдержку из трудов Фрейда о «переносе любви», которую СПЕЦИАЛЬНО скачал из Интернета. Флажки расставлены, и теперь просвещенный читатель догадался (огромное мерсибо!), по какой именно наклонной плоскости покатится подцепленный на острый женский коготок бедолага банкир. А ему катиться понравилось: «флирт мужчине на пользу — крепче семейные узы будут». Все 90% женской аудитории болеют за новоявленного жениха Шапошникова против этого распутника!
Кстати, за образом Шапошникова скрывается реальный человек, и характер, по признанию автора, списан с него. Однако это как раз тот случай, когда книжный герой кажется неправдоподобным, и только удивляешься: как же можно было такое налепить? Уж слишком он получился слащавым: не испорченный славой и признанием дизайнер, Версаче Рублевки, ценитель Северянина и мороженого с сиренью, влюбленный в женскую красоту, но не забывающий о знатном происхождении избранницы, готовый помочь сопернику вопреки собственному счастью… Характер получился нарисованным, так что даже краска мажет.
Во второй части книги выясняется, что перед нами детектив. Автор начинает выводить на чистую воду героев, которых долго стаскивал в одну кучу. Судьбы многих из них аккуратно переплетены, что, правда, не идет на пользу роману. Слишком многое притянуто за уши, слишком много совпадений и неправдоподобностей (консьерж покидает вахту, чтобы двигать в чужой квартире мебель, прогульщица зачем-то зубрит французский, «овца» сама из гордости идет на заклание и т. д.). Неожиданно появляется сестра-близнец, и нам предлагают известную с детства сказку о трудолюбивой и скромной «Настеньке», которую ненавидят за компанию всем семейством, и пробивной «Марфушке» с железной хваткой. Правда, образ провинциальной Горгоны почему-то разваливается — и без того глянцево-плоский, он уплощается к концу книги.
«В том обиду я увидел, что с собой не позвала…» И вот еще какая незадача: сначала совершается убийство, и только после этого на сцену выводится убийца. Читателю не дают возможности вычислить злодея самостоятельно.
Книга заканчивается хорошо — виновные наказаны, влюбленные соединились. Но автор пожелал, чтоб было совсем хорошо, чтоб справедливость восторжествовала, как в сказке.
Один из героев рассказывает о приятеле, дом которого потрясающе технически оснащен… Его зовут Билл… (Господи, пронеси!)… Нет, это все-таки Гейтс! Ну, давайте и его в эту кучу! И чета Шапошниковых в сопровождении нового знакомого летит в гости к отцу «Майкрософта», в фантастический дом будущего. Такой «ход Солей» потребовался для чего — для продвижения сюжета или для обнародования любопытного материала о компьютеризированном дворце из пихты? Для «торжества справедливости» можно ведь было обойтись и малой кровью, швы повествования и без того не затягиваются.
В основном события романа мечутся между Москвой, Парижем и Омском. Москва — понятно, при Рублевке. Омск — почему бы и нет? — любая удаленная точка. А вот Париж — французская мечта многих российских женщин. Автор тоже им болен и совершает путешествие в воображении, снарядив в «город любви» свою героиню, журналистку. Но город, сотканный из цитат и названий улиц, так и остается книжным, неживым. Очевидно, это должно помочь нашему читателю признать в нем столицу Франции — в другую невыездным россиянкам сложно поверить.
P. S. Солей (фр. солнце) — это псевдоним, который автор придумала на волне былой влюбленности во французский цирк «Дю Солей». Для меня почему-то имя автора звучит иначе, раскалывается на части: Наташа Солей = Наташа с Олей…