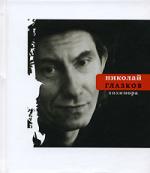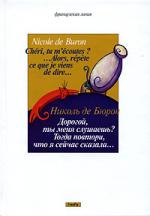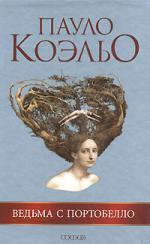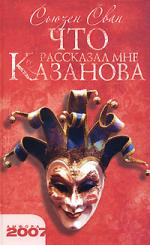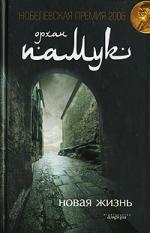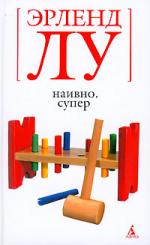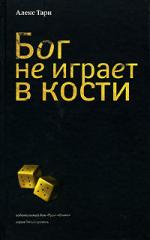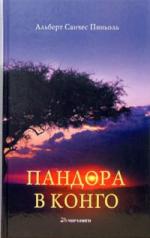- М.: Время, 2007
- Переплет, 536 с.
- ISBN 978-5-9691-0180-X
- 2000 экз.
«Конечно,
разумеется,
Впрочем,
надо полагать…»
Николай Иванович Глазков, «общепризнанный непризнанный гений», сам же и подсказал мне интонацию этого отзыва. Слово «гений», кстати, едва ли не чаще всего встречается в его словаре. В восемнадцать лет сочинил такие строки:
Я гений Николай Глазков,
И в этом вся моя отрада…
Северянина тогда еще не читал, но, прочитав, решил, что он лучше Северянина.
Похоже, собственная гениальность была главной темой Глазкова. С этим поэтическим эгоцентризмом слегка запоздал. Выборы короля поэтов давно стали достоянием комической хроники ушедшей эпохи. Умер, пережив свою славу, член КПСС Валерий Брюсов, тихо скончался Хлебников, повесился Есенин, застрелился Маяковский, скудно доживал в эмиграции Северянин. А молодой Глазков тут-то и принялся хулиганить, прославлять богемное пьянство и самовыставляться. В поэтическом плане это было не актуально, в социальном — несвоевременно и опасно. Конец тридцатых. За то и пострадал. Печатать его не хотели. Совсем близко была война.
Непечатаемый в советское время поэт автоматически считался у нас диссидентом. Такой слух был и о Глазкове (о нем долгое время только и были слухи). Но нет, никакого диссидентства в Глазкове не было. Конечно, разумеется, ум иронический, и какой же власти это приятно, но на сатиру, даже и в ультракоммунистическом духе Маяковского, не шел. Почти не шел. Ну, разве, такое:
Холодно на планете,
И пустоты не убрать ее.
Ненастоящие дети
Что-то твердят по радио.
Почувствовать, что это написано в расстрельные тридцатые, можно только с очень обостренным историческим слухом.
Что-то он, конечно, видел и недолюбливал. Но общепринятый патриотизм сомнения нивелировал, не принимал их, с ними не мирился. Отечественный восторг был много сильнее:
На складах картофель сгнивал
и зерно,
Пречерствый сухарь
голодающий грыз,
И не было хлеба, картофеля, но
Я все равно любил коммунизм.
И с этим-то откликом на голод запоздал, война уже надвигалась (стихотворение 1940–1941 годов).
Эпоха шла мимо, ощущение собственной гениальности (при самоиронии, конечно, надо полагать) было генеральным. Но даже и непризнанность свою прощал власти родной по определению:
В искусстве безвкусью платили дань,
Повылезло много бездарных подлиз.
Меня не печатали. Печатали дрянь.
Но я все равно любил коммунизм.
Беда была не только в том, что не попал в хор. Хоть бы с обэриутами, что ли, сдружился. Но беда была, повторяю, не в этом. Может быть, в прошлогоднем романтизме и социальной глобальности мечты, которые уже не достигали слуха оглушенного реальностью современника. Поэтому и в самой потаенной надежде своей был обречен:
Истину глаголят уста мои,
Имеющий уши, услышь!
Никакой истины, кроме свежего взгляда на предметы, у Глазкова, конечно, не было. Впрочем, для поэта достаточно. И вообще поэт не летописец. Хотя даты под стихами добавляют абсурда, который в стихах все же вполне умеренный. Тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Ничего о жизни. Ну, почти ничего. Об исторических датах вспоминал, но как-то невпопад, с опозданием на десятилетия, и вполне ординарно, как могли бы вспомнить Иванов и Петров, не говорю уж, Сидоров:
Однако, позабыв все беды
И грусть четырехлетней тьмы,
День исторической Победы
Как счастье ощущаем мы!
Почему-то 1979 год. Почему вдруг вспомнилось? А почему за год до этого:
Настанет год — России добрый год,
Когда спадет подъем болотных вод…
С временем Глазков, определенно, знаком не был. Зато к концу жизни подружился с природой. Как, вообще говоря, и происходит обычно с чудаками и эксцентриками. Начал писать, что тебе поздний Заболоцкий:
За добротой побрел в леса,
Туда, где благодушны воды,
Радушны лиственные своды,
Разумны птичьи голоса.
Сколько властей пережил! Ни про одну ничего не узнали. Про Сталина написал, как всегда, запоздалое стихотворение, из которого стало известно, что успел что-то написать во славу вождя. В сборнике этого стихотворения, конечно, нет. Из надиктованной Давиду Самойлову автобиографии узнали о друзьях. Как правило, ироническое и с любовью к себе: «Весь Литинститут по своему классовому характеру разделялся на явления, личности, фигуры, деятелей, мастодонтов и эпигонов.
Явление было только одно — Глазков.
Наровчатов, Кульчицкий, Кауфман, Слуцкий и Коган составляли контингент личностей. Израилев был наиболее яркой фигурой, Хайкин — самым замечательным деятелем, Кронгауз — наиболее выдающимся мастодонтом. А эпигоны были все одинаковые».
Татьяна Бек в перепечатанном в книге эссе назвала Глазкова поэтом выдающимся. Наверное. То есть, конечно, разумеется. А почему бы и нет? Тем более и сейчас ведь опасно молвить слово против:
И я, поэт Глазков, не принимаю
Людей, не принимающих меня.