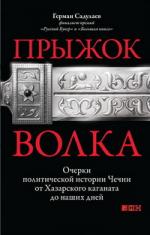- Издательство «Эксмо», 2012 г.
- Элизабет Тейлор начала писать эту книгу, узнав о трагической гибели Майкла Джексона, которого считала не просто другом, а приемным сыном, и от которого у нее не было секретов: он остался ей лучшим собеседником даже после смерти, ему можно было рассказать всё без утайки, выплакаться, поделиться радостью, вспомнить о былом, поведать самые сокровенные женские тайны — ведь «с годами начинаешь сожалеть не столько о совершенных грехах, сколько о тех, что не совершила…»
Всё в жизни Элизабет Тейлор было СВЕРХ — звездная карьера с четырех лет, всемирная слава «Королевы Голливуда», «новой Клеопатры», первой красавицы эпохи с колдовскими (одни на миллиард!) фиалковыми глазами, три «Оскара», восемь браков (два из них с Ричардом Бартоном), первый в Голливуде контракт на миллион долларов, самая дорогая (продана за 200 миллионов) коллекция бриллиантов… А еще — более 30 серьезных операций, перелом позвоночника, инфаркт, рак кожи, опухоль мозга размером с теннисный мяч, алкоголь и наркотики. «Я прекрасный пример того, через что может пройти женщина и при этом остаться в живых», — признается Элизабет Тейлор в своей сенсационной книге, где предельно откровенно рассказала обо всех страстях и грехах, горестях и радостях, ролях и мужьях и которую посвятила «Памяти моего сына Майкла Джексона».
Без Майкла…
Этого не может быть!
Этого просто не могло быть, но это случилось!
Майкла Джексона нет… Нет Майкла!..
Первые дни я не могла ни о чем думать, была только боль, всепоглощающая душевная и сердечная боль. Этого просто не могло быть, но это случилось… Я, пожилая, больная женщина, настоящая развалина, у которой нет здоровой клеточки, жива, а безумно талантливый, еще молодой мужчина умер!
Я похоронила стольких людей, которых любила, что начинаю чувствовать себя просто старой черепахой. Большой… океанской… медлительной во всем…
Меня снова «привели в порядок», хотя на сей раз слова врача не соответствовали действительности. Привыкший к обезболивающим организм больше не желал им подчиняться. Но если с физической болью за много-много лет я уже свыклась, то боль душевная, которую не заглушить никакими анальгетиками, была столь сильной, что не давала дышать.
К руке подключена капельница, у лица висит (на всякий случай!) кислородная маска, мигают экраны разных мониторов, показывая, что я еще жива… Да, я жива! Я жива, а ты умер…
Майкл, ты любил шуточки, но это дурацкая шутка, правда, дурацкая. Осиротить стольких людей сразу! Самое гадкое — ничего не исправишь, никакая ругань не поможет. Не могу себе представить, что тебя больше нет, не могу…
Майкл, я сегодня вспоминала твое первое Рождество. Помнишь? Я просто ужаснулась, когда узнала, что родители никогда не устраивали вам в детстве Рождество, не клали подарки под елку, не предлагали загадать желание для Санта-Клауса. У Свидетелей Иеговы это не положено. Нелепо! Я не буду осуждать чужие верования, но для меня Рождество это даже не религиозный праздник, а праздник надежды. Рождество и День Рожденья — что может быть для ребенка лучше? Как можно лишать детей надежды, что в эту волшебную ночь сбудется заветное желание?!
Помнишь, когда ты уже перестал быть Свидетелем Иеговы, я твердо заявила, что теперь никто не может помешать праздновать Рождество. Мы с помощниками ночью нарядили для тебя елку, натолкали под нее кучу подарков и всюду развешали гирлянды с огнями. Помнишь? Ты помнишь, какие подарки были под елкой? Должен помнить — множество водяных пистолетов! Я знала о твоей страсти к этой игре в «обливалки» с водяными пистолетами, воздушными шариками, наполненными водой и даже ведрами воды.
Под елкой лежали пистолеты и автоматы для целой команды, чтобы было весело. И ведь было!
А подарок в виде слона? Что можно подарить человеку, у которого есть все? Все, да не все, в твоем зоопарке слона не было, а благодаря мне появился! Ларри Фортенски недоумевал:
— Это же обуза! Слона надо кормить и обслуживать.
Что взять с Ларри? Он живет по правилам, считая, что слонам не место на частных ранчо. С ним оказалось скучно…
Майкл, как же мне тебя не хватает!.. С тобой мы бы посмеялись над такой «заботливостью» моего неудачного седьмого супруга.
Слона я подарила в ответ на твой подарок к моему дню рождения. Ты как всегда оказался выдумщиком. Помнишь?
Я не устраивала пир на весь мир, были только близкие, а потому дурачиться не возбранялось.
Твои руки непривычно пусты. Когда это Майкл приходил в гости, тем более, на день рожденья без подарка?
Ну как тут ни подурачиться? Я схватилась за сердце:
— Майкл, где мой подарок?!
Ты развел руками, загадочно улыбаясь. Но играть, так играть.
— Как, ты не принес мне никакую побрякушку?! Неужели ты не заметил множество ювелирных магазинов по пути?! О! ты не мог так поступить со мной!.. — Я заламывала руки, словно показывая пародию на плохой театральный спектакль.
Вы с помощником исчезли на некоторое время, а потом вернулись. Красивая коробка, но явно великовата для какого-нибудь ожерелья или колечка. Какая женщина устоит? Я с любопытством разворачивала оберточную бумагу.
В коробке изящная сумочка из титана в виде слона, седло у которого украшено драгоценными камнями, а ручка у сумочки — янтарные бусы. Очаровательно, вполне достойно подарка Майкла Джексона!
Но дома меня ждал еще один сюрприз — огромный телевизор, такой большой, в половину стены. Я поняла, что это есть твой настоящий подарок, потому ты загадочно улыбался. Ой, как было стыдно!.. Тогда и возникла идея подарить в ответ живого слона на радость тебе и детям. Получилось, слон стал любимцем в твоем зоопарке.
Кажется лишь вчера ты выступал подружкой невесты у Лайзы Минелли… Помнишь, Майкл? Заметив, что женщины замешкались, а шлейф подвенечного платья Лайзы уже ползет по проходу в церкви и на него легко могут наступить, ты подхватил ткань и важно нес этот шлейф большую часть пути невесты к алтарю. Мартина МакКатчен опомнилась нескоро, а потом еще и долго не решалась отнять у тебя «добычу»! Лайза потом хохотала, что такой «подружки», как у нее, не было еще ни у кого в мире!
Хорош шафер, без тебя Лайза точно осталась бы без платья. Думаю, большинство гостей не возражали, но сама невеста гордилась своим нарядом, как и всей роскошной церемонией. Тогда казалось, что это самая крепкая и счастливая пара в мире.
Если честно, то несчастной была только я, особенно когда увидела фотографии. Конечно, пришлось промолчать, чтобы не подсказывать остальным повод для сожаления, но я выглядела настоящей бабулей! Майкл, как я «сдала» за десять лет, прошедшие со времени собственной свадьбы с Ларри, где ты был моим посаженным отцом!.. Знаешь, какая это трагедия для женщины — понять, что ты состарилась и больше похожа на собственную бабушку, чем на себя саму.
Но не будем о грустном, ни к чему тебе мои проблемы старения…
Майкл, у нас было столько веселых минут, ты так добр ко всем, а ко мне особенно (добрее только к детям), ты такой замечательный, что я просто не могу помыслить, что не услышу твой голос в трубке, твой смех — тихий и загадочный, не увижу твою всегда чуть смущенную улыбку. Никто так не умеет делать подарки, дело не в стоимости, хотя они всегда дорогие, вся прелесть в том, что ты умеешь точно угадать, что человеку хочется.
Майкл, я схожу с ума — разговариваю с тобой, словно ты сидишь в кресле напротив и тихонько хихикаешь, слушая мои рассуждения. В последние годы мы редко общались, я болела (а когда было не так?), ты предпочитал жить подальше от Лос-Анджелеса, но я привыкла слышать твой тихий голос в трубке и не представляю, как смогу жить без этого. Иногда хочется закричать на весь Беверли-Хиллз: «Не-е-ет!!!». Думаю, не мне одной.
Знаешь, я обиделась на тебя всего лишь раз. Ты должен помнить тот случай. Помнишь? Чтобы выманить меня на Нью-Йоркский концерт в Мэдисон-Сквер-Гарден в честь тридцатилетия Джексонов в сентябре 2001 года, ты прислал в качестве приманки прелестное бриллиантовое колье, «забыв» упомянуть, что оно взято напрокат. Ничего страшного, я спокойно вернула бы колье, поскольку и сама часто брала драгоценности напрокат. И на концерт поехала не из-за побрякушки, а потому что поняла: для тебя много значит мое присутствие, если уж ты позаботился о том, что будет блестеть на моей шее.
Когда позже от меня потребовали вернуть колье, я обомлела. Оно не столь дорогое, каких-то 200 000 долларов, я вполне могла купить его себе или спокойно вернуть. Но то, как это было сделано, повергло в шок. Я прорыдала целый день! Майкл, ты мог бы позвонить сам и сказать:
— Элизабет, верни игрушку дядям, я взял её для показухи.
Мог? Я бы не обиделась. Но мне позвонили твои помощники, причем, не самые близкие, и не объяснили ситуацию, а почти ультимативно потребовали вернуть, словно я, воспользовавшись неразберихой, царившей после страшного 11сентября, тайком увезла колье в Беверли-Хиллз! Пока мы тащились через всю страну с Марлоном Брандо, ты мог хотя бы в шутку поплакать, что денежки за эти побрякушки еще не выплачены?
Я знаю, что ты надеялся заплатить сам, чтобы не вешать эту сумму на меня, но у тебя не получилось. Вот на это я и обиделась — ты не поделился проблемой, а скрыл её от меня. С друзьями так не поступают. Ты же не думаешь, что я люблю тебя за подарки?
Конечно, я простила дрянного мальчишку, но не сразу. Кто надоумил тебя написать покаянное письмо? Неужели сам догадался? Врешь, если бы ни Лайза с её алым подвенечным платьем и желанием с шиком отметить годовщину свадьбы, черта с два ты бы каялся перед старухой Элизабет. Что я для тебя?
Запомни, мой милый, я тебе самый верный друг! А не на всех судебных заседаниях была по двум причинам: во-первых, как всегда болячки и госпитализация, во-вторых, меня опасно пускать туда, я просто выцарапала бы глаза клеветникам, и тогда тебе пришлось сесть в тюрьму за компанию со мной, чтобы наши камеры были по соседству. Не осложнять же жизнь охране тюрьмы (им пришлось бы три раза в день выгуливать моих собачек, без которых я даже в тюрьму не согласна! и терпеть мои капризы), я не стала устраивать побоище в зале суда и показную истерику «Королевы Голливуда» тоже. Меня убедили просто сделать хлесткие заявления в прессе, как и в 1993 году.
Знаешь, я не уверена, что поступила правильно, может, все-таки следовало, как в интервью с Опрой Уинфри, шумно вмешаться? Но что было, то было, сделанного не вернуть.
Кроме того, я для прессы — ярая защитница геев, потому мое более активное заступничество могло навредить тебе.
Воспоминания привели к новому сердечному приступу, и я вынуждена была дать слово врачам, что не буду больше плакать, хотя, когда сказала, о чем, вернее, о ком плач, на глазах у медсестры тоже появились слезы, которые пришлось тайком смахивать.
Но действительно стараюсь не плакать, слезами Майкла не вернешь, а в моей (и не только моей) душе он живой, просто уехал куда-то, где очень плохая связь. Вот наладится связь, и он позвонит.
Я понимаю, что это не так, что ни ты, ни Монти Клифт, ни этот толстяк Брандо, ни мой Ричард Бартон уже не позвоните, что вы оставили меня на Земле пока еще мучиться. Знаешь, это страшно, но у меня впервые мелькнуло понимание, что я не хочу выкарабкиваться. Зачем? Дети давно выросли, у них своя жизнь, выросли даже внуки! Я не очень радуюсь, когда навещает кто-то из прежних подруг, они все выглядят куда лучше меня (хотя раньше мне и в подметки не годились!), а у старых приятелей слишком вытягивается лицо и в глазах мелькает сожаление при виде того, в какую развалину я превратилась. Потом, конечно, следуют комплименты: «Лиз, ты все хорошеешь! Время над тобой не властно!». Хочется спросить:
— Где вы видите Лиз? Здесь только старая больная Элизабет Тейлор. Но я еще жива!
Да, жива, хотя, если честно, не очень. Но тебе я могу в этом признаться, ты не болтун и никогда меня не выдавал.
Майкл, это помешательство — беседовать самой с собой?
Чем больше я размышляю, тем больше понимаю, что мы похожи, просто твой путь был более интенсивным, а потому коротким. А еще ты не научился выживать. Я не один раз бывала в состоянии клинической смерти, либо когда мне не гарантировали и нескольких дней, даже делала попытку суицида, но вот до сих пор жива. Может просто женщины более живучие? Или более живучая я сама?
Как бы то ни было, я есть на этом свете, а тебя нет.
Почему родилась наша дружба? Странный вопрос, разве не могут просто дружить мужчина и женщина, даже если их разделяют четверть века возраста?
Даже умница Опра во время интервью не удержалась и спросила, сделал ли Майкл предложение Элизабет Тейлор? Почему предложение, почему обязательно нужно идти под венец или становиться любовниками, если люди близки духовно. Именно духовно, это даже больше, чем душевно.
Почему Майкл? Я уже не раз отвечала на этот вопрос, могу сотню раз повторить. Мы похожи, очень похожи. Чем? У нас просто не было детства, наше детство — работа, причем, Майкл не видел даже того, что успела увидеть в детстве я, меня хотя бы до девяти лет растили как нормального ребенка, а он уже с пяти выступал.
О нас обоих говорили, что мы слишком взрослые, дети телом и взрослые душой и умом. Наверное, поэтому, получив все, что только можно пожелать, мы снова впали в детство каждый по-своему. Банальная, всем известная истина, но это так.
Карусели Неверленда сродни моей коллекции драгоценностей, для меня это тоже игрушки. Став взрослыми, мы пытались наверстать то, что пропустили в детстве.
Размышляя над нашим сходством и различиями, над причиной странной для многих дружбы, я невольно переосмыслила и свою жизнь тоже. Всегда не хватало времени, чтобы над ней задуматься. Мама бы сказала иначе: «Стареешь». Неужели это и впрямь признак старости?
Ничего подобного, у меня еще многое впереди! Недавно услышала фразу, что только на краю пропасти человек понимает, что не все хорошее может быть впереди… Это не про меня.
Впервые за последние годы я встретила человека, который понял меня и которому я не буду помехой — Джейсона Уинтерса. Вернее, встретились мы давно, Джейсон мой старинный поклонник и уже многолетний друг. Опра Уинфри зря переживала из-за возможности нашей с Майклом свадьбы, мы похожи, но Майкл скорее мой сын, приемный сын, в качестве мужа я его никогда не представляла. Муж это совсем другое. И любовник тоже. Нет, Майкл — это Друг, именно так, с большой буквы.
И Джейсон тоже друг (кстати, он моложе Майкла), но совсем иной. Майкл мой друг оттуда, из детства, хотя годится мне в сыновья, он словно олицетворяет одну половину меня, а Джейсон другую. С Джейсоном спокойно и надежно, в качестве любовницы я уже никуда не гожусь, что за любовница в ортопедическом кресле, но побеседовать со мной еще вполне можно. И капризов тоже не занимать.
Зачем я Джейсону? О, бог мой! Уже вылито несколько цистерн помоев, огромных таких, какие бывают в боевиках, с утверждениями, что Уинтерс охотится за моими миллионами. Идиоты! Он купил мне дом на Гаити (классное местечко!) и предложил в брачном договоре отказаться от любой моей собственности, кроме мелких безделушек, которые я подарю на память. А еще он смеялся, что я его переживу и смогу произнести речь на его могиле. Это было жестоко, пришлось кинуть в него тем, что подвернулось под руку, разбила хорошенькую статуэтку и вазу, в которую ею попала.
— Джейсон, в следующий раз стой на месте, а не уворачивайся, чтобы не пришлось собирать осколки ваз!
— В следующий раз я встану сзади, чтобы у тебя не было возможности кинуть.
Майкл, как ты думаешь, мы уживемся с таким человеком? Мне почему-то кажется, что да.
А еще… я раскрою тебе секрет, который пока знает только Уинтерс (узнал нечаянно): я пишу записки, да-да, вот эти самые. Пишу и прячу. Уинтерс сказал, что, когда мы вернемся домой, написанное будет лежать в сейфе и никто ничего не узнает, он проследит. Джейсону можно верить, я ему верю.
Зачем пишу? Просто надо выговорить, чтобы не держать свою боль внутри, она разрывает сердце. Если я вдруг начну твердить все это вслух, отправят даже не в клинику к Бетти Форд, а куда похуже.
Во-вторых, я вдруг осознала, что моя жизнь тоже не вечна. Смешно, ты смеешься, Майкл? Понять, что жизнь не вечна развалине, у которой от макушки до пяточек не найти не оперированного клочка тела? Да, представь себе! Я всегда считала свои смертельные болезни недоразумением природы, а сейчас вдруг поняла, что эти недоразумения все же способны свести меня в могилу.
Это к чему? К тому, что мне пора немного задуматься, как жила и подвести кое-какие итоги.
Я не жалуюсь, даже на тело, которое просто сводит с ума своей хрупкостью и живучестью одновременно. Я не жалуюсь на жизнь, хотя и она меня обижала. Я была счастлива, несмотря ни на что, я люблю эту жизнь, даже находясь на больничной кровати или в ортопедическом кресле, даже под капельницей или на операционном столе со вскрытым черепом (бывало и такое), я все равно люблю её и желала бы продлить как можно дольше!
Я хрупкая ваза? Мне ничего нельзя (даже моих любимых жареных цыпляток есть запретили!)? Значит, будем продолжать жизнь, лежа. Кстати, я неплохо смотрюсь в ортопедическом кресле и в постели тоже! Я живучая, я немыслимо живучая.
Знаешь, пришла страшная мысль, что стоит вспомнить всю мою жизнь, и она внезапно закончится. Но даже если это так, я готова снова пережить радости и печали, счастье и горе, у меня было столько хорошего, что оно перевесит. И я все равно не собираюсь умирать, не дождетесь! Хорошо, что у меня хорошие дети и не сидят в соседней комнате в ожидании, когда я окочурюсь, чтобы поделить наследство. Они против только одного: чтобы меня похоронили рядом с Бартоном в Уэльсе. Правда, и Бартон похоронен совсем не там, его противная вдова не выполнила последнюю волю Ричарда (и будет за то проклята, во всяком случае, мной!).
Знаешь, Майкл, а может, рядом с тобой? Правильно, ты же позволишь мне улечься рядышком? Я буду вести себя прилично, а охрана кладбища станет по ночам сидеть, клацая зубами от страха, и слушая нашу болтовню, вернее, твои тихие смешки и мой откровенный хохот. Представляю такую картину! Решено, если не разрешат рядом с Ричардом, улягусь рядом с тобой. Извини, если это произойдет нескоро, я не тороплюсь. Ты же знаешь, я способна опоздать даже на собственные похороны (это идея — завещать, чтобы гроб с моим телом доставили на церемонию с опозданием!).
Ох, Майкл, шутки со смертью плохи и неприличны, но что еще остается старой женщине, похоронившей стольких любимых людей? Придет и мой черед, все там будем, еще никто на Земле этого не избежал, во всяком случае, я с такими не знакома. Может стать первой? Нет, вечность — это, пожалуй, скучно, но с десяток лет (а потом еще десяток, и еще…) я согласна помучиться.
Пришел Уинстерс и сообщил, что можно ехать домой. Надолго ли? В госпитале за мной даже закрепили любимую палату…
Жизнь продолжается, пусть и в ортопедическом кресле!
Даже в нем есть свои плюсы — никто не сможет потребовать: «Принеси то, принеси это!». Что я вру? От меня такого никто не требовал. Это все кокетство, хотя, кокетство для старой развалины, наверное, не позволительно? Плевать! Я не старая (всего-то…, а вот не скажу сколько, мне всегда мало лет!) и не развалина (у меня столько послеоперационных швов, что они просто не дадут развалиться моему телу!).