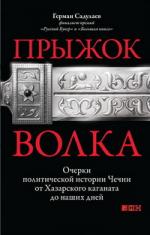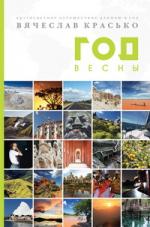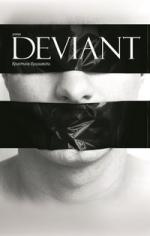- Издательство «Альпина нон-фикшн», 2012 г.
- Не секрет, что среди сотен национальностей, населяющих Российскую Федерацию, среди десятков «титульных»
народов автономных республик чеченцы занимают особое
положение. Кто же они такие? Так ли они «злы», как намекал Лермонтов? Какая историческая логика привела
Чечню к ее сегодняшнему статусу? На все эти вопросы
детально отвечает книга известного писателя и публициста Германа Садулаева. «Прыжок волка» берет свой разбег от начала Хазарского каганата VII века. Историческая
траектория чеченцев прослеживается через Аланское
царство, христианство, монгольские походы, кавказские
войныXVIII–XIX веков вплоть до депортации чеченцев
Сталиным в 1944 году. В заключительных главах анализируются — объективно и без предвзятости — драматические
события новейшей истории Чечни. - Купить книгу на сайте издательства
Мы начинаем рассматривать политическую историю
Чечни. И чрезвычайно важно правильно определить
точку отсчета, нулевую координату, от которой мы
поведем свое повествование.
В Средние века у летописцев существовал обычай
любую свою книгу начинать от сотворения мира.
Даже если предметом летописи были, скажем, годы
царствования Федора Блаженного, монах все равно
начинал так: вот был сотворен мир, потом случился
потоп, потом патриархи, пророки, родоначальник династии,
и родился Федор, и в таком-то году вступил
на царствование — и далее подробно.
Это интересно и по-своему правильно, но едва ли
уместно в нашем случае. Слишком раннее начало будет
сильно попахивать «древними украми» и прочими
курьезами «альтернативной» истории. Мне не кажется
научным подход, при котором «историки Чечни»
заводят речь об Урарту, Ассирии, Египте и пр., стараясь
вывести корни чеченского племени из какой-то уважаемой древней цивилизации. Это очень похоже
на заказную генеалогию, но к науке прямого отношения
не имеет. Я совершенно убежден, что современная
Чечня не является наследницей ни Урарту,
ни Симсима, ни Ассирии или Атлантиды.
При этом весьма вероятно, что предки чеченцев
имели отношение к той или иной древней цивилизации.
У всех народов были какие-то предки, и все они
имели какое-то отношение к той или иной древней
цивилизации. Если этнос сейчас живет, значит, у него
были предки, и они жили во времена Рима, к примеру.
И, весьма вероятно, имели к Риму какое-то отношение
(во времена Рима трудно было жить где-то в Империи
или недалеко от ее границ и не иметь к ней
никакого отношения). А если не к Риму, так к Китаю
или к чему-нибудь еще.
Но это ничего не прибавляет к нашим знаниям
об этносе, о Риме или о Китае.
Все роды и все племена людей одинаково древние.
Все жили на этой планете, на этой земле испокон веков.
Никто не прилетел с Марса. Генетики говорят,
что все ныне живущие люди — потомки одной небольшой
группы людей, вышедшей миллионы лет назад
из Африки. Мы все родственники. А верующие знают
из своих Писаний, что все мы произошли от Адама
и Евы. Так о какой сравнительной древности того
или иного племени можно говорить?
Определять источник и вести от него происхождение явления имеет познавательный смысл, только если в существующем явлении сохранились
какие-то черты источника, какая-то общая основа,
структура — только в этом случае знание об источнике
помогает нам пролить свет на суть явления.
Что сохранилось в Чечне, например, от Урарту?
Какими нитями они связаны?
Ничего, никакими.
Поэтому вопрос о доисторических и раннеисторических
корнях чеченского общества следует считать
закрытым: чеченцы, как и все остальные народы, произошли
от других людей, современные — от древних.
Всё. Прошу эту тему больше не обсуждать, наводящих
вопросов автору не задавать и не спорить без нужды.
С другой стороны, начинать историю Чечни
с кавказских войн, как это свойственно многим российским
историкам, тоже неправильно. Когда Россия
пришла воевать с Чечней, и Россия, и Чечня уже
были — иначе войны бы не случилось. Следовательно,
чеченские общества имели свою историю, в том числе
и политическую, задолго до столкновения с Россией.
Я определил точку отсчета политической истории
чеченского общества 650 г., годом образования Хазарского
государства.
Хазария
В 603 г. могущественное Тюркское ханство (Кёктюрк —
«небесные тюрки») распалось на Западное и Восточное.
В 630 г. в Западном ханстве началась затяжная
междоусобная война за престол между различными ветвями правящей династии Ашина. Война развалила
Западное ханство (каганат), на его обломках возникли
новые образования — Булгария в Причерноморье
и Хазария в Прикаспийских степях. Это случилось
где-то в середине VII в., так что 650 г. — дата условная,
но общепринятая.
О первом хазарском хане (кагане) ничего не известно.
Впрочем, и о втором тоже. И вообще о Хазарии
практически ничего не известно, а что известно
— непонятно, как истолковать и вписать в общий
исторический контекст.
Хазарии посвящено множество исследований,
но, пожалуй, почти все, что мы действительно знаем,
укладывается в одну короткую статью из БСЭ (Большой
советской энциклопедии):
Хазарский каганат, раннефеодальное государственное
образование, возникшее в середине VII в.
на территории Нижнего Поволжья и восточной
части Северного Кавказа в результате распада
Западно-Тюркского каганата. Столицей Хазарского
каганата до начала VIII в. был г. Семендер в Дагестане,
а затем г. Итиль на Нижней Волге. Во2-й половине
VII в. хазары подчинили часть приазовских болгар,
а также савиров в прибрежном Дагестане; Албания
Кавказская стала данницей Хазарского каганата.
К началу VIII в. хазары владели Северным Кавказом,
всем Приазовьем, большей частью Крыма, а также
степными и лесостепными территориями Восточной
Европы до Днепра. В 735 г. в земли Хазарского
каганата через Каспийский проход и Дарьял вторглись арабы и разгромили армию кагана. Каган и его приближенные приняли мусульманство,
которое, однако, получило распространение только
среди части населения каганата. В1-й половине VIII в.
часть хазар Северного Дагестана приняла иудаизм.
Основным видом хозяйственной деятельности
населения Хазарского каганата оставалось кочевое
скотоводство. В долине Нижней Волги развивалось
земледелие и садоводство. Столица каганата Итиль
стала важным центром ремесла и международной
(в том числе транзитной) торговли. В ДоноДонецком
междуречье в связи с переселением туда
части северокавказских алан возникли оседлые
поселения. Началось складывание раннефеодальных
отношений. Фактическая власть в государстве
сосредоточилась в руках местных хазарских и болгарских
феодалов, а каган превратился в почитаемого,
но безвластного владыку.В течение VIII в. у Хазарского каганата сохранялись
прочные отношения с Византией, что способствовало
распространению христианства. Ей было разрешено
создать на территории Хазарского каганата
митрополию, в которую входило 7 епархий. В конце
VIII — начале IX в. ставший во главе каганата Обадия
объявил государственной религией иудаизм. В конце
IX в. Северное Причерноморье захватили печенеги
и изгнали (895 г.) зависимых от Хазарского каганата
мадьяр к Дунаю. Византия, заинтересованная в
ослаблении каганата, начала натравливать на хазар
окружавших их кочевников. Но главной силой,
противостоявшей Хазарскому каганату, стало
Древне русское государство. Еще в IX в. русские дружины проникли в Каспийское море. В913–14 и 943—
44 гг. русские войска проходили через Хазарию
и опустошили Каспийское побережье. В60-х гг.
X в. русский князь Святослав Игоревич совершил
поход на Волгу и разгромил Хазарский каганат.
Были разорены города Итиль, Семендер, захвачен
город Саркел. Не имела успеха попытка хазар
во2-й половине X в. спасти положение с помощью
Хорезма. В конце X в. Хазарский каганат перестал
существовать.
Мы еще вернемся к увлекательным подробностям
истории Хазарского государства. Но прежде я попытаюсь
ответить на вопросы: почему Хазария? Почему
именно образование Хазарского каганата я считаю
началом политической истории Чечни? Что общего
у средневековой Хазарии и современной Чеченской
Республики?
Во-первых, территория. Нет сомнений, что Хазария
возникла на землях нынешней Чечни и Дагестана.
Впоследствии Хазарский каганат распространил свое
влияние на обширную зону от Северного Причерноморья
до Поволжья и от Закавказья до Руси, но сердцем
Хазарии долго оставался Северный Кавказ, отсюда
«пошла есть» хазарская земля, здесь была первая
столица Хазарского каганата — город Семендер.
Во-вторых, население. Этнический субстрат. Да,
говорить о «древних чеченцах», которые жили на Кавказе
до нашей эры и формировали население Урарту
и прочих доисторических государств, мягко говоря,
ненаучно, но к
народ, то некоторое вайнахское (или протовайнахское)
этническое сообщество — и об этом можно
с уверенностью говорить, основываясь на данных
истории, этнографии, археологии и лингвистики. Протовайнахское
сообщество жило на территории современной
Чечни, то есть на землях Хазарского каганата,
в самом его центре. И совершенно естественным образом
предки вайнахов стали частью населения Хазарии,
важной частью, одним из основных хазарских
племен. В этом нет никаких сомнений.
В-третьих, матрица. Как семя баньяна содержит
в себе полный «проект» дерева, так в истоке любого
явления всегда можно найти его особые и характерные
черты. Мне видится, что в реалиях Хазарского
каганата были заложены многие установки на века,
сохранившие свою актуальность для Чечни и доныне,
через тысячу лет после исчезновения Хазарии. Некоторые
из таких парадигм видны невооруженным
взглядом, другие только чувствуются интуитивно,
многие еще предстоит понять и познать. Например,
именно в Хазарском каганате началась совместная
жизнь в одном федеративном государстве предков
современных чеченцев и предков современных русских.
От времен Хазарии ведет свой исток казачья
народность, сыгравшая столь важную роль в чеченской
истории. Под скипетром кагана формировалась
современная этническая картина Северного Кавказа.
И многое еще можно было бы увидеть, если бы мы
больше знали о Хазарии.
Семендер
Как это часто бывает, на наследие великих городов, государств
и цивилизаций претендуют сразу несколько
«родственников покойного». Большинство дагестанских
историков отождествляют древний Семендер
с городищем Тарки, находящимся неподалеку от Махачкалы,
столицы современной Республики Дагестан.
В 1991 г. жителям поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент
были выделены участки для строительства жилья
в районе новой автостанции. В память «о первопрестольной
своих предков» дагестанцы назвали
поселок Семендер. Так что теперь у нас есть современный
Семендер в Дагестане прямо у Махачкалы.
Но локализацию старого Семендера вряд ли можно
считать окончательно установленной. Тарки —
только одна из версий. Есть еще несколько гипотез:
в Дагестане много развалин. Но самая интересная
версия — это отождествление Семендера с городищем
на территории Шелковского района Чеченской
Республики. Здесь, рядом со станицей Шелкозаводская,
обнаружены развалины большой крепости
со стенами из самана, керамика, оружие и другие
археологические находки. Находки случайные, специальной
археологической экспедиции до сих пор
не было: городище обнаружили в конце
было долго не до археологии. В последние годы,
после установления мира и спокойствия развалинами
Семендера снова заинтересовались. В 2009 г. на грозненском
телевидении был проведен «круглый стол» историков, писателей, журналистов о возможном
историческом открытии — локализации Семендера
в Шелковском районе Чечни. Все, в общем-то, высказывались
за, говорили, что это интересно и здорово.
Но, насколько мне известно, дальше и глубже научные
исследования предполагаемого Семендера с тех
пор так и не продвинулись.
Создается впечатление, что чеченское руководство
и чеченское общество сегодня не вполне понимают,
что им делать с таким неожиданным подарком
истории, как хазарское наследство. С одной стороны,
почетно и добавляет нелишние пять копеек в копилку
национального самоуважения. С другой стороны,
сомнительные это родичи — хазары; про них говорят,
что они были иудеи, мы как раз встраиваемся в арабомусульманский
культурный ландшафт, а у арабов
с государством Израиль какие-то негармоничные
на текущий момент отношения. В общем, непонятно,
чего ждать от такого правопреемства, добра или худа,
для современной Чеченской Республики.
Поэтому не торопятся с исследованиями, с выводами
и с громкими заявлениями.