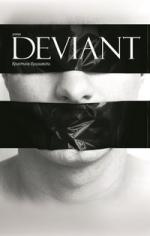- Издательство «Рипол классик», 2012 г.
- Главные герои книги — Георгий и Маша, знакомы много лет. Они молоды, красивы, энергичны, обаятельны, умны и перспективны. Они по-настоящему любят друг друга, мечтают о свадьбе и «большеглазых карапузах». Конечно же все это у них будет, сразу после того как они реализуются, достигнут высот карьеры и так далее, и так далее…
Или не будет?
Кристина Хуцишвили по образованию экономист, с 18 лет писала статьи для деловых изданий. На конкурсе деловой журналистики «PRESSзвание» в номинации «За освещение важнейших событий в экономической жизни страны» она занимала второе место. Кристина знает мир бизнеса изнутри, и восхождение ее героев на пьедестал успеха — это реальный сценарий современных яппи (англ. Yuppie, Young Urban Professional — молодой городской профессионал).
В тот момент, когда герои достигают вершин профессиональной карьеры, и кажется еще чуть-чуть, и можно предаться простому человеческому счастью, жизнь вносит свою правку: Георгий оказывается болен СПИДом. Он уезжает в Нью-Йорк. Сначала, чтобы тихо умереть, не причиняя боли родным, затем, чтобы обрести душевные силы на борьбу и надежду.
Маша остается в Москве и пытается найти себя в творчестве. Она тележурналист, который видит много интересных успешных людей, разными способами достигших успеха.
Герои живут параллельно в разных городах, но продолжают стремиться друг к другу.
Создается контраст между деловым повествованием о законах бизнеса и глубоко личными описаниями взаимоотношений героев. Особую пронзительность им придает форма повествования: переписка, все письма которой за исключением одного, никогда не дойдут до адресата.
Любовная линия проходит сквозь годы жизни героев и строки в контексте серьезных вопросов: поиск себя и своего места в мире, мировой кризис и классическая тема «лишнего человека».
«Deviant» написан языком деловой молодежи, которая с легкостью оперирует экономическими терминами и английскими словами, но лишен едкого цинизма, поэтому роман — универсален, его будет интересно читать и девушкам и молодым людям.
Я сейчас могу признать — я всю жизнь, всю свою жизнь до последнего времени любил ставить эксперименты над людьми. Я не расставлял ловушки, люди обычно сами очень глупо попадались. Началось все с детства, когда родители водили меня в самые разнообразные гости.
Иногда они предупреждали заранее — не веди себя так-то и так-то, будь осторожным с тем-то, на такой вопрос ответь «нет, спасибо», вежливо. Доходило до смешного — я был очень маленький, в подготовительном проводили елку, все дети выстраивались в очередь, чтобы получить конфеты. Я тоже выстоял очередь, постоянно переминаясь с ноги на ногу, получил эти конфеты, при этом каждую минуту чувствовал себя неуместным, мне было неудобно стоять, неудобно брать из рук Деда Мороза эти конфеты. Не потому, что я не любил сладости, просто был уверен, что родители этого не оценят. Кажется, я так и оставил их на каком-то стуле. Спустился вниз в гардеробную, оделся, подошел к маме с папой, которые с другими родителями что-то оживленно обсуждали. Мама между делом поинтересовалась, почему у одних есть конфеты, а у других нет, но это было упомянуто вскользь и всего на секунду. Но эта история скорее не о них, а обо мне, правда, это чувство неуклюжести во мне все-таки они зародили.
Они сами попадались на вранье, на пересудах. На самом деле, я сейчас не могу точно и дословно описать ситуацию, но то, что я ненавижу больше всего до сих пор — это обсуждение шепотом, когда человек только-только отошел. Это невинное кухонное лицемерие — у масштабных людей его не бывает, мне тогда казалось. Не знаю, но просто у талантливых — сплошь и рядом. Тут дело, к сожалению, не в статусе, интеллигентности и положении. Наверное, это что-то близкое к тому, что называли мещанством. Говорю по ощущениям, точного значения я никогда не мог уловить.
Но потом я стал умнее родителей, начал играть в свои игры, несравненно более изощренные. В юности мне казалось, что цинизм есть самое правильное отношение к жизни, мода в этом вопросе шла со мной в ногу.
Эксперимент, наблюдение, эти инструменты познания, я употреблял их, для того чтобы изучить людей. Оставим гуманизм — я уже говорил, что с гуманизмом жить очень неудобно, он сковывает сильнее, чем все вместе взятые рамки приличия, на которые жаловалась Маша. Не буду оценивать сейчас, хорошо или плохо я тогда поступал. Так вот, мне казалось, что я изучаю поведение людей в естественных условиях, и ничего, что этому предшествует некоторое их моделирование. Какое-то время я, как и любой подопытный зверек, вел себя хаотично, меня невозможно было образумить и направить, более того, опасно было попадаться у меня на пути. Сейчас мне приходит в голову, что было бы эффективнее наблюдать за своим собственным поведением в тех условиях. Я бывал не на шутку взволнован, тревожился, радовался, чуть не прыгал от радости, а дело касалось житейских, в общем-то, вещей, людей, может, и не посторонних, но не всегда особенно мне близких. Меня многое задевало, и хоть я и стремился стать толстокожим, это не изменилось. К моей чести. А эта мысль — методичного изучения себя, скорее всего, правильная. Более того, сейчас я нахожусь в идеальных условиях. Жизнь поставила меня в центр такого эксперимента, что поначалу и не верилось. Но животные привыкают к самой тесной клетке. Все мы предпочитаем жить, а продолжительное саботирование жизни противоречит нашей сути. Все очень просто. Надо попробовать записать результаты изучения объекта «Я». Наблюдение, эксперимент… Наверное, своим цинизмом я больно задевал Машу.
Как прекрасны эти женщины, которые не дают нам стать полубогами, превращая нас в отцов семейств, в добропорядочных бюргеров, в кормильцев; женщины, которые ловят нас в свои сети, обещая превратить в богов. Разве они не прекрасны?
Разве не правда?
Кто хочет удержать, тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить — того стараются удержать. Ремарк «Жизнь взаймы».
Чистая правда.
* * *
12 марта 2008 года
E-mail
To: George
Я изъясняюсь кратко, меня этому научила жизнь. Время — деньги. Поначалу ты — никто. Не в минус — в ноль. Ты нечто неизведанное. Ты заговариваешь, а значит, требуешь к себе внимания. Что же это означает? Почти ничего. Мы не знаем, кто ты. Наши ресурсы ограничены. Время стоит денег. Мы уделим тебе минуту — ты заплатишь не слишком высокую цену. Просто представь нам ядро, самую суть, что кроется в этом ядре. У тебя есть целая минута. Первые секунды мы будем слушать тебя очень-очень внимательно. Цени это.
Но если не сможешь оправдать ожидания, выдержать пристальный взгляд, смалодушничаешь, то пеняй на себя.
Но ты сможешь, конечно, сможешь. Что тебе этот кусочек, это ядрышко, оно в твоих глазах дорого, но на самом деле ничего не стоит. Конечно, это просто тренировка, будут еще сотни таких. Сотни дискретных шажочков — пока не научишься, а потом и большой куш не заставит себя ждать.
А может, сорвешь джек-пот? С кем не бывает. Мы же в тебя верим, а это не пустой звук.
Но будь осторожен. Каждый твой шаг зиждется на предыдущей победе. А победы — ну ты ведь знаешь, эта песня стара как мир, — товар скоропортящийся. А старые победы, даже смешно говорить, так это навязло на зубах — товар еще какой сомнительный. Так что надо бежать, нельзя останавливаться. Можешь, не можешь — надо бежать. То, что ты делал вчера — мрак, минуту назад — никому не нужно и не интересно.
Беги, и лучше беги быстрее — другие тоже бегут, это конкуренция. И я бегу, уже который год, и ненавижу себя за те минуты, когда все-таки приостанавливаю бег, — чтобы перевести дух. И я бегу, и на бегу изъясняюсь самым лаконичным и исчерпывающим образом. По-другому нельзя, дыхания не хватает. Итак, я бегу и изъясняюсь кратко. Я видела разные кошмары. Но мне редко бывало страшно. Я помнила слова одного, может, совсем обыкновенного псевдоинтеллектуала, вряд ли он был чем-то большим. Тем не менее, посвятил полжизни гуманитарным наукам. Так вот — сон есть спасение от себя самого. Убежище, чтобы самому себе не надоесть. Ну и как же во сне может быть страшно? Разве что, если не можешь дышать. Но такое сплошь и рядом в реальной жизни.
Сохранено: в черновиках
* * *
12 октября 2008 года
Москва
Мы строим планы на будущее и не думаем о том, что завтра может не наступить. Мы бьемся о железные брусья, дивясь тому, что получается именно так, как мы хотели. Мы живем так, как будто это будет длиться вечно.
Экономя себя, мы скупы на слова, делаем вид, что не умеем влюбляться, даже интересоваться людьми. Конкурируем с теми, без кого не можем жить. Нас посещают шальные мысли, когда что-то не получается, мы садимся в Бентли купе вшестером, едем 200, выезжаем на встречную. И остаемся живы. И живем дальше: пьем шампанское, снимаем женщин, решаем вопросы.
Добившись того, что мы признаны, успешны, играем жизнью, до конца не веря, что не все подчинено нашей воле. Мы теряем разум, становимся одинаковыми, банальными, самодовольными и, в сущности, жалкими и жестокими. Или иначе. Остаемся людьми, даем шанс другим, учимся доверять заново. Но все равно несемся наперегонки с жизнью.
Моя первая попытка написать. И да, пошло. В каждой строчке «я» — самодовольный болван. Но все это правда, по факту. А если серьезно — не важен формат, не важен стиль. И пора перестать глумиться над собой, потому что через это — ничего не меняется, и я опять хочу нравиться всем, признавая свою слабость или прочее. А я не хочу и уже давно. Если серьезно…
я очень далек от того, чтобы казаться, ведь меня почти что и нет, а для многих — и нет вовсе. Мне не нужно ничего доказывать, самоутверждаться и придумывать себе жизнь. Я не делал этого даже тогда, когда имел возможность. Все нормальные люди хотят судьбы, и глупо придумывать истории, когда время бежит сквозь пальцы.
Таков непреложный закон: тот, кто тратит время на иллюзии, должен знать — судьбы не будет.
Что сделать, когда тошнит от самого себя?
Мы не вечны. И в самый неожиданный момент великий маэстро может взмахнуть палочкой… И ты уже не сможешь сказать ей то, что всегда хотел. Ты просто не сможешь произнести, и столько времени будет потеряно зря.
Все эти ссоры, проверки, оттягивания, боязнь будущего, расставания во имя смутных перспектив. И зачем была нужна так называемая свобода? Что ты будешь делать с ней теперь.
Ты не нужен ей, она теперь способна лишь на презрение и жалость; твоим друзьям, с кем ты бежал, опережал, падал, но всегда поднимался и непременно был лучшим, им тоже не до тебя. Даже самым лучшим, самым сильным из них. Даже тем, кто был искренне за тебя. Пойми, ты ломаешь привычные схемы. Принять тебя сегодняшнего означает принять то, что все люди смертны. Что твой дом может сгореть, дети вырастут чудовищами, право выбора, глупые фразы вроде «качества жизни» в одночасье могут исчезнуть. И ты останешься один на один с собой. И тебя охватит отчаяние.
Впрочем, оно сменится мужеством, когда страдания будут казаться нестерпимыми. Но это и не мужество вовсе, а эгоизм. Не играй с ним. Ты — не мученик. Мученичество — во благо людям. Ты ведь не молишься за них, да и сам грешен, но не более, чем все вокруг. За что же ты страдаешь?
И жалость к себе заливает осколки мужества, ты же до сих пор не наложил на себя руки, просто потому что трусишь, а вовсе не из-за сострадания к ним. Только они остались тебе верны, только в них ты можешь быть уверен; знаешь, что у них на глазах слезы, но дрожь в голосе они старательно скрывают. Ради них ты иногда хочешь исчезнуть. Хочешь, чтобы тебя как можно быстрее забыли после твоей смерти. Ты позорное пятно, из-за тебя после них не останется никого. Из-за тебя на них до конца жизни будут показывать пальцем.
Ты ведь больше всего боялся, что узнают они. И был готов на все, — но ничего нельзя скрывать вечно, а смерть не скроешь вовсе. Иногда ночью, когда особенно больно, кажется, что тебе снова семнадцать, ты идешь с ней за руку по аллее от Университета, она улыбается, у нее красивые длинные волосы, ямочки на щеках. Она очень светлая. Самая красивая, неожиданная, яркая. Если мог, ты забросал бы ее осенними листьями, но боишься показать, насколько она тебе симпатична. Вы смеетесь, ты искоса смотришь на нее. Рядом паркуется семерка BMW и мальчики с соцфака окидывают вас взглядом свысока, но даже в нем не скрыт интерес к ней. И высокомерное недоумение по отношению к тебе, мальчику в рубашке и самых простых брюках, с сумкой через плечо.
В тебе в тот момент нет ни капли зависти: у тебя есть она, твоя Маша, и у тебя есть голова. И у вас есть будущее. И ты ее никому не отдашь: вы получите диплом, сразу поженитесь, ты подаришь ей два кольца — одно попроще — на каждый день, другое — с самым большим бриллиантом, на который тебе только хватит денег. И встанешь на колени, наденешь его на аккуратный пальчик, сделав усилие, чтобы твои собственные пальцы не дрожали предательски. Ты будешь работать весь последний курс, чтобы у нее была такая свадьба, о которой не могли и мечтать все ее подруги, богатые девочки, которые, искренне радуясь за вас, пустят не одну слезу на вашем празднике. Она будет самой красивой невестой. Потом ты поступишь в магистратуру, на менеджмент, будешь учиться вечером и по субботам. Ей придется учиться днем, — ты ведь не хочешь, чтобы она разрывалась между работой и учебой, пусть делает что-то одно. Маша должна высыпаться, правильно питаться, и тогда она будет такая же веселая и счастливая. Навсегда твоя.
К концу учебы ты купишь ей белый Lexus, нельзя же позволить ей ездить на каком-нибудь Opel или Ford. Эта девушка достойна самого лучшего. Вы будете жить у тебя. Твои родители от нее без ума — они видели, как ей вручали студенческий, ты положил на нее глаз уже тогда. Она живая, искренняя и трогательная. И при этом очень красивая, с трудом отбиваясь от поклонников, в делах она серьезна, собранна. Ей нужно начинать с нуля, ее отец, бизнесмен средней руки, попал в неприятную историю, уехал из Москвы. Ей было 12. Больше они не виделись. Сначала он звонил, потом реже, потом просто отправлял деньги через Western Union, потом забыл.