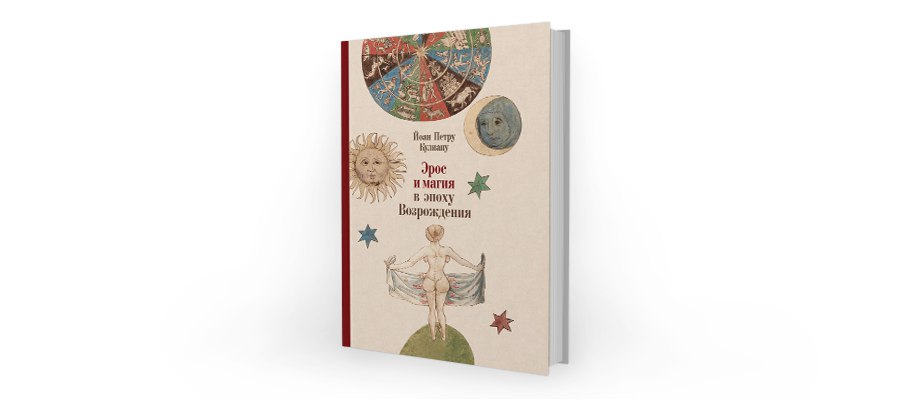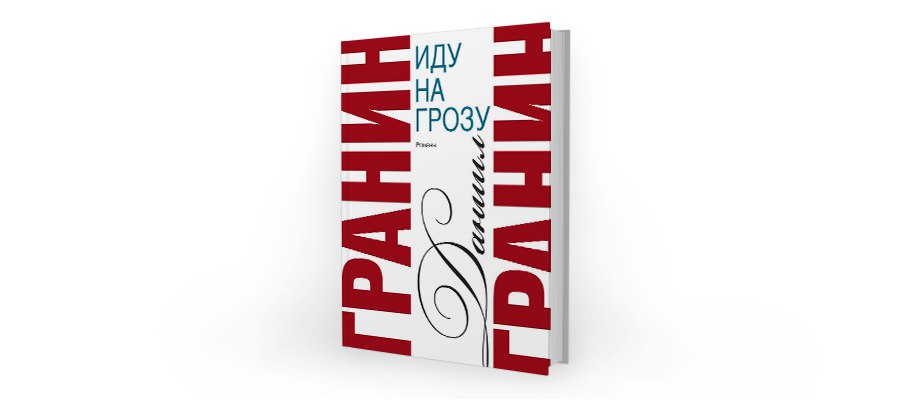- Ксения Букша. Рамка. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. — 288 с.
Ксения Букша — автор книги «Жизнь господина Хашим Мансурова», сборника рассказов «Мы живём неправильно», биографии Казимира Малевича, а также романа «Завод „Свобода“», удостоенного премии «Национальный бестселлер». Новое произведение «Рамка» — вызывающая социально-политическая сатира, настолько смелая и откровенная, что ее невозможно не заметить. Она сама как будто звенит, проходя сквозь рамку читательского внимания. Не нормальная и не удобная, но смешная до горьких слез — проза о том, что уже стало нормой.
11. Органайзер говорит
Я… в целом… знаете… никогда не думал работать на систему. Но меня всегда интересовали эти вещи — планирование, нормирование… у меня есть внутренняя склонность к этим делам. И поэтому неудивительно, что в какой-то момент я занялся вот этими вот вещами… этими разработками… ну, словом… по встроенным планировщикам. Это было в тренде, а я, можно сказать, занялся этим одним из первых. Я был молод, мне хотелось успеха, я побывал в Кремниевой долине, тогда я был, знаете, в этой идеологии молодых двадцатилетних миллионеров, я мог бы и сам стать одним из них, если бы тогда, если бы в тот момент… меня не купила, да, эта вот тогда ещё просто отечественная корпорация, и я… я принял по сути верное количественно, но неверное качественно решение… И вот с того самого момента дороги назад уже не было, но я этого ещё долго-долго не понимал… Мне казалось, что… (Органайзер закрывает лицо руками).
Спокойно, — Боба. — Мы уже поняли, что вы падший ангел.
Не ссы! — добавляет Вики. — Ну я тоже всяких упырей свадьбы играю — и чё, не жить?
Органайзер поднимает голову.
Н-да… ну, видите же, вот, живу… Вообще говоря, я действительно не кривя душой могу сказать, что я и вправду стремлюсь, хочу нормировать людей. Вам может это показаться отталкивающим. Но я действительно верю в рациональный план, я так привык, иначе просто не умею, но в этом есть не только недостатки, но и достоинства, и если бы я в какой-то момент не начал планировать, то, возможно, я бы просто…
В целом я осознал, насколько можно бездарно потратить жизнь, если не заниматься планированием и нормированием своих показателей… да… когда мне было одиннадцать лет. За год до этого мой отец, он ушёл из семьи, ну и… он практически перестал присутствовать в моей жизни. Вернее, как… Он делал так, он договорился с матерью, что он будет приходить и забирать меня на выходных, на один день, по сути, на несколько часов, и где-то как-то проводить со мной это время. Но в реальности всё происходило совершенно иначе, всё происходило так, что он обещал позвонить утром, и я садился у телефона… Вот, знаете, мы жили в коммунальной квартире с матерью, и телефон у нас был один, естественно, общий, это ещё далекие девяностые годы, такой чёрный телефон с диском ещё… и вот на этой, значит, скамеечке я и сидел… примерно с десяти утра я занимал эту позицию, ну и вот так в целом весь день я мог просидеть, потому что отец… он мог вообще не позвонить, и тогда выходной у меня проходил даром, или он мог позвонить в пять, скажем, вечера и сказать, что он сегодня не сможет, или что он задерживается, и снова нужно ждать неизвестно сколько. Сами понимаете, что гаджетов тогда никаких не было, и вот эта ситуация, от раза к разу повторяющаяся, она меня несколько…
Заебала, — подсказывает Алексис. — Знакомая херня.
В целом на меня повлияло вот это, я сам этого даже не замечал в те времена, но потом я понял, особенно когда вырос, я понял, что во многих ситуациях я склонен реагировать так же, как отец… И поэтому, если мне не создать для себя и других какое-то по сути подобие железной сетки, которую я должен наложить на всю свою жизнь, на себя самого, то тоже буду вот так тратить чужое и своё время, и жизнь, она у меня просочится как каша сквозь пальцы, я ничего не сделаю, ничего не построю, ничего не создам.
А вы что-то создать хотите? — дядя Фёдор.
А да, а конечно, а как же! А вы не хотите ничего создать? По-моему, каждый человек, каждому из нас свойственно чего-то хотеть, вот только весь вопрос в том, что по сути очень мало кому удаётся свои возможности соизмерить и свои ресурсы все правильно… а-а… правильно их вложить, бросить, что ли, именно в тот котёл, где они… где они будут работать максимально эффективно…
Теперь о моей разработке… Я не претендую на какую-либо её оригинальность или… на то, чтобы она была моим собственным изобретением… конечно, я позаимствовал её у… авторов, которые занимались вплотную данной проблематикой… но, как все, кто пользуется подобного рода системами, я, конечно, значительным образом её кастомизировал, то есть подогнал, так сказать, под нужды нашего, ну, вы понимаете, под особенности того рода деятельности… которым я, простите, занимаюсь уже более десятка лет — нормирование граждан… Но ведь я пользуюсь ею и сам, а это значит, что я хлебаю кашу из общего котла, и это показатель того, что я честен…
В основе её лежит матрица, вот — вы можете видеть здесь, чип состоит из трёх частей, которые могут поворачиваться относительно друг друга — я задаю много разных параметров здесь, в этих клетках, и система сама выдаёт мне результат. Многим, кто только начинает ею пользоваться, кажутся абсурдными некоторые из её советов, например, когда она планирует за вас, во сколько точно вам, там, например, ходить в туалет и сколько времени вам стоит там провести за этим занятием, это многим сначала кажется абсурдным, и только потом ты начинаешь понимать, насколько многофакторный этот анализ… Если ты вводишь действительно все требуемые показатели, то есть если ты действительно по сути не боишься доверить ей в целом все стороны жизни своей, включая, там, вплоть до самых… то ты начинаешь понимать тогда, что такое по-настоящему помогающая система. Ведь в целом это не просто система, которая, там, экономит твоё время как-то, она ещё и создаёт, ну, ситуацию энергосбережения, причём такого, как ты сам решил, как ты сам занесёшь в эту программу, так и будет — вот пожалуйста, хочешь, нужно тебе — авральщик ты — нужно тебе не спать несколько ночей, да она тебе всё рассчитает, пожалуйста, там, банки энергетика, сколько тебе надо, и она тебе, что важно, скажет, где твой предел — а хочешь, поставь на режим, там, отпуска или энергосбережения, или режима плодотворной работы, пассивного отдыха, здесь столько функций, что… тут можно учесть ровно всё, что у тебя вообще есть. Но только да, важно, к этому, да, нужно относиться уже серьёзно, раз ты уже начал это делать — то имеет смысл просто идти до конца с этим делом, иначе просто смысла нет, иначе ты просто ну не создашь такого уровня заточенности, такого уровня сложности, который даст тебе те преимущества, которые эта система в целом может дать, и на который она рассчитана…
…вот знаете, я однажды… ну, был очень расстроен… это, как ни странно, была тоже ситуация, связанная с расставанием… и я — ну, как это бывает — ну, пустился, так сказать, во все тяжкие, это было, конечно, смешно, забавно… но что интересно — я и сам не знал, я не помнил, что там происходило, но когда я вернулся к системе, она предложила мне всё, что происходило, считать… она всё рассчитала, и я увидел нормальную кривую, сколько… в общем, что я вам хочу сказать, равновесие на самом деле… когда долго уже работаешь с этой системой, то понимаешь такую одну странную вещь… что равновесие, оно никогда не может быть нарушено, что не бывает вообще такого, чтобы нарушался как-то порядок… это можно только закончить, прекратить, вы понимаете, о чём я… но выскочить ты уже никуда не сможешь. Если есть жизнь, то есть и норма, если жизнь есть, то она нормальна… вот эту вещь, эта вещь — она им и недоступна… и вот эту вещь когда начинаешь понимать, то от этого понимания ты довольно долго… это серьёзные всё вещи, когда говоришь об этом, надо понимать, что ты сразу говоришь и… по сути… это и стало причиной того… что я тоже оказался не очень-то нужен им с моей разработкой. Им, как оказалось, нужна не норма, норма для них слишком сложна, им нужно на самом деле то, что хуже, чем норма… на самом деле — им нужна не норма, а безумие… и так я лишился сначала бОнусов, а потом и крЕдитов, и докатился до того… до того, чтобы…
Органайзер замолкает. И чип в его виске мерцает, остывая. Солнце уже давно не заглядывает в сахарницу даже искоса. Часы Николая Николаевича показывают шесть.