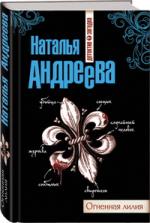Отрывок из романа
О книге Андрея Рубанова «Живая земля»
К часу ночи они дошли до тридцать третьего этажа.
Снаружи Денис был покрыт пылью, под комбинезоном — обливался потом. Пыль была везде. Тонкая, как пудра, она плохо пропускала свет фонариков. Шедший первым Глеб ставил ногу на очередную ступень лестницы — и поднималось новое облако невесомой дряни. Таня двигалась второй, часто сбивалась с шага, делала много лишних движений, каждое из них — неловкое касание стены или перил либо чрезмерно старательный удар подошвы по цементному полу — взметывало обильные и плотные вихри пыли. Денис был замыкающим, ему доставалось больше всех.
Перчатки насквозь промокли и почернели, очень хотелось их снять и почесать запястья, но Денис знал, что ладони его под перчатками такие же черные, как сами перчатки. Он не хотел, чтобы Таня видела его грязные руки; она презирала неопрятных людей.
Перчатки стоили приличных денег — толстые, льняные, купленные в магазине народного кооператива «Все свое». Скользкая их ткань не нравилась Денису, он предпочел бы иметь такие перчатки, как у Глеба Студеникина: хлопковые. Китайские. Контрабандные.
Но в России хлопок не растет, и хлопковая одежда была Денису не по карману.
Он поймал себя на том, что в уме называет Глеба по фамилии, и немного устыдился. Все-таки лучшего друга лучше называть по имени. И вслух, и в уме.
Хотя Таня, например, всегда называет Глеба только по фамилии. «Не сходи с ума, Студеникин». Впрочем, женщин вообще трудно понять.
И потом, подумал Денис, наблюдая, как Глеб мерно переставляет ноги со ступени на ступень, еще неизвестно, чем закончится эта дружба. Друг никогда не уведет у тебя девушку. А Глеб увел. Взял и увел девушку Таню у своего друга Дениса. Он, Глеб Студеникин, уведет любого и любую.
Ладно, ему виднее. Он старше. Против Дениса Глеб Студеникин — взрослый мужчина двадцати пяти лет. Это по паспорту, а на вид ему все тридцать. Есть даже морщина на лбу.
А у Тани все наоборот: она смотрится девочкой, малолеткой; кукольное личико, так и хочется сказать «глазки» вместо «глаза». Или «носик» вместо «нос». Но попробуй скажи; «девочка» сузит «глазки», сверкнет ими и выдаст что-нибудь свое, какую-нибудь домашнюю заготовку — у нее низкий грудной голос, и она умеет им пользоваться — и ты в лучшем случае поперхнешься и покраснеешь.
Глебу хорошо, он не умеет краснеть, Танины фразочки его не трогают. Или трогают, но он не подает виду.
Денис смотрит на спину Тани; комбинезон на два размера больше, чем надо, но Таня перетянула его ремешками — на талии, под коленями, под грудью, и возле щиколоток, она выглядит замечательно.
— Стоп, — выдохнул Глеб, останавливаясь. — Тридцать пятый.
Таня тут же присела на ступени, вытянула ноги.
— Тебе пора, — сказал ей Глеб. — Отдохни две минуты и возвращайся.
Таня посмотрела на спутников — сначала на одного, потом на второго, причем, как ревниво отметил Денис, чуть дольше задержала взгляд на лице Студеникина — и рассмеялась.
— Весело тебе, да? — сурово спросил Глеб.
— Да, — призналась Таня. — Если б вы себя видели! Вы такие серьезные — обхохочешься. Настоящие мачо. Суровые парни, покорители мира…
По обычаю каждый из троих освещал фонариком собственное лицо — Глеб и Денис, как все мужчины, делали это небрежно, снизу, Таня же старалась подсвечивать чуть сбоку, чтобы хорошо выглядеть. В Москве давно не было уличного света, зато фонари, продаваемые в магазинах народного кооператива «Все свое», стоили дешево, весили мало и служили долго.
— Малыш, — сказал Глеб, — я не шучу. Все шутки остались внизу.
Денис промолчал.
Он бы тоже хотел сказать ей: «малыш». Хоть один раз. Но она не прощала «малыша» даже Глебу. Считала прозвище пошлым и вдобавок слишком интимным. Альковным.
Женщины, философски подумал Денис, в пятый раз проверяя замок на поясном ремне. Женщина всегда делает вид, что презирает пошлость, а потом хоп — видишь ее в ресторане, раскрасневшуюся, в компании какого-нибудь разложенца, жуткого пошляка; она совершенно пошлым образом закидывает ногу на ногу и хохочет над самыми наипошлейшими шутками кавалера.
— Да, — сказал он Тане, выдавая отрепетированную «скупую улыбку». — Мачо или не мачо, но тебе пора.
Глеб втянул носом воздух. Нос его, подсвеченный снизу, выглядел дико: дважды сломанный, крючковатый, с длинными, узкими, подвижными ноздрями.
Таня молчала. Лицо Глеба сделалось словно деревянным.
— Во-первых, — тихо сказал он, — мы договаривались. Доходим до тридцатого, и ты возвращаешься. Ты обещала. И мне, и ему (он посмотрел на Дениса; тот кивнул). Во-вторых, наверху тебе просто нечего делать. В-третьих, ты все равно не дойдешь, потому что неправильно двигаешься. Я говорил, что надо ставить на ступень только мысок (Глеб подсветил себе фонариком и показал) и напрягать икроножную мышцу. А когда икра устанет — ставить уже всю ступню, и напрягать переднюю поверхность бедра. И еще — активнее работать ягодицами…
— Не учи меня, — грубо ответила Таня, — работать ягодицами.
— Хорошо, — благосклонно произнес Глеб. — Не буду. Но сейчас — возвращайся. Пожалуйста.
Таня сменила тактику: сложила губки бантиком и посмотрела снизу вверх, льстиво-умоляюще. У гордых людей такие взгляды не получаются, и у нее не получилось.
— Послушай, — миролюбиво сказал Глеб. — Наверху ничего нет. Грязь, битое стекло и дерьмо. Кошки дохлые… И так — семьдесят пять этажей подряд. Наверху у нас заберут груз, дадут денег — и все, мы пойдем назад.
— Знаешь что, Студеникин, — спокойно сказала Таня. — Пошел ты в жопу!
Развернулась и зашагала вниз.
Глеб хлопнул Дениса по плечу и крикнул:
— Я не могу пойти в жопу!
Таня не обернулась. Глеб хмыкнул и добавил:
— Я уже там!
Таня ничего не ответила, дисциплинированно светила себе под ноги.
Студеникин подождал, пока звук ее шагов затихнет, и хрипло пробормотал:
— Баба с возу — ей же хуже.
— Хорошо, что в лифт не послала, — сказал Денис.
— Она не будет посылать меня в лифт, — сказал Глеб. — Она не настолько груба.
Потом они несколько минут молчали, восстанавливали дыхание. Готовились. Выпили по два глотка воды.
— Держи обычную скорость, — хриплым полушепотом учил Студеникин. — Сто пятьдесят ступеней в минуту. Вся дистанция — десять минут, полторы тысячи ступеней. Сто лет назад люди с такими результатами взбегали на «Эмпайр стейт билдинг» и были чемпионами. Но они были спортсмены. Шли не отвлекаясь, а главное — без груза. Да и строили тогда по-другому. Толщина перекрытий была больше, потолки — ниже. И меньше ступеней на каждом марше. Мы с пацанами для прикола как-то съездили в Бутово, зашли в старый лужковский дом. Там — всего восемь ступеней на каждый марш, и сами марши очень крутые… То есть ты понял, да? Сто лет назад люди были физически сильнее, а лестницы — круче.
— Люди были круче, — сострил Денис.
— Что?
— Люди, говорю, были крутые, и лестницы тоже.
— Крутые? — переспросил Глеб. — Не знаю. Не уверен. Мир был злее, а люди — добрее. Это во-первых. Во-вторых, нас с тобой тогда не было. Ты не видел тех людей, я тоже. Правильно?
— Да, — сказал Денис.
Глеб сплюнул и выключил фонарь.
— Наши пацаны, — сказал он, — круче тех спортсменов. Наши таскают по двадцать килограммов, делают по три рейса за ночь, причем до семидесятого этажа идут спокойно, а дальше делают резкий рывок на пятнадцать — двадцать маршей…
— Зачем?
— Так надо. Ты не болтай, лучше дыши. И пульс проверь. В нашей команде рекорд — сто килограммов балабаса за ночь. На одного. Иногда берем заказы на всю бригаду, например — тонну дизельного топлива. Разливаем по канистрам — и пошли, группами по пять — семь человек. Но это редко. Кто посерьезнее, у кого постоянная клиентура — те в одиночку работают или в паре…
— Как ты, — сказал Денис.
— Я? — Студеникин хмыкнул. — Я, брат, таскаю балабас уже девять лет. Мне давно пора завязывать. Ты как, продышался?
— Еще минуту.
— Не торопись; время есть. Дыши спокойно. И слушай внимательно. Это плохая башня, тут много народу. Но до сороковых этажей проблем не будет. Пойдем спокойно, без спешки. Дальше придется без фонарей. Я вставлю инфракрасные линзы, а ты держись прямо за мной. После сорок второго пойдут дурные уровни, бестолковые. Сплошные сквоты, молодежь, наркоманы, балбесы всякие, случайные любители приключений и прочие идиоты. Грязь, вонь, везде обоссано, постоянно костры жгут… Дымно, дышать нечем… Те места никто не любит. В смысле никто из моей команды. Понял?
— Понял, — сказал Денис. — А сколько людей в твоей команде?
— Примерно тридцать пацанов, — после паузы ответил Студеникин. — Старший — Хобот, ты его знаешь. Мы держим три башни. Эта, еще «Ломоносов» и «План Путина». Но люди часто меняются. Обычно пацан приходит на три месяца, на полгода, денег заработает — и отваливает. Кого-то патруль ловит. Кого-то скидывают…
— Куда? — спросил Денис.
— Вниз, — сухо сказал Глеб. — Поймают, отберут балабас — и выбрасывают. В окно.
— И часто… ловят?
— Зависит от башни. Наши дома тихие, спокойные. Тут мы теряем двоих-троих в год. Самая опасная башня — «Федерация». Особенно седьмой пояс. Люди бьются каждый месяц. Но там у каждого серьезного пацана — нанопарашют. Очень полезная штука. Размером с фильтр от сигареты. Стоит бешеных денег, зато жизнь спасает. Суешь его в карман — и пошел. Поймают, выкинут из окна — а у тебя парашют в кулаке зажат…
— Черт, — сказал Денис. — Почему ты раньше не рассказывал?
Глеб усмехнулся.
— Во-первых, ты не спрашивал. Во-вторых, пока человек сам не взялся за рюкзак, ему все знать необязательно.
— А у тебя есть такой парашют?
— Нет, — сказал Студеникин. — Я не собираюсь всю жизнь балабас таскать. Накоплю сколько надо — и завяжу. Но ты не перебивай, а слушай. После сорок пятого уровня будет труднее. Там всякие мелкие негодяи, гопники, тухлые притоны — в общем, неприятно, но не смертельно. Могут крикнуть что-нибудь или камнем кинуть. Эти места мы проходим на средней скорости. Там все пропитые и прокуренные, даже если кто погонится — не выдержит и десяти маршей. Но останавливаться нельзя, ни в коем случае. Кого-то увидишь — не обращай внимания. Если что-то скажут или крикнут — не отвечай. Схватят за рукав или плечо — бей сразу, не глядя, ногой, рукой, головой, чем получится, — и ускоряйся. Ясно?
— Да.
— Повторяю первое правило: от любой угрозы уходим вверх, и только вверх.
— Я знаю, Глеб. Ты сто раз повторял.
— Ты слушай, слушай. Испугаешься, пойдешь вниз — догонят. Пойдешь вверх — не догонят никогда. Без тренировки ни один гопник не выдержит ускорения на пятнадцать маршей вверх… Даже не гопник, а любой крепкий человек, даже некурящий, даже спортсмен — не выдержит, потому что бегать вверх — это дело хитрое…
— А если андроид? — спросил Денис. — От него еще никто не убегал.
— Во-первых, убегал, — ответил Глеб. — Человек от любой машины убежать может. Потому что он жить хочет, а машина — вообще не живет. Во-вторых, андроиды тут не водятся. На пятидесятых живет мелкая шушера, козлы всех мастей, им андроиды не по карману. Не та публика. В-третьих, ты когда в последний раз андроида видел? Даже государственного? Они давно на складах хранятся. В резерве. До лучших времен. Все обесточены.
— Говорят, не все.
— Конечно, не все, — согласился Студеникин. — Некоторых используют для спецопераций. Говорят, Емельяна Головогрыза именно андроиды брали. Но здесь ты их не увидишь. Клоны есть, да. Раз в год встречаю. Плохие клоны, низкого качества. Кустарные. Дебилы кривые. Не то что бегать — ходят с трудом. В основном тут баб клонируют, сам знаешь для чего. Клоны стареют очень быстро, ими год-два пользуются, а потом выгоняют, и они бродят по этажам, грязные, голодные… Смотреть страшно. Потом попадают под облаву, их вывозят в резервации, там они подыхают тихо, вдали от людей… А андроидов — нет, никто из наших ни разу не видел.
Некоторое время Студеникин молчал, потом произнес:
— Только, говорят, на резервных складах андроидов давно нет. Всех продали по-тихому. За границу. Русские андроиды ценятся. Они как автоматы Калашникова — дешевые, простые и безотказные. Ты знаешь, допустим, что в литиевой войне между Чили и Боливией бились пять тысяч русских андроидов, причем с обеих сторон?
— А ты там был? — иронично осведомился Денис. — На литиевой войне?
— Не был, — спокойно согласился Глеб. — Но я телевизор смотрю. В отличие от тебя. Это вы, интеллектуалы, телевизором брезгуете. А я — простой парень. Ни папы, ни мамы, рванина детдомовская… Я телевизор смотрю. Нулевой канал. Конечно, там вранья много, всякой дешевой пропаганды, но иногда такое видишь, что не захочешь — поверишь. Вчера показывали реального американского андроида, на запчасти разобранного, а какой-то профессор пальцем тыкал и объяснял, что американский боевой андроид в сильный дождь воевать не идет, потому что защита срабатывает. А при минус пятнадцати по Цельсию у него зависает операционная система. И еще — ему нужна обязательная ежедневная диагностика. Русскому тоже нужна, но американский дурень без диагностики сражаться не может, а русский — может…
— Тебе виднее, это ты у нас патриот, — сказал Денис, подкидывая дровишек в их старинный спор, длящийся уже три года.
— Дальше слушай, — раздраженно рекомендовал Студеникин, не поддавшись на провокацию. — Шестидесятые уровни — мертвая зона. Там — никого, но места опасные. Повторяю второе правило: твоя территория — только лестница, на этаж заходить нельзя. То есть ты понял, да? Поссать, передохнуть — только на лестнице. Даже если на этаже кто-то будет ребенка расчленят, или баба голая пальцем поманит — это не твое дело. И вообще, это может быть подстава, голограмма. Третье правило — не приближайся к окнам. Есть стекло или его нет, разбито — к внешней стене не подходи. Пролетит патрульный вертолет, увидят — сразу расстреляют. А могут и ракетой шарахнуть. Без суда и следствия…
— Понял.
— И четвертое правило: прошел седьмой пояс — ставь свечку. На семидесятых мы ускоряемся по полной программе. Там самое трудное. Там сидят отмороженные. Беглые уголовники, наркомафия и так далее. Чаще всего наши пропадают именно на семидесятых. За пять литров воды пацана могут на части порезать. Выстрелов не бойся, если человек бежит по лестнице вверх — в него почти невозможно попасть. Максимум — срикошетит от стены или от перил. Держись ближе к стене, при повороте с марша на марш отталкивайся плечом и бедром. Следи за дыханием. Хуже всего — если засада. Сейчас есть популярная новинка, какой-то гад изобрел: натянут, суки, нить из нановолокна поперек марша — и ждут. Нитку глазом не видно, толщина — десять микрон, а выдерживает она десять тонн веса. Бежишь — и вдруг тебя пополам перерезает, ноги налево, руки направо… Или, если нитка на уровне шеи, голова падает, а сам ты дальше побежал, навроде курицы… Но это я так, страсти нагоняю. У нас тут народец дремучий, я не слышал, чтоб кто-то на нитку напоролся. Вот «Федерация» — это душегубка, там в прошлом году пятеро на нитку попали. Одного вообще на пятьдесят кусков развалило…
Глеб замолчал, включил фонарь, посветил в лицо Денису. Хочет понять, испуган я или нет, подумал Денис и заслонился ладонью.
— Пройдем семидесятые — можно расслабиться. Дальше до самого верха безопасно. Только на восемьдесят шестом будет проблема, там один марш взорван. Кто-то с кем-то воевал. Когда траву сожрали и начался реальный голод, люди обвинили во всем китайцев и пошли громить сотые этажи. Китайцы, понятно, сбежали, но не все, кто не успел — защищался. Я несколько раз ходил на «Чкалов» — там все уровни выше девяностого сожжены дотла. Был такой Виктор Саблезуев, захватил милицейский вертолет, целый день летал и ракетами пентхаусы расстреливал. Пока его не сбили…
— Знаю, — сказал Денис. — Слышал. Только он не захватывал вертолет. Он сам был офицер милиции.
— Не важно. Короче говоря, сейчас выше семьдесят восьмого никого и ничего нет. Только свои пацаны. У многих наших там склады и тайники. В районе девяностых.
— А у тебя есть тайник?
— Есть, — сказал Глеб. — И не один. И тайники есть, и схроны. Но это не твое дело. Готов?
— Готов.
— Тогда пошли.