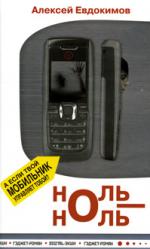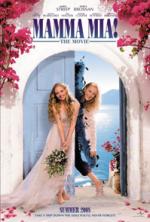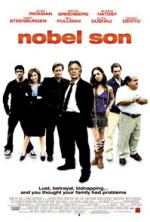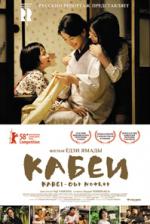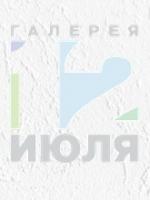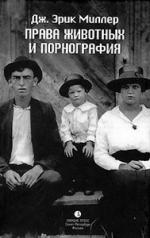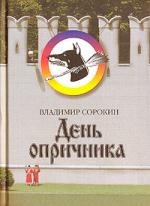Софья Андреевна Миллер
Средь шумного бала, на маскараде в Большом театре совершенно случайно граф Алексей Константинович Толстой попался на крючок, закинутый другому.
Дело было в Петербурге в январе 1851 года.
Толстой — по долгу придворной службы - сопровождал государя-наследника, как бы инкогнито замешавшегося в толпу. Но приотстал, будучи окликнут одним знакомым. Фамилия знакомого была Тургенев. Человек, в общем-то, чужой, но не виделись давно, встрече обрадовались, остановились у колонны поболтать.
К ним подошла молодая дама в домино и под черной маской. Стройная, голос красивый, грудной. Принялась Тургенева, как это называлось, интриговать. Игра такая типа: маска, я тебя знаю! Всякий фамильярный французский вздор.
Стало интересно — шутя условились увидеться еще раз, в другом месте, — и через день увиделись.
Тургенев, как бы невзначай обронивший, в какой гостинице стоит, получил по городской почте записку: дескать, если, m-r Тургенев, вам угодно продолжить знакомство, то адрес такой-то, спросить Софью Андреевну Миллер, пью чай в пятом часу; если хотите, возьмите с собой вашего молчаливого приятеля. Он сел на извозчика, поехал к Толстому, застал его дома — и они отправились. Поднялись по лестнице, позвонили в дверь квартиры, отдали прислуге шубы, вошли в гостиную. Давешняя незнакомка встала им навстречу — теперь без маски.
— Что же я тогда увидел? — горестно вопросил Тургенев, рассказывая эту историю через много лет в гостях у другого Толстого (Л. Н.). Выдержав комическую паузу, сам и ответил с комической же грустью: — Лицо чухонского солдата в юбке!
И другие современники упоминают, что Софья Андреевна была собой нехороша. Но тут же прибавляют: зато стальной ум, непогрешимый литературный вкус плюс четырнадцать иностранных языков (не знаю, кто считал).
Так что, хотя разговор за чаем оказался приятным удивительно, Иван Сергеевич не влюбился. Влюбился Алексей Константинович. И чуть ли не той же ночью, усталый, не прилег, как обычно, а сочинил стихи для пения по радио:
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид…
ДУРНО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
А Иван Сергеевич и Софья Андреевна увиделись потом еще раз — наедине. О «Записках охотника» и пьесе на Малом теат? ре потолковали подробно. Иван Сергеевич разнежился, даже выдал (на несколько дней, с возвратом) только что переписанную копию «Месяца в деревне». После чего переключились на литературу вообще, и Тургеневым уже пущен был в дело томик Монтеня, всегда находившийся под рукой (для первого тет-а-тета некоторые страницы — самое то).
Но что-то не срасталось. Тургенев сетовал потом: «Из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который меня свел с вами и которым я так дурно воспользовался…»
Вероятнее всего, просто-напросто струсил. У него был приятель Григорович — автор «Антона-Горемыки», знаменитого гуманного романа, болтун и сплетник. И этот Григорович про эту m-me Миллер (в девичестве Бахметеву) знал, как выяснилось, буквально все. Соседкой по имению была в Пензенской, что ли, губернии:
«Отец умер. У Sophie трое братьев, сестра. Прожились. Мать старалась не только сбыть ее, но продать. Не выходило. Князь Вяземский — не тот, не тот! — сделал ей ребенка. Брат ее вызвал князя на дуэль, но брата этого сослали на Кавказ. Возвратившись оттуда, написал Вяземскому письмо: не приедете драться — публично оскорблю. Князь приехал и убил его на дуэли, за что сидел в крепости года два. Sophie тем временем вышла за некоего Миллера — ротмистра, конногвардейца. Тот был влюблен безумно, она же терпеть его не могла и скоро бросила. Как чепчик за мельницу, mon cher, как чепчик за мельницу!»
Моральный облик несколько зловещ вышел. С непредсказуемым ротмистром на заднем плане. Главное же — грубое какое-то лицо.
И Тургенев не поехал за рукописью. Другого же никакого ни предлога, ни случая не представилось более никогда.
РОМАН С ПЕРЕРЫВАМИ
Зато у графа Толстого дела сразу же пошли на лад, как это видно из стишков, датированных тем же январем: «Пусто в покое моем. Один я сижу у камина, Свечи давно погасил, но не могу я заснуть, Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах, Книги лежат на полу, книги я вижу кругом. Книги и письма! Давно ль вас касалася ручка младая? Серые очи давно ль вас пробегали, шутя?..»
Никогда ни с кем ему не было так интересно. В его кругу, хотя было ему уже за 30, таких таинственных женщин не было ни одной. У него тоже была тайна, да некому было открыться: на самом-то деле по призванию он не чиновник, а художник!
Однако же покамест служил, и роман шел с перерывами. Свидание — письмо, свидание — письмо. Г-жа Миллер сохраняла суверенитет. Летом взяла и укатила из Петербурга в Пензенскую губернию, в Смальково, к своим.
Заскучав, совершила увеселительную поездку в Саратов — с подругой, с одним из братьев и с подвернувшимся Григоровичем. Который даже и на старости лет рассказывал всем, кому не лень было слушать, как он «употребил ее, когда она сидела на качелях». «Дорогой, — говорил, — употреблялись страшно, до изнеможения. Она была необыкновенно страстная и все просила нового».
Но тут будто бы случилось так, что он заболел и компания оставила его — в Нижнем, что ли. А когда он выздоровел, вернулся домой и оттуда помчался к Бахметевым, m-me Миллер встретила его прохладно и рассеянно. Была грустна, пожаловалась на слабость. «У ног ее сидел граф Алексей Константинович Толстой. Я не хотел мешать, и мы расстались».
ПОЧТИ ЧТО СЧАСТЬЕ
В тот летний день в Смалькове Софья Андреевна рассказала Алексею Константиновичу всю свою жизнь. Как человеку, которого любит, причем это горькое блаженство ей совершенно внове. И он понял, что не расстанется с нею никогда, потому что она без него пропадет, погибнет. А вместе они, наоборот, будут счастливы. Лишь бы она позабыла свое горькое, оскорбительное прошлое. Вдали от света, в сельской местности, наслаждаясь покоем, музыкой и литературой.
Отныне у него была одна цель.
И три препятствия: его мать, никому не позволявшая даже имени произносить ужасной женщины, погубившей Алешу; его придворная должность (наследник престола ни за что не хотел его отпускать; ну и Синод с ротмистром (точнее, уже полковником) Миллером.
Мать умерла, отставку дали, ротмистр не возникал, и Синод утихомирился. На все потребовалось 12 лет, протекшие не особенно весело. (Если не считать разных творческих успехов — «Князя Серебряного», проделок Козьмы Пруткова, «колокольчиков моих» «в день веселый мая».) Холодность Софьи Андреевны граф объяснял себе двусмысленностью ее положения, уязвляющей гордость, но все-таки немножко тосковал.
Хотя во время Крымской войны, когда он заболел в Одессе тифом и чуть не умер, она пренебрегла всеми условностями приличия — приехала. И он поправился, и они путешествовали по Крыму, и она казалась почти счастливой — или нет?
Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем.
Но юный плющ, виясь вкруг зданья,
Покрыл следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?
МУЧИТЕЛЬНО БЫЛО
В 1863-м наконец обвенчались — в Дрездене, в греческой церкви.
И следующие 12 лет прожили в состоянии, которое Тургенев оценивал так: «Кого тешит эта трудно и скучно разыгранная трагикомедия? Вопрос!» И прибавлял: «Жаль мне Толстого — как отличнейшего человека; как писатель — он ужасен…»
Положим, не ужасен: только наивен в сюжетах т. н. серьезных, т. н. исторических — про варягов и царей. Но что правда, то правда: хороший — храбрый, веселый, остроумный, великодушный был человек. Взрослые такими не бывают. Должно быть, какая-то фея наворожила, чтобы он навсегда остался мальчиком Алешей, героем детской сказки, написанной для него и про него родным дядей (согласно сплетне, родным отцом): «Черная курица, или Подземные жители».
Софья Андреевна с ним скучала. Зимой скучала в Европе, разоряясь на безумную роскошь (денег было больше, чем у всей остальной русской литературы), летом скучала в деревне (в имении Красный Рог в Черниговской губернии, где дворец и парк, необозримые леса). Звала его по фамилии: «Какие глупости ты говоришь, Толстой!» Он ее раздражал. Она даже не считала нужным скрывать от него, что ставит Тургенева как писателя много выше.
Алексей Константинович огорчался. К тому же здоровье стало ему изменять. Невралгия, астма, потом какая-то новомодная зона — это когда кожу по всему телу точно поливают кипятком. Неимоверные головные боли каждый день. Он стал ходить медленно, осторожно, боясь пошевелить головой, как будто нес на плечах непосильную тяжесть. А лицо сделалось постоянно багровое, все пронизанное толстыми синими жилами. В иные дни мучительно было на него смотреть.
И кто-то в Париже (говорят, Тургенев) присоветовал ему лечиться инъекциями морфина. Попробовал — резко повеселел.
В Париже жил один, на холостую ногу. Съездил с Тургеневым в Карлсбад. Устроили чтение — для заграничных русских — в пользу погорельцев города Моршанска. Имели успех, и Алексей Константинович написал графине: «Я был очень хорошо принят, не хуже Тургенева». И еще написал, что Тургенев про одну его балладу сказал: «прекрасная вещь».
А в другом письме из Карлсбада — не к ней:
«Тургенев выразил было мне желание, чтобы я сделал ему вспрыскивание, но потом на попятный двор. Надеюсь, что у него в непродолжительном времени заболит известное место и что я буду иметь случай избавить его от страданий».
Сам он к морфину так и пристрастился. И умер от передозировки. В 1875 году, пятидесяти восьми лет от роду. Дома, в Красном Роге. Заснул в кресле и не проснулся. Последние слова его были: «Как я себя хорошо чувствую!»
ПОКА ОН НЕ УМЕР
Софья Андреевна после похорон, распорядившись замуровать склеп наглухо ввиду «ненадежного и буйного характера местного населения», переехала в столицу и зажила наконец как ей хотелось. У нее в гостиной регулярно собирались по вечерам умные люди — поговорить, и влиятельные — послушать. Это называлось салоном графини Толстой, вошедшим в страшную моду, когда она завела — в последний раз — новое знакомство.
«Встретив моего отца, — вспоминает Любовь Федоровна Достоевская, — она поспешила пригласить его к себе и была с ним очень любезна. Отец обедал у нее, ходил на ее вечера, согласился прочесть в салоне несколько глав из „Братьев Карамазовых“ до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине во время своих прогулок, чтоб обменяться новостями дня. Хотя моя мать и была несколько ревнива, она не возражала против посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы…»
Он, между прочим, лет двадцать мечтал раздобыть огромную фотографию «Сикстинской Мадонны» — чтобы висела в кабинете. Так Софья Андреевна выписала ее из Дрездена.
Вообще — дружили. Он доверял ей свои мысли. В том числе самую важную: позволял ей знать вместе с ним, что он гений.
Какое письмо ей прислал про свой триумф — про эффект пушкинской речи. Как люди в толпе обнимали друг друга и клялись быть впредь «лучшими». Как одни дамы крепко держали его за руки, чтобы другие дамы могли их целовать. Как все плакали, «даже немножко Тургенев».
Примерно два с половиною года, пока он не умер, Софья Андреевна чувствовала смысл в своей жизни.
Потом опять все кончилось. Оставшееся время ушло на то, чтобы, не торопясь, сжечь в камине большую часть полученных когда-то писем, а из других ножницами аккуратно вырезать где фразу, где слово. Все лишнее, пустое, смешное.
Как, например, — Монтень. Мадонна. Качели. Ревность. Сострадание. Самолюбие. Самообман.
Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре,
О, не грусти: ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега…
Самуил Лурье