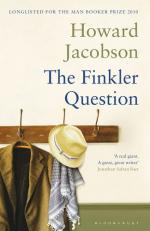Пролог к роману
О книге Андрея Степанова и Ольги Лукас «Эликсир князя Собакина»
В самом начале января 1905 года, поздним вечером, некий господин высокого роста, в длинном пальто, с зонтиком и в синих очках — совершеннейший человек в футляре — переходил Фонтанку по Обуховскому мосту. Дойдя до середины, он остановился и раскрыл свой широкий зонт. Сделано это было очень кстати: сверху начинал валить хлопьями снег, а внизу, по белой глади реки, уже вовсю мело; поднималась метель.
От Сенной площади до Главной палаты мер и весов, что на Забалканском проспекте, не было и версты, однако человек в футляре добирался туда не менее получаса: он не спеша обходил сугробы и, прикрываясь зонтом от ветра, внимательно оглядывал всех проезжавших конных. У здания Константиновского артиллерийского училища за ним пристроился ночной ванька, однако упорный пешеход на зазывания извозчика ничего не отвечал и продолжал упрямо месить калошами глубокий снег. Вскоре он свернул к трехэтажному дому с итальянскими окнами, стоящему торцом к проспекту, и нажал кнопку электрического звонка.
— Здравствуй, Михайло! — сказал он открывшему дверь пожилому служителю.
— Здравия желаю, ваше сиятельство! — ответил тот, низко поклонившись.
Сиятельный посетитель снял свои совсем не княжеские очки и тщательно их протер. Глаза у него оказались с хитроватым прищуром и в то же время с небольшой, но явной и несомненной безуминкой.
Служитель помог гостю развязать башлык и, с трудом согнувшись, освободил его от калош.
— Как там? — вполголоса спросил князь, указывая на дверь, ведущую во внутренние покои.
— Пишут-с, — шепотом сообщил Михайло. — С самого утра с формулой воюют. Говорили за обедом — больно рогатая-с вышла и никак сокращаться не желает. Оттого сердиты — страсть.
Гость улыбнулся:
— Ну, доложи!
Однако докладывать не пришлось.
— Левушка, ты? — послышался громкий голос из-за двери.
— Я, Дмитрий Иванович! — радостно откликнулся гость, входя в кабинет.
На диване сидел старик необыкновенно благородной наружности: длинные, ниспадающие до самих плеч серебристо-пушистые волосы, напоминающие львиную гриву, большая борода, высокий лоб. Он что-то писал, склонившись над крошечным столиком, хотя к его услугам был располагавшийся тут же огромный письменный стол.
— Бери мои папиросы, ты знаешь, что я чужого табака не люблю, — сердито сказал старик, не поднимая головы. — Покури пока что, мне тут еще минут на шесть работы… Михайло! Принеси Льву Сергеичу чаю.
Манера говорить у старика была своеобразная: он начинал фразу густым баритональным басом, но к середине вдруг сбивался на высокие нотки и заканчивал ее почти дискантом.
Служитель принес гостю кружку. Чай оказался черным, как кофе, и чрезвычайно сладким.
— И мне долей! — приказал хозяин.
Михайло долил доверху высокую чашку с крышкой и с поклоном удалился. Старик, не оборачиваясь, привычным движением швырнул окурок в стоявшее возле дивана ведро с водой и тут же достал новую папироску.
Гость тоже закурил и огляделся.
Обстановку кабинета составляли высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах и конторка для писания в стоячем положении, на которой лежала открытая тетрадь. В специальном стеллаже была аккуратно расставлены склянки для химических опытов, рядом гордо возвышался на треноге самодельный фотоаппарат. Центр большого стола занимала шахматная доска с расставленными фигурами — то ли недоигранной партией, то ли нерешенной задачей. Подле нее лежало несколько газет и блестел золотым обрезом заложенный на середине том — по-видимому, какой-то роман. Гость взял в руки книгу, посмотрел на ее название и усмехнулся: Эдгар Поэ, «Таинственные рассказы».
В этот момент старик бережно положил перо на столик, перечитал написанное и заключил довольным голосом:
— Ганц аккурат!
Затем протянул листок гостю. Тот взглянул на последние строки и восхищенно покачал головой:
— Поддалась! Поздравляю, профессор! Никогда не мог понять, как у вас все так изящно выходит.
— Еще бы она не поддалась! Терпение и труд! А я ведь тебя всегда учил этой премудрости: сокращать, сокращать и сокращать.
После победы над рогатой формулой хозяин дома явно пришел в хорошее настроение. Он встал с дивана и прошелся по комнате, разминая ноги.
— Все ли у вас благополучно, Дмитрий Иванович? — почтительно спросил ученик.
— У меня-с? Благополучие, Левушка, бывает только внутреннее. А за внешнее приходится незамедлительно платить. Вон орден очередной прислали, так теперь четыреста рублей за него вычтут из пенсиона.
Старик подошел к большому столу, взял картонную коробочку и, вытряхнув из нее какие-то гвозди и бумажки, извлек сияющий золотыми орлами и рубиновой эмалью новенький крестик ордена Александра Невского.
— Большая честь, — вежливо заметил гость.
— Че-есть! — тонким голосом протянул старик, небрежно кидая орден обратно в коробку. — Было бы что есть… Лучше бы деньгами дали. У меня, ты же знаешь, семеро по лавкам, а доходов — раз-два и обчелся.
— Я слышал, вам в этом году сулят премию Нобеля…
— Был такой слушок-с. Да только господа доброжелатели не учли, что я от Нобеля ничего не возьму. Пусть лучше немцу этому отдадут, как его… с бензолом…
— Фон Байеру? — догадался гость.
Старик рассердился:
— Что ты мне подсказываешь? Разве я сам не знаю?! Конечно, Байеру. Ты думаешь, я совсем из ума выжил? Вовсе нет, память у меня еще работает. Все помню! И герра Нобеля этого помню, и братцев его саблезубых. Да-с! Много они кровушки из нашей земли высосали. И еще бы больше высосали, если бы я им не ставил в колеса палки-с. А теперь мне от них премию! Ха!
Старик как-то всхрапнул, что, по-видимому, обозначало смех, и уселся обратно на диван.
— Что в городе? — спросил он, отхлебнув чаю.
От этого вопроса гость помрачнел.
— Завтра, видимо, начнется, — ответил он после паузы. — Ходят слухи, что сегодня ночью введут военное положение. Я специально прошелся пешком и два раза видел казачьи патрули. Однако не думаю, что это поможет. Утром рабочие все равно пойдут с петицией ко дворцу. И значит, в них будут стрелять. Смотрите с утра в окно, Дмитрий Иванович, — здесь у вас все будет видно.
— Да что ж ты так обо мне, Левушка? — обиделся старик. — В окно… Разве я зритель в театре? Сделаю все, что в моих силах. Я к Сергею Юльевичу поеду!
Посетитель покачал головой:
— Дмитрий Иванович, это бесполезно. Витте самоустранился. К нему ходила депутация во главе с писателем Горьким, и совершенно без толку. Говорит, что знать не знает этого дела.
Старик вскочил и в волнении прошелся по кабинету.
— А, чорт побирай! — воскликнул он плачущим голосом. — Так что ж мне делать прикажете? Что я могу, кроме как писать? Я и пишу. Книгу. «Заветные мысли». Духовное завещание мое, весь в ней выскажусь, да-с! А ведь я давно предлагал! Предлагал всех социалистов да анархистов свезти на остров Святыя Елены — и пусть там экспериментируют себе на здоровье. А мало покажется — так Антарктиду им отдать! Пингвинов только жалко!
Сиятельный ученик пожал плечами:
— Это прожект утопический, а вы ведь практик, — ответил он холодным тоном. — Что же до заветных мыслей ваших, то историю изменить они не смогут. Поднимается стихия. Завтра начнется революция, которая отбросит Россию на сто лет назад. И тут надо не мысли записывать, а применять крайние средства. Вот ответьте мне начистоту, Дмитрий Иванович, как вы полагаете: пошли бы пролетарии со своей петицией, если бы им дали по ложечке моего эликсира? Нашего эликсира?
— Опять ты за свое, Левушка! Я ведь уже отвечал тебе: в экспериментах над русским народом я не участвую.
Гость вдруг вскочил.
— Но ведь у нас с вами одна цель! — горячо воскликнул он. — Вы сделали аппарат, а я только нашел ему более широкое применение.
— Нет, Левушка, цели у нас разные-с! — не менее горячо отозвался хозяин. — Я-то хотел всего лишь пьянство победить. А вот ты задумал штуку весьма опасную. И, признаться честно, я до сих пор твою идею до конца не понимаю.
— Могу объяснить!
— Ну-с, попробуй.
Сиятельный очкарик прошелся от кресла до окна и обратно, поворачиваясь, как на пружинах, а затем остановился точно посередине комнаты и поднял руку вверх.
— Первое и главное зло в русской истории есть пьянство! — объявил он, энергично рубанув рукой воздух.
Старик кивнул:
— С этим я согласен.
— Вот! И средство борьбы с ним у нас уже есть. Вам оно известно лучше, чем мне, и останавливаться на нем мы сейчас не будем.
Профессор снова кивнул.
— Второе зло, по моему мнению, это холуйство и холопство. Виной ему тысячелетнее рабство и оставшаяся от него заразная привычка к слепому повиновению. Мы и когда надо, и когда не надо кланяемся и ломаем шапки.
— И это верно! Вот за что я всегда любил тебя, Левушка, так это за то, что ты стихийный демократ, хоть и княжеской породы.
— …поэтому главный вопрос, — не слушая учителя, продолжал стихийный демократ, — вопрос, который еще Достоевский задавал, состоит в следующем: способен ли наш русский народ к свободе? Господа философы и софисты отвечают на него то так, то этак, в зависимости от кривизны своих силлогизмов. Я же, отвергая метафизику и красноречие, отвечаю строго научно и сугубо практически!
— Да как так — практически, Левушка?
— А вот как. Выпивший моего напитка тут же перестает быть холопом и холуем и чувствует себя царем.
— Царе-ем… — присвистнул старик. — Эк куда хватил! Да если каждый вообразит себя царем…
— …то революции в России никогда не будет, — закончил за него князь. — И потому эликсир, по моему убеждению, есть единственное средство избежать катастрофы!
— Да, Левушка, помилуй! Как же жить, когда вокруг одни самодержцы?!
— А разве они хуже, чем холопы?
— Ну, не знаю, не знаю… Ну-с, продолжай. Еще с каким злом собираешься бороться?
— Следующее зло — охранительность, леность, инерция. Боятся перемен наши мужички! Петр Великий при помощи дубины учил их перенимать у заграницы все лучшее, однако не преуспел. Из этого я заключаю, что дубиной общечеловека не сделаешь, нужно другое средство. Согласны вы?
— Продолжай, продолжай… Дослушаю до конца — скажу. Какое еще зло ты усмотрел в нашем бедном народе?
— Падение веры и нравственности. Бога забыли! Надо возродить древнее благочестие и нестяжание.
Старик покачал головой и вздохнул:
— Ох, Левушка, и всегда ты был такой сумбурист… Нет, не научил я тебя сокращать формулы. Что ж это будет: все люди у тебя окажутся и трезвенники, и сами себе цари, и общечеловеки какие-то, и святые. И материя у тебя, и дух, и Петр Великий, и древнее благочестие — и все в одной склянке?
— Да! И это еще не все! Эликсир поможет образованному сословию объединиться с народом, и тогда наступит то соборное единение, о котором мечтали лучшие умы России!
Выпалив это одним духом, князь опустился в кресло без сил, словно из него выпустили воздух.
— Соборное единение… — негромко повторил старик. — Ты прямо как покойный Владимир Сергеевич Соловьев говоришь. А еще кричал, что софистики не любишь.
Он резким движением поднялся с дивана, пересел за большой стол и стал задумчиво передвигать шахматные фигуры. Перебрав несколько вариантов, решительно смахнул их с доски:
— Нет! Не получается! Ничего не получается! Вот тебе мое последнее слово, Левушка: не надо всего этого. Химические средства в достижении социальных целей всегда опасны, потому что мы не можем предвидеть последствий их применения. Пусть русская история идет своим чередом. Соборное единение… Да разве не наобъединялись уже? — старик вдруг сморщился и продолжил плачущим голоском, тыча пальцем в лежавшую на столе газету: — Ми-истический экстаз у них, понимаешь ли, Левушка? Батюшка Гапон — пророк, он для освобождения босяков с небеси нам послан.
— Я о другом единении, — глухо отозвался ученик.
— А не надо нам никакого! — отрезал учитель. — Революция победит, и ничем ее не остановишь, тут ты прав. Однако победит она ненадолго. Я все посчитал. При современных темпах развития до полного благоденствия, по моим расчетам, остается лет 250–300, а социалисты не продержатся и ста. А вот когда их сбросят, можно будет попробовать и с твоим эликсиром.
Сиятельного изобретателя эта перспектива явно не устроила:
— Что же, прикажете мне еще сто лет жить? — спросил он прежним холодным тоном.
— Ты, Левушка, хотя еще совсем не стар, но до конца смуты, разумеется, не доживешь, — развел руками профессор. — Так что выход у тебя один: оставить рецепт потомкам.
Князь пожал плечами:
— Вы же знаете, Дмитрий Иванович, у меня нет детей. Не до того всю жизнь было.
— То-то и оно! Жили вы, ваше сиятельство, всегда только для себя.
— Не для себя, а для науки!
— А я, по-твоему, не для науки? — прищурился старик. — Я, между прочим, семерых деток растил. Семерых! И ничего-с, кое-что сделал и в науке. Запомни, Левушка, что я тебе скажу: есть у каждого из нас цель превыше всех целей — продолжаться в потомстве.
— Значит, жениться?
— Жениться, и как можно быстрей!
Князь снова встал, походил по комнате и остановился у окна, глядя на совершенно пустой проспект, по которому мела поземка.
— Скорей всего, вы правы, Дмитрий Иванович, — сказал он задумчиво. — Однако план ваш осуществить непросто. Я уже немолод, и если родятся дети, они к моменту моей смерти едва ли будут достаточно взрослыми, чтобы им можно было все растолковать. К тому же мы с вами сошлись на том, что победит революция, а это значит, что все мои вещи и бумаги могут пропасть. Как же я передам свой секрет потомкам?
— А вот подумай и реши задачу, — ответил учитель. — Подсказать ничего не могу, кроме одного: если хочешь хорошенько спрятать какую-то вещь, положи ее на самое видное место.
И он потянулся к томику Эдгара Поэ, давая понять, что разговор окончен.