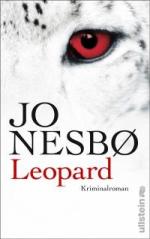Отрывок из романа Ирины Крестовской «Дама с собакой, или Одноклассники.Su»
О книге Ирины Крестовской «Дама с собакой, или Одноклассники.Su»
В то время поступить в институт, который готовил торговых
работников, было невозможно. Конкурс был огромный,
поступление стоило нереальных денег. Мои родители, естественно, за моё поступление никогда платить (попросту
— давать взятки) не стали бы: продавцом можно было стать и без специального образования. Они надо мной посмеивались,
шутили, что я с моим отличным аттестатом стану как минимум старшим продавцом, но, когда мне исполнилось
лет пятнадцать, они эту «дурь» из моей башки вытеснили другой — непременно получить высшее образование,
любое: медицинское, филологическое, педагогическое
— любое. Академическое. Я пыталась отстоять своё, говорила, что у нас все профессии в почёте, но в глубине души соглашалась с родителями. И потому решила стать… метеорологом!!! Странный выбор, не так ли? Для пятнадцатилетней
девочки — более чем. Дело в том, что я просто
ткнула пальцем в небо, — ну какие могут быть планы у подростка, что он знает о жизни, о профессиях, о том, где он будет востребован, если только он не какой-нибудь музыкальный
гений или не обременён династической обязаловкой.
А причиной моего неожиданного выбора послужил один случай. Однажды к нам зашла мамина подруга вместе со своей
сестрой, прилетевшей к ней погостить. И ту невозможно было остановить: она расхваливала свою специальность, в самых красочных выражениях описала алма-атинский университет
— КазГУ, который окончила лет десять назад и теперь
работала метеорологом в аэропорту Домодедово. Она с таким энтузиазмом рассказывала о своей учёбе, об интересных
практиках, о преподавательском составе и учебной базе, которые считались лучшими в стране, что после её ухода я обрадовала родителей тем, что наконец определилась
со своим выбором. Таким образом, проблема отпала, я решила ехать в Алма-Ату — поступать в университет. Да и к дому Алма-Ата была значительно ближе всяких там Москвы,
Ленинграда и Киева.
Ирка решила вообще никуда не ехать: она звёзд с неба не хватала и остановила свой выбор на пединституте, который
находился в соседнем городе.
Мы разъехались, но тоска по родным, по моему городу, по моим девчонкам заставляла меня писать им подробнейшие
письма. Это сейчас эпистолярный жанр как-то тихо, с приходом Интернета и мобильных телефонов, умер, а тогда
он был единственной ниточкой, связывавшей людей.
В письмах я выкладывала своим подругам всё до последней
мелочи: про Алма-Ату, в которую влюбилась с первого взгляда, — такого количества цветов я никогда в жизни раньше не видела, такого вкусного мороженого никогда в жизни не ела, таких доброжелательных людей никогда в жизни не встречала. Писала, как сдавала экзамены,
с кем познакомилась на абитуре, сообщила, что мы с мамой на время моего поступления поселились у нашей дальней родственницы и что мы понравились друг другу и она предложила за небольшую плату жить у неё.
Потом, когда начались занятия в университете, писала, что, к моему сожалению, большого интереса у меня учёба не вызывает: у нас была сплошная физика — самый непонимаемый,
а оттого и нелюбимый, можно сказать, ненавистный
предмет. И история партии! — нам попался такой
фанатически преданный КПСС препод, что муштровал нас так, словно мы собирались стать не метеорологами, а партийными
идеологами. Он вбивал в наши умы марксизм-ленинизм
с таким рвением, что мы почти поверили в то, что без истории партии ни в циклонах, ни в антициклонах разобраться невозможно.
Им первым я написала про свою любовь.
Буквально на следующий день после оглашения списков нас, счастливчиков, ставших первокурсниками, чтобы не расслаблялись, сразу же отправили на работу в библиотеку. Там я и познакомилась с ним. Звали его Игорь, он учился в аспирантуре и приходил в читальный зал каждый день. Он сразу выделил меня из всей нашей группы: то поддержит меня, то подаст книгу, то отпустит какую-нибудь шутку, да так метко, что я покатывалась со смеху.
И уже через неделю он стал провожать меня до дома.
Весь мой любовный опыт сводился к тому, что мальчишки
(как правило, ровесники или чуть старше меня) в далёком детстве, проявляя внимание, дёргали за косички. Потом, повзрослев, несли до дома портфель, плетясь на два шага позади. Классе в восьмом смешно объяснялись в любви,
писали глупые записки и дышали в телефонную трубку, в девятом приглашали в кино, а в десятом на дискотеках неловко танцевали, так и норовя незаметно коснуться или в медленном танце слегка прижать к себе. Конечно же, мне нравились мальчики постарше, которые на нас, малявок,
внимания не обращали. Какое-то время в нашей школе был всеобщий психоз: все, или почти все, девчонки влюбились
в одного новенького, он был на два года старше нас. Влюбились в него и десятиклассницы, и мы, семиклашки,
и даже девчонки младше нас. Сейчас ума не приложу,
что в нём было такого, что и я поддалась всеобщему
помешательству. Но так было. Я мечтала о нём, я была влюблена.
А когда «выросла», стала мечтать о настоящей, большой,
светлой любви. Я ждала героя — взрослого, умного, красивого. Начитавшись романов, я знала, что такие есть: волевые, храбрые, надёжные, нежные, самоотверженные, верные, мужественные.
Мне сказочно повезло! Я встретила такого!
Игорь!
Он ухаживал стремительно, с напором, не теряясь, не тушуясь и не отступаясь, — словом, так, как это нравится женщинам. Прогулки под луной, ночное небо, с которого горстями сыпались звёзды, сумасшедшие летние запахи
— всё настраивало на романтический лад. Он «нечаянно» касался меня — и дрожь пронизывала всё моё существо,
замирая где-то внизу живота; если он брал меня за руку или дотрагивался до шеи, убирая непослушный локон, — мне хотелось рассыпаться у его ног тысячью золотых
песчинок.
Он говорил мне те самые слова, о которых я так мечтала:
«Ты самая красивая девчонка на свете! У тебя необыкновенные
глаза, потрясающие ноги, ты такая сексуальная! Твои волосы пахнут весной! Я не могу без тебя! Я люблю тебя безумно!» Даже если бы он не был так красив, умён и нежен — уже за одни речи я влюбилась бы в него. Воистину,
женщина любит ушами — тогда я впервые стала жертвой этого несправедливейшего из законов природы. Я была им совершенно очарована. Подобных чувств мне не доводилось испытывать раньше никогда в жизни.
Мы встречались уже недели две, и мне было понятно, что платонические отношения довольно скоро должны перерасти в нечто большее. Я этого и хотела, и боялась, и ждала.
И вот однажды, когда Зинаиды Ивановны, моей родственницы,
у которой я снимала комнату, не было дома (она работала проводницей и частенько отсутствовала), Игорь остался у меня. Я ни мгновения не раздумывала, доверилась ему безоговорочно. Игорь стал моим первым мужчиной. И, конечно, я была уверена, что он — мужчина
моей жизни.
Мне с ним было хорошо, легко и надёжно. Хотелось петь, танцевать, кричать о своей любви, хотелось быть добрее и лучше, мне хотелось быть для Игоря всем: любимой, любящей,
заботливой, единственной. И ещё я знала, что мой Игорь — самый сильный, самый смелый, самый умный и всегда защитит меня и придёт на помощь, если я буду в ней нуждаться.
Иногда мы с Игорем ходили в кино, раза два он сводил меня в ресторан, но чаще мы встречались у меня дома. Это сильно сказано — «чаще», всего-то и было несколько раз. Была бы моя воля, я бы с ним вообще никогда не расставалась,
но он постоянно ссылался то на отсутствие времени,
то на загруженность, то на сложность выбранной им темы, на требовательность его научного руководителя. Я любила, страдала, но верила, что мне встретился человек, одержимый учёбой. И его занятость только способствовала
тому, что моё уважение и любовь к нему росли с каждым днём.
Беременность стала для меня большой неожиданностью.
Что я тогда знала о контрацепции? Да практически ничего. Были беседы с мамой, но я всячески их избегала: мне было ужасно неловко обсуждать с ней такую щекотливую
тему.
Это сейчас уже в саду мальчикам и девочкам рассказывают
о половых отношениях, в СМИ открыто говорят о сексе и способах предохранения, рекламными щитами с противозачаточными
таблетками и презервативами «украшен» весь город. А тогда была одна книжка, написанная то ли польской
писательницей, то ли чешской, и называлась она «Девочка.
Девушка. Женщина». Так эта книжка зачитывалась нами до дыр, переходила из рук в руки, давалась на ночь, в ней были такие «откровения», что мы и между собой-то не обсуждали. Сейчас она вызвала бы приступы гомерического
смеха даже у девчонок младшего школьного возраста.
Я, конечно, знала про изделие № 2: его называли мерзким
словом «гандон» и о нём ходило множество похабных
анекдотов, которые рассказывали шёпотом с оглядкой вокруг.
Юноши считали, что прибегать к его помощи в сексуальных
отношениях было унижением собственного достоинства
— «не по-пацански».
Ещё я знала о дольке лимона, но что с ней делать, куда и как применять (понятно, что не за щеку) — я не имела представления. За меня всё решил Игорь. Он сказал, что есть такие дни, когда «этим» можно заниматься без опасения
забеременеть.
И я доверяла ему.
Две недели я жила в ожидании, что проблема окажется
вовсе и не проблемой, всё надеялась, что это просто задержка, а потому нагружала себя работой, непомерными
нагрузками, каждый день отжималась по сто раз, но, видимо, крепкий молодой организм и не собирался отторгать зёрнышко, которое в нём зародилось. Верить в то, что я залетела, совсем не хотелось. Ну а когда все сомнения прошли, я смирилась и в какой-то момент поняла,
что рада этому обстоятельству, — разве не счастье иметь ребёнка от человека, которого любишь и который любит тебя? Конечно, я понимала, что ещё слишком молода,
чтобы строить семью, — я не думала, что мне придётся
так скоропалительно выйти замуж, по залёту, но если уж ЭТО случилось, то почему нет? Я могла вести хозяйство, неплохо готовила, обожала возиться с малышами.
А Игорь был уже взрослым мужчиной, ему-то пора было жениться.
Что он, собственно, и сделал задолго до встречи со мной.
Поэтому, когда весть о нечаянной радости достигла его ушей, изо рта его посыпались такие обвинения и оскорбления,
что, как в старинной сказке, они должны были превращаться в змей и пауков, ещё не достигнув земли. Я слушала его и не могла поверить: эти страшные слова произносит
мой благородный, честный, добрый и порядочный Игорь. До меня не доходило, что мужчина, который мне клялся в любви, оказывается, давно и счастливо женат, уже воспитывает одного ребёнка и другого ему не надо. Никогда не забуду, как он, стиснув зубы, процедил: «Родишь
— убью».
Потом всё же немного смягчился, сказал, что у него есть знакомый гинеколог и через него можно всё устроить, правда, это будет стоить денег — пятьдесят рублей. Я начала
оправдываться, что-то лепетать про то, что у меня нет такой суммы, ещё не осознав, что ни я, ни мой ребёнок никому
не нужны, более того, мы ненавистны моему любимому.
Всё моё нутро — мозг, сердце, душа — отказывалось верить в то, что нас отправляют на бойню. Когда я стряхнула
с себя оцепенение — жить не хотелось. Была поругана моя любовь, моя невинность, моя искренность.
Наверно, его можно было понять: он очень хотел вступить
в партию, не являясь членом которой нельзя было сделать карьеру; он только недавно стал кандидатом в члены КПСС, и скандал ему был совсем некстати.
Мне не пришлось собирать справки, сдавать анализы, высиживать в огромных очередях в районной женской консультации. В больницу я пришла утром к семи часам. У
меня быстро взяли кровь, заставили переодеться в принесённую
ночную рубашку и тапки, забрали паспорт и оставили
ждать в холодной процедурной. Я так замёрзла, что у меня посинели руки и ноги, я не могла согнуть пальцы и разве что не клацала зубами от холода. Там я просидела часа два. Потом за мной пришла какая-то сварливая бабка и повела меня по лестнице на второй этаж — туда, где делали
аборты. Абортарий. Жуткое слово. Красивое, почти как «планетарий». Всю дорогу она бубнила себе под нос: «…накувыркаються, шалавы, потом приходють на аборт, а мы тут должны…» Как же хотелось заткнуть ей рот. Знала бы она, чего мне стоил этот поход в абортарий, сколько слёз я пролила, сколько всего передумала.
Время тянулось долго, нескончаемо долго. Периодически
в коридор выходила медсестра и называла фамилию. Женщины уходили, через какое-то время их вывозили на каталках. Когда подошла моя очередь, я была уже готова на всё, только бы прекратилось это жуткое ожидание, замешанное
на унижении и диком, животном страхе.
Дрожа от холода и ужаса, я вошла в помещение, сверкающее
белым кафелем и аккуратно разложенными инструментами,
сняла тапки, легла на операционное кресло,
развела ноги, к моему лицу поднесли маску — и меня закрутило, завертело, понесло вдоль по чёрной трубе. Я улетела в преисподнюю.
Аборт мне сделали за пятьдесят рублей десятого декабря
в два часа дня, уже после всех плановых. И поскольку я была «левая», то уже вечером мой доктор, спросив, как я себя чувствую, и удовлетворившись ответом, что вполне
ничего, снял с моего живота грелку со льдом и отправил меня домой.
Уж и не знаю, как мне отблагодарить Зинаиду Ивановну,
мою родственницу, за то, что спасла мне жизнь.
Ночью я проснулась оттого, что потягивание внизу живота
перешло в ноющую боль. Я встала и, полусонная, держась
за стену, побрела на кухню, чтобы в аптечке найти какое-нибудь обезболивающее. Было около двенадцати, и Зинаида Ивановна собиралась на работу, укладывая в сумку
продукты из холодильника. Услышав мои шаги, она обернулась,
вскрикнула и выронила из рук полбатона варёной колбасы, которая должна была отправиться в путешествие по Сибири. Окончательно проснувшись, я проследила за её взглядом и от ужаса не смогла произнести ни слова. Моя ночная рубашка ниже пояса вся была в крови. То ли обессилев,
то ли испугавшись, я рухнула на пол, и единственное,
что помню, — это то, как слабым голосом попросила ничего не сообщать родителям. Сквозь какой-то неясный гул я слышала, как Зинаида Ивановна всё куда-то звонила и звонила, говорила, что не может выйти в рейс, с кем-то ругалась, потом приехала скорая, а дальше не помню вообще
ничего.
В больнице я пролежала две недели, одна, никто ни разу ко мне не пришёл, ну, вы понимаете, кого я имею в виду. Подругами я не успела обзавестись, так, общалась с одногруппницами
во время учёбы, днём, а вечером занималась
дома или встречалась с Игорем. Дело в том, что наша группа
разделилась на подгруппы по интересам: одна — алмаатинцы,
которые держались особняком, другая — общажные.
Я же жила отдельно, поэтому ни одна группировка не считала меня своей. Наш староста, конечно, забеспокоился,
когда я на третий день не пришла в университет, но на четвёртый я доковыляла до телефона-автомата и позвонила
ему, попросив, чтобы он по возможности не ставил мне пропусков. Ага! Не тут-то было! Когда потом я заглянула
в журнал посещений — все «н» стояли в рядок, как на параде, даже по тем предметам, где не отслеживалась посещаемость.
Староста тоже метил в КПСС, был принципиален,
твёрд и несгибаем, как баобаб, — на сделку с совестью он пойтить никак не мог.
Моя добрая родственница, спасительница, пришла ко мне на следующий день, но тогда я лежала в реанимации, да ещё раз потом, вернувшись из очередного рейса, навестила
— принесла бутерброды с колбасой и два яблока.
Эти две недели тянулись мучительно долго. Утром был обход, какие-то процедуры, обед, потом — бесконечный дождь, который лил не переставая: я просыпалась под шум дождя, под него же и засыпала. Вернее, не засыпала, а проваливалась
в чёрную дыру, где меня подстерегали ужасы и кошмары. То мне виделся Игорь, смеющийся, счастливый, любящий, внезапно превращавшийся в монстра, объятия которого всё крепче сжимали меня, и я задыхалась во сне; то я уплывала на лодке в туман, из которого не было пути назад; то меня несло течением в водоворот, из которого невозможно было выбраться, — я барахталась, пыталась
кричать, но меня никто не слышал, потому что мой голос был тих и слаб. Когда не получалось уснуть, я отворачивалась
лицом к стене, выкрашенной масляной бежевой краской, и бессмысленно смотрела перед собой. Тогда мне вспомнилось, как однажды в детстве я сильно заболела, лежала дома с высоченной температурой, по стеклу так же барабанил дождь, а на кухне мама пекла пироги. Мои любимые, с ревенем. Мне было плохо, но мне было хорошо.
Мама то и дело заглядывала ко мне в комнату, приносила
чай с малиновым вареньем, жалела, изредка касалась
прохладными губами моего лба, и я была счастлива, оттого что меня любят, сочувствуют и заботятся обо мне.
Я вернулась в университет и на все вопросы лишь загадочно
улыбалась в ответ, давая понять, что загуляла немного,
и намекая на немолодого ухажёра, с которым якобы
ездила в дом отдыха. И справку, где был прописан мой диагноз, никому показывать не собиралась.
Мне было восемнадцать лет, и я знала, что детей у меня больше никогда не будет. Этот, неродившийся, был первым
и последним. Единственным моим ребёнком.
В больнице соседка дала мне книгу, к которой сама не притронулась ни разу. Это была «Триумфальная арка» Ремарка.
Всего Ремарка я прочитала ещё в школе, тогда же, со слезами перечитывая книгу, я в одной героине, которой
из-за ошибки доктора удалили матку, узнала себя.
«Прекрасная женщина мертва. Она сможет ещё жить, но, в сущности, она мертва. Засохшая веточка на древе поколений».