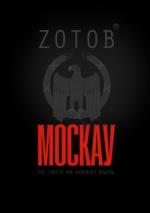- Издательство «АСТ», 2012 г.
- «Книгочет: Пособие по новейшей литературе, с лирическими и саркастическими отступлениями» — это авторский взгляд прозаика, поэта и журналиста Захара Прилепина, много лет ведущего литературные колонки в «Новой газете», «Медведе», «Русском журнале».
Иерархии в современной литературе сложились при минимальном участии самих литераторов. Приложили руку кто угодно — ведущие литературных колонок в изданиях для коммерсантов и глянцевых журналах, меценаты, словоохотливые ЖЖ-юзеры…
Между тем, традиционно в русской литературе словесность воспринималась как поле общей работы — как много критики писали Горький и Брюсов, Мережковский и Гиппиус, Андрей Белый…
Пойду на грозу, покажу ей «козу»
Заметки о мужской прозе
Что с нами, мужчинами, делать — ума не приложу.
Надо сразу пояснить, что мнение о российских представителях сильного пола у меня сложилось по книжкам, которые я прочёл недавно.
Не то, чтоб я мало общаюсь с живыми людьми, но мне, правда, кажется, что в книжках они как-то шире, лучше, яснее проявляются, чем в быту и в социуме.
Да и какая у нас жизнь: мы ж не в окопах сидим, и не дорогу сквозь тундру прокладываем, и не Зимний дворец штурмуем, а только, в основном, разливаем по стаканам.
Когда разливаешь — находишься, как правило, в состоянии радужно сияющей благодати и преисполняющей тебя душевной нежности, это, однако, не способствует логическому осмыслению происходящего, в том числе, говорю, не даёт толком разобраться, что мы за люди такие, современные мужики.
А книгу открыл — и сразу понимаешь, с кем имеешь дело.
Читал я недавно роман замечательного, без дураков, писателя Андрея Рубанова с актуальным названием «Готовься к войне».
Главный герой — современный русский бизнесмен, серьёзный парень, при деньгах, но ещё способный и чувствовать, и любить, и страдать. Он, между прочим, готовится открыть (но так и не открывает) большой супермаркет под названием «Готовься к войне», где будут продавать всё самое необходимое человеку в кризисной ситуации — от спичек и тушёнки до валенок и телогреек.
Сам герой тоже всё время вроде как готовится к войне. Он подобен пружине, он весь как — стремительная и почти уже металлическая мышца. Просчитывает каждый шаг, всё делает очень быстро, не поддаётся панике, не суетлив… да что там говорить — он почти идеален.
Мало того, я вижу, что этот герой Рубанову тоже иногда нравится, и автор тайно любуется им. А так как Рубанов писатель настоящий — то есть, умеющий писать заразительно, я тоже его героем почти всю книгу любовался… и лишь потом, уже ближе к финалу, стал немного раздражаться.
У меня возник всего один, но очень привязчивый вопрос: вот этот герой, он такой отличный, такой пружинистый, так отлично водит машину (специально ездил на автогонки за границу, чтоб подучиться), так правильно питается (морепродуктами, в основном), так старается выстроить и упорядочить мир вокруг себя — что бы что?
Да, да, я понимаю, что быть здоровым и быстрым само по себе лучше, чем больным и медленным, но я всё равно не могу ни с кем разделить восхищения по поводу этого парня. Почти все его занятия — какой-то апофеоз беспочвенных понтов, никакого толка от него всё равно нет, и, кажется, втайне сам Рубанов это прекрасно понимает. Ну, налоги он платит, ну и что — все платят налоги, Абрамович, наверное, тоже платит, и в огромных количествах. Что мне теперь, полюбить его?
Понимаете, к чему я? Мне вот 30 с лишним лет, я ни разу в жизни не был у зубного врача, не было необходимости. Но это не значит, что я буду роман писать про свои здоровые зубы.
Наличие у нас зубов, быстрой реакции и хороших трицепсов ещё не делает нас литературными героями.
Равно как и наличие страдающей души. Тут я уже к другому писателю хочу перейти, не менее замечательному, но по некоторым признакам вроде даже противоположного Рубанову.
Зовут его Дмитрий Новиков, он написал книгу рассказов «Вожделение», и не только её.
Если главный лирический герой романов Рубанова (а романов у него несколько, и все отличные; первый — так вообще классический) — городской мужчина, штурмующий и преодолевающий жизнь, то лирический герой книг Новикова (у него их три, и все отличные, особенно дебютная) обитает в основном в сельской местности, поближе к воде, и жизнь, скорей, созерцает.
Но на этом, как ни странно, основные различия меж героями заканчиваются.
Герой Новикова — тоже сильный, страдающий, смелый, большой, уверенный в себе, но ещё и рефлексирующий при этом. То есть, не только мышцы и половые органы на нём компактно размещены, но и сердце есть, и оно ой как болит.
Новиков также своим героем любуется, и делает это умело, так как и он писатель настоящий. Когда Новиков, к примеру, описывает, что у героя ноет в беспричинной печали сердце — этим страданием заражаешься настолько, что сам себя начинаешь как-то неважно чувствовать.
Но я тут опять вспомнил про свои зубы, которые не знакомы с инструментарием стоматолога и подумал вот что. А если б они у меня болели — это было бы поводом, чтоб написать роман, или нет?
Собственно чем занят лирический герой Новикова. Он ездит на рыбалку. Половина рассказов Новикова имеют идентичный сюжет: герой, один или с женщиной, или с другом едет к морю (или к реке, или к озеру). И наличие поблизости большой, бурной, холодной воды каждый раз позволяет ему заново осознать, где свет над ним и где тьма, где бесы вокруг него и где ангелы, где сердце у него и где печень.
Однако новиковский пафос в определённый момент становится просто невыносимым. Потому что в сухом остатке всё то же самое: ну, съездил твой герой на рыбалку, ну, развёл костёр, ну, рыбу поймал. Я готов восхититься этим раз, готов два, но я не могу им всё время восхищаться — он ещё что-нибудь у вас умеет?
Он же, в конце концов, не в изгнании находится, не в тюрьме, не на войне — какого чёрта он тут страдает с утра до вечера со своей удочкой?
Рубанов, судя по его романам, к советской эпохе, равно как и к советской литературе, относится с безусловным уважением. Новиков, судя по его книгам, всё большевистское не приемлет на дух, прямо-таки ненавидит тяжёлой, свинцовой ненавистью — в том числе и книги той поры (если, конечно, их авторы не были явными или тайными диссидентами).
Однако отличие и рубановского, и новиковского героя от героев хоть советской, хоть антисоветской литературы по большому счёту одно и оно очевидно. Мужику из тех книг я был готов сострадать, тем мужиком я готов был восхищаться, потому что если он мучился — то мучился по делу, а если чем-то занимался — то это было реальное занятие, большая работа, настоящий труд.
Давайте на время куда-нибудь спрячем свой глупый скепсис и спокойно перечитаем «Время, вперёд!» Катаева, «Поднятую целину» Шолохова, «Дорогу на Океан» Леонова, «Большую руду» Владимова, «Место действия» Проханова — и сразу всё станет на свои места. Там работа, нет, даже так — ррр-работа кипит! — и, да, делает человека человеком, и авторское восхищение героями выглядит вполне понятным, обоснованным.
А Макаренко с его беспризорниками и их воспитателями? А фантастика от Беляева и Ефремова до ранних Стругацких? А крестьянские саги Алексеева, Проскурина или Иванова? А все остальные альпинисты, подводники и лётчики, которые неустанным косяком шли и шли на грозу?
То же самое и с эмигрантской литературой: начиная от «Вечера у Клэр» Газданова и «Подвига» Набокова вплоть до лимоновского «Это я, Эдичка». Там то мука изгнания , то борьба за выживанье, а то и первое, и второе, и ещё и Гражданская война, которая то ли позади осталась, то ли впереди маячит — и как тут не сострадать героям, как не восхищаться ими?
Современного мужика, судя по литературе, некуда приспособить. То ли почвы нет под ним, то ли неба над ним, а, может, ни того, ни другого не осталось.
И мне не жалко его, сколько бы писатели не раздували мехи моей жалости.
Что-то в психике нашей сдвинулось, раз мы не можем себе представить ни в жизни, ни в литературе, ни на экране хорошего, умного, занятого серьёзным делом мужика. Они, может, и есть, но отчего их так сложно разглядеть? Почему мне до сих пор верится в офицеров Бориса Васильева, плотников Василия Белова, учёных Даниила Гранина — но если мне сегодня покажут офицера, плотника или учёного, — да такого, чтоб весь вид его источал мужество и радость жизни — остаётся ощущение неистребимой фальши, которая ни в какое сравнение с советской лакировкой не идёт? Действительно ведь не идёт — потому что ни один нормальный писатель не возьмёмся описывать таких героев, рука не поднимется.
Описывают других, какие на виду и более реальны.
И это мы лишь по случайности взяли Рубанова и Новикова. Могли бы взять «Списанные» Быкова или «Асфальт» Гришковца, последние книги повестей Романа Сенчина или Ильи Кочергина — везде одна и та же картина.
Разница лишь в деталях: Быков и Сенчин прекрасно понимают, кого они берут в качестве героев, и относятся к ним, как минимум равнодушно, зато Гришковец и Новиков своих героев просто обожают, и нам предлагают заняться тем же.
Но чаще всего герои их занимаются какой-то маловажной ерундой, требуют, чтоб его любили за то, за что любить их вовсе не обязательно. И война, к которой они якобы готовятся, какая-то эфемерная, и гроза, на которую он якобы идут, тоже какая-то ненастоящая…
Единственное во что веришь — так это в то, что у них иногда по-настоящему болит внутри.
Ещё бы не болело — при такой бестолковой жизни, где к каждому глаголу (сумеет, сделает, сможет, победит, осчастливит) нужно прибавлять наречие «якобы».
Вот и возвращаемся мы к тому с чего начали: что с нами, мужчинами, делать — ума не приложу.