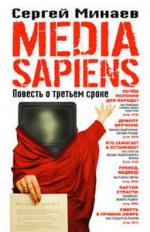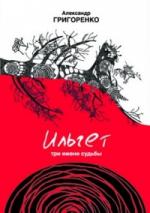В 1927-м в Ленинграде вышла книга, авторы которой — Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский, Адриан Пиотровский, Борис Казанский, Юрий Тынянов — пытались осмыслить новый вид искусства. Искусство «фильмы», как тогда выражались. Книга эта, с годами приобретшая почти что культовый статус, называлась «Поэтика кино».
Идеи, оплодотворившие «Поэтику кино», и сегодня служат фундаментом для множества работ по теории киноискусства, выходящих на Западе, а в постперестроечные годы и в России.
При этом по ходу рассуждений почти каждый из авторов этой книги высказывал свои соображения о фотографии. Более или менее сходные соображения. Внятнее всех сформулированные Борисом Эйхенбаумом: «Обыкновенная фотография, при всех своих тенденциях стать „художественной“, не могла занять самостоятельного положения среди искусств, поскольку она была статична и потому только „изобразительна“ <…> На фоне кино область простой фотографии окончательно определилась как элементарная, обиходная, прикладная».
* * *
Много лет я собирался сделать портрет Джо Розенталя — и не собрался. Розенталь жил в маленькой квартире рядом с Голден Гейт парком, совсем недалеко от меня, к нему постоянно приходили журналисты и фотографы (особенно перед какими-нибудь военными праздниками, датами, юбилеями), но я никогда не видел ни одного толкового портрета этого интересного человека.

В августе прошлого года Джо Розенталь умер. Ему было 94 года. Он родился в Вашингтоне, в 1930 году перебрался в Сан-Франциско и прожил здесь всю жизнь, не считая лет, проведенных им на войне, во время которой он сделал самую знаменитую свою фотографию, самую знаменитую фотографию Второй мировой войны, фотографию, которую копировали и в виде монументов, и в виде плакатов, и в виде почтовых марок, фотографию которую напечатала (и не по одному разу) практически каждая газета в Америке и сотни газет по всему миру. На фотографии шестеро солдат поднимают американский флаг над островом Иводзима.
Практически мгновенно эта фотография Джо Розенталя превратилась в символ — символ отваги, символ несгибаемости, символ победы. Победы, которую еще предстояло одержать.
Розенталь сделал свой знаменитый снимок 23 февраля 1945 года, на третий день после высадки американского десанта на крошечный вулканический остров 750-ю милями к югу от Токио. До победы оставался месяц тяжелых и жестоких боев. К 26 марта, когда на Иводзиме прозвучал последний выстрел, японцам удалось потопить американский авианосец «Бисмарк» и серьезно повредить авианосец «Саратога». Восьмидесятитысячный американский десант понес огромные потери — 6831 убитыми и 25 281 ранеными. Из двадцатидвухтысячного японского гарнизона в живых осталось 1083 человека.
Джо Розенталь вспоминал, что, когда со своей тяжелой камерой на боку он поднимался к вершине Сурибачи, самой высокой горы на Иводзиме, навстречу ему попалcя фотограф Луис Ловери, который сказал, что флаг на горе уже водружен. Розенталь все же решил взобраться наверх и сделать свой снимок. Однако к тому времени, когда Джо Розенталь добрался до вершины, оказалось, что решено заменить маленький флаг на другой, гораздо большего размера.
Розенталь выбрал удобную точку, приготовил свой «Спид График», затвор поставил на одну четырехсотую секунды, диафрагму между восемью и одиннадцатью и стал ждать. Чуть правее, в метре от Розенталя, пристроился кинооператор Билл Дженауст (который через несколько дней погиб здесь же, на Иводзиме). Солдаты стали поднимать флаг, и Билл Дженауст включил свою камеру, а Розенталь, выбрав момент, когда флаг совпал с диагональю кадра, нажал спуск. Он сделал один кадр — «Спид График» камера не для репортажа.
Не знаю, видел ли эту фотографию Борис Эйхенбаум. Интересно было бы узнать его мнение о том, почему «статичная» фотография превратилась в символ, так много говорящий людям, а снятая практически с той же точки кинопленка, на которой поднятие флага запечатлено по долям секунды, не произвела никакого впечатления. Единственное, насколько мне известно, применение ей нашлось, когда режиссер Алан Двэйн вмонтировал ее в свой игровой фильм «Пески Иводзимы» (1949).
Я думаю, что Борису Михайловичу Эйхенбауму пришлось бы признать, что искусственная статичность выхваченного момента может оказаться реалистичнее запечатленного и абсолютно натурально показанного движения.
* * *
Картина Клинта Иствуда «Флаги наших отцов» как раз — в широком смысле — об этом: символ и реальность, из которой этот символ возник (выхвачен, слеплен, выбран случаем или указан провидением). Заслоняет ли символ саму реальность? Приукрашивает? Искажает?

Из шестерых солдат на фотографии Розенталя только трое — Джон Брэдли, Айра Хэйес и Рене Ганьон — пережили Иводзиму. И вот Джеймс Брэдли, сын одного из них, решает собрать материалы о своем отце, о знаменитой фотографии, о запечатленном на ней моменте, о товарищах отца, об Иводзиме; узнать, услышать о том, чего сам отец ему никогда не рассказывал. В фильме этот временной срез — сейчас, сегодня. Другой временной срез фильма — сразу после Иводзимы; госчиновники отправляют троих героев в пропагандистской тур по стране с целью поддержания патриотических чувств и продажи облигаций государственного займа (для пополнения опустевшей казны). Еще один временной срез — дни и ночи на Иводзиме, страшный опыт войны, опыт, который будет жить в сердце и памяти уцелевших всю их оставшуюся жизнь.
Иствуд показывает нам, как реальные люди — юноши, почти что дети, — превращаются в символ, в абстракцию, но не посмертно, как обычно происходит в подобных случаях, а бронзовея заживо. Один из них, Рене Ганьон, поначалу наслаждается славой и вниманием, другой, Айра Хэйес, рвется назад, к своим товарищам, не умея и не стремясь быть символом чего бы то ни было, третий, Джон Брэдли, старается соответствовать моменту из чувства долга, понимая необходимость их общей миссии. Но все трое одинаково не хотят быть героями, не хотят называться героями — они не желают выступать представителями своих живых и мертвых товарищей.
«Солдаты могут сражаться за свою страну, но умирают они за своих друзей», — говорит один из персонажей фильма.
Джону Брэдли, Айре Хэйесу и Рене Ганьону предложено жить за своих друзей. Они не добивались этой участи, не выбирали ее, но они не могут от нее отказаться.
Газеты попали в каждый дом, почтовые марки разошлись по миру, бронза уже застыла.
Такова история, рассказанная Клинтом Иствудом, история одной военной фотографии.
Портрет Клинта Иствуда работы Михаила Лемхина
Михаил Лемхин