Даниил Лебедев родился в Новосибирске, живет и работает в Париже. Рассказы, переводы и стихи публиковались в журналах «Дистопия», «Опустошитель», «Versus Revue», «Реч#порт». Автор перевода романа Эдуара Дюжардена «Лавры срезаны» («Иностранная литература», 2017, № 3), создатель, в соавторстве с иллюстратором Ириной Лисачевой, сетевого проекта «вилка/бутылка».
На вокзале. Человек. Это за мной. Они сказали, что пошлют за мной. Он улыбается. Да, это за мной. Он улыбается. Он делает жест, который я не понимаю. Зачем я приехал? Вопрос, который я задавал себе в пути. Что поделаешь. Я не видел людей давно, и они сказали мне: Иди, там будут люди. Что поделаешь. Я сорвался с цепи. И вот я в поезде. Не задавай себе вопросов, пока ты в поезде. Но я должен был. И я задавал. Куда я еду? Кто будет со мной? Что я скажу? Как я скажу? Как вести себя? Вопросы первой важности. Пока ты в поезде, пока не встретил людей, которые ждут тебя, которые всегда будут ждать тебя, в одном месте или в другом, — у тебя есть пейзаж. Вид за окном, путь сквозь чужую территорию. Еще незаселенную. До тех пор пока поезд не остановится. У тебя есть еще немного времени. Золотые минуты. Ты упускаешь их, тратишь их на мысли на забытом людьми языке о заброшенных в прошлое, несуществующих странах. И вот, вокзал. Человек встречает меня. Неясный жест. Он улыбается, задает мне вопрос и хлопает меня по плечу. От неожиданности я вздрагиваю. Затем я говорю слово. Кажется, он понял. Это было не сложно, ведь слово было не сложное, да или нет, что-то в этом роде. Но потом он усаживает меня в машину, мы выезжаем с вокзала, и тут всё заканчивается. Они сказали: Там будут люди, и, поскольку ты был оторван от жизни так долго, тебе стоит поехать, стоит развеяться. Я сказал: Конечно. Они сказали: Ты помнишь язык? Я спросил: Какой? Это их удивило. Ты же не думаешь, что мы имеем в виду язык, на котором мы говорим с тобой? Нет, говорю, вообще-то так и подумал. Но я учил другие. Ты учил? Да, учил. Я не разговаривал, но я слушал. Они снова в замешательстве. Кажется, они ожидали другого ответа. Ты не разговаривал? Нет, нет, у меня не было возможности, но я хорошо слушал, я умею слушать. Они сказали: Там вы будете строить. Что мы будем строить? А какая тебе разница? Просто мне интересно, что я собираюсь строить. Тебе сообщат на месте. Ты встретишь много разных людей, познакомишься с ними и испытаешь свое знание языка. Но ты можешь не ехать, если ты не… Нет, я еду. И я поехал. И были мысли. Поезд. Пейзаж. Упущенный шанс. Вокзал. Машина. Человек задает мне вопрос.
Если попробовать разобраться во всем, что случилось, нельзя было поступить глупее, но, к сожалению, нельзя было поступить иначе. Я был изолирован. И потом они выпустили меня и спросили: Ты хотел бы снова жить? Я был достаточно измучен, чтобы иметь глупость ответить утвердительно. Понимаете, они сначала выпустили меня, а потом спросили, именно в этом порядке. Не знаю, где я был. А ведь это могла быть моя родная земля, Родина, из которой я уезжал, которую соглашался покинуть, но я не знал, не знал, совсем ничего, ни где я, ни что делать со своей свободой, и в этих условиях, когда раздался голос, приглашавший в путешествие, я испугался. По своему неведению я думал, что меня вернут в изоляцию, если я откажусь ехать. И да, возможно, я таким образом покинул Родину. Кто знает. Но я никогда не покидал ее самовольно. Я покинул одно место, в котором был, чтобы переместиться в другое место, с единственной мыслью в голове — избежать изгнания, с единственным чувством — страхом снова остаться с пустыми руками в фойе жизни. Нельзя назвать это ни глупостью, ни неосторожностью, я долго думал, и, пожалуй, ближе всего подошла бы неизбежность, но это слово тоже совсем никуда не годится. Нам стоит придумать что-нибудь для такого случая. Случая, вроде моего.
Вопрос о выборе не стоял, там было одно большое дерево, и мы сидели под ним все вместе. После еды, добытой трудом и потом с полей, раскинувшихся вокруг на километры и километры, мы сбивались под нашим большим деревом, потому что стояла жара, а это был единственный источник тени. Поля тянулись на километры и километры, но что нам было до этих километров продрогшей земли, изрезанной трещинами, если плоды, зарытые в ней, были невидимы, а плодородные места непомечены. Вооруженные небольшими лопатками, мы выходили одной шеренгой в голое серое поле, оставляя между нами промежутки в несколько метров, и выбирали направление движения.
Важно было только достать картошку. Таково было наше питание, и я упомянул его неслучайно, хотя начал говорить о дереве. Мы возвращались с работы к этому дереву, с серого поля без границ, сквозь трещины в котором, если остановиться и приглядеться, можно было увидеть наших врагов: жуков, червей, жадно поедающих плоды, сокрытые под сухой, каменистой землей. Тук! Тук! Еще одно усилие. Так! Медленно ты откалываешь куски неистребимой почвы, и, утопая в трудовом поту, добираешься до крохотной, изрытой паразитами картофелины. К следующему участку, следующему клочку земли, под которым, скорее всего, ничего, или что-нибудь крохотное, сморщенное, и рядом — болтающийся хвост червя, оторванный очередным ударом лопатки. Ты берешь этот драгоценный плод и смотришь, что можно сделать. Ты вырезаешь крохотные белые кусочки картофеля — промежутки между черными червивыми туннелями — и бережно ссыпаешь их в мошну, висящую у тебя на шее. И продвигаешься. Ни направо, ни налево, ни вперед, ни назад, ты просто продвигаешься, стараясь не рыть участки, уже изрытые другими или тобой ранее. Солнце печет, коршуны летают, черви и муравьи живут своими жизнями в сухой земле. Люди идут по сухой земле и постукивают по ней молоточками.
Где-то вдалеке бьет колокол в церкви, её шпиль врезается в небо на горизонте, и ты развлекаешься, ты постукиваешь в такт, если ты достаточно ловок, чтобы развлекать себя подобным образом — ведь колокол бьет как попало — и одновременно следить за звуком, который земля возвращает тебе, пока этот звук не становится чуть более глухим, несущим благую весть о картофеле. Тут ты прекращаешь эти безобидные шалости для того, чтобы начать другие — на этот раз ты пускаешь в ход лопатку. В какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что ты перестал слышать колокол, весь погруженный в странный нечленораздельный гул, который издает беременная земля. Но колокол не прекращает свою нелепую песнь, он продолжает, как и ты, и ты говоришь себе: Нет, нет, перестань, тут моя картошка, но он не перестает, как будто сумасшедший звонарь потерял всякую надежду и поэтому боится замолкнуть. Так вы и продолжаете вместе, ты прижимаешься к земле, одним ухом вслушиваясь в её гул, другим повернутый к небу и колокольному звону. Так устроен человек, что у него одно ухо всегда напротив другого и действуют они заодно, как бы в молчаливом сговоре. И закрывая одно ухо, ты теряешь одну руку. Закрывать глаза намного легче и не стоит никаких усилий.
Это было пустынное место. Вдалеке, допустим, на севере виднелась разрушенная деревня. На северо-востоке и северо-западе простирались бесконечные поля. Остальные сто восемьдесят с лишним градусов горизонта были изрезаны лесом, который на юге приподнимался на еле заметных возвышениях рельефа. Мы жили где-то там, в этих бескрайних полях, среди деревянных развалин. Когда-то там жили люди. Они ушли, и на их место приехали мы, каждый со своей странной идеей жизни, а кто-то, как я, безо всякой идеи, гонимый таинственной нуждой в людях и жаждой свободного дыхания.
Немногое осталось от бывших поселенцев — по деревянным, искромсанным остовам зданий гулял ветер, и в ночи раздавался скрип досок. Были следы каменных строений: колодец и серые стены. Мне сказали, что там случилось что-то — слово, которого я не понял, — и всё было уничтожено, а те, кто остался в живых, бежали. Хотел бы я знать, что именно там случилось. Наверное, это была война. Или чума. Говорю вам, я не понял.
Мы не особенно старались обустроить это место под свои нужды. Мы все спали, ели и отдыхали под одним огромным деревом, как будто бы тысячелетним, такой широкий у него был ствол и такие длинные ветви. Я всё спрашивал себя, чем я собственно занимаюсь. Хоть именно этими словами я себя и не спрашивал, но всем моим телом и самочувствием ныл этот страшный вопрос. Ведь они, те, что отпускали меня, сказали, что мне сообщат на месте, но мне ничего не сообщали. Разговаривать было тяжело и получалось неестественно. Мое незнание языка бросалось в глаза. Я переспрашивал — им приходилось повторять. Иногда я всё равно ничего не понимал, и после нескольких попыток всё, что оставалось, — развести руками. Они пребывали в неведении относительно моего вопроса, я — относительно слов, необходимых для того, чтобы его задать. Я должен был думать над каждым словом, а они не считали нужным делать мне поблажки как иностранцу — изъясняться проще или, по крайней мере, медленней. Там было много таких, как я. Все куда-то ходили твердой поступью, и я ходил за ними, и моя поступь со стороны, наверное, тоже казалась твердой. Хотя, честно говоря, ничего такого особенного мы не делали. Мы как будто бы просто ходили твердой поступью. Не считая времени, когда мы собирали картошку и отдыхали под деревом. Когда я ехал в поезде, всё казалось таким прозрачным. Думаю, им нужна была капелька лжи, чтобы усадить меня в вагон.
И тем не менее, среди нас были старшины, и они, кажется, что-то понимали. Казалось так, верно или не верно, потому что они единственные знали язык. Они знали, что выхода у нас нет, и если мы хотим есть, то будем работать. Поэтому они, не желая никакого большого излишка для себя, не отдавали нам приказов и оставили нас в покое. Организовывали они нас только по мере крайней нужды, когда мы, не способные договориться между собой, обращались к ним за помощью.
А мы, конечно, не могли договориться. Объединял нас только один общий язык, который все мы знали как придется, и, как правило, хуже всех его знали те, которые больше всех хотели и громче всех спорили. И те, кто могли что-то сказать, откладывали на потом свои скромные личные пожелания и вопросы и направляли все усилия на то, чтобы примирить остальных, которые говорить не умели и хотели не учить слова, а жить хорошо.
Старшины смотрели на нас посмеиваясь или грустно кивали друг другу и перебрасывались между собой короткими фразами. Когда дело выходило из-под контроля, мы шли к ним и разводили руками — просили нас рассудить. Старшины говорили с нами, но большая и сильнейшая часть из нас ничего не слушала и только сжимала зубы от неутоленного желания и от бессильной речи, заключенной в её необразованную грудь, которая дышала часто и питалась только этим своим колыханием, а не умными речами и знанием дела.
Я же, и некоторые со мной, слушали старшин, отворив рты, и удивлялись красоте и простоте, с которой мудрость льется из них сквозь звуки членораздельной речи. Мы воспринимали её стихийно, но внимательно, и ничего не понимали.
Изголодавшиеся и опустошенные долгим лепетом без заметного результата, все снова брались за работу или насиловали своих женщин. Особенно тяжелы были ночи, если спор разгорался у вечернего костра. Солнце садилось, и люди в этот темный час, не приученные к творчеству, бросались друг на друга или дрыгались поодиночке на траве, пытаясь поймать сон, который летал вокруг и всё никак не опускался. И такими ночами воздух полнился стонами, шорохами и завываниями.
И на следующий день никто не мог вспомнить повод для спора, но разве нужен повод там, где есть труд, два человека и тоска безграничных полей?
От скуки и отсутствия конкретной заботы я завел себе друга. Михаэлс был крепкий, устойчивый человек и совершенно не понимал моего горя. Заметив однажды, как я копошусь с картофелиной, вырезая из неё гниль филигранными движениями ножа, он вздохнул тяжело, выхватил из моей руки корнеплод и одним ударом отсек у него половину, изрезанную, будто узорами, следами моей рачительности. Половина картошки упала на землю, Михаэлс втоптал её ботинком и плюнул на неё с презрением, как сильный плюёт на хитрого.
С тех пор мы с Михаэлсом работали вместе, или, точнее будет сказать, он взял меня под свою опеку. Он был несговорчив и трудолюбив, справедлив и жаден. Я чувствовал, что не просто так он мне делает одолжение своим обществом, но что я ему также оказался полезен — он мне стал стойкостью и бездумием, которые мне были нужны, чтобы выжить, а я ему — компанией и утешением, которые нужны любому, будь он даже таким гордым, каким был Михаэлс.
Мы старались держаться друг друга, почти ничего не говоря, изъясняясь самодельными жестами, рисунками, песенками и стишками. Михаэлс хорошо работал, плотно питался, дружбы ни с кем, кроме меня, не водил. Он твердо вставал на ноги каждое утро и подтягивался на одной из широких веток нашего дерева. Остальные смотрели на него с недоверием, потому что он не грустил от жизни, но и не наслаждался ею, а видел её как стройплощадку для своего неугомонного тела.
Что касается меня, то я быстро начал скучать по дому. Почти сразу после приезда я стал скучать. Я не беру в расчет первые несколько дней, освещенные нездоровым восторгом. Хотя я ничего о нем не помнил, о своем доме, меня там, кажется, не заставляли работать.
Я страдал не столько от изгнания, сколько от надобности сделать его своим новым домом. Я смотрел на Михаэлса и удивлялся, как весело ему это удается. И это ты называешь изгнанием? говорил его взгляд, когда руки у меня опускались. Мне было неловко, потому что прежнее время ушло, и я не решался обижать этих людей, называя их новую Родину местом насильственной ссылки.
Я хотел просто мирно уйти, но боялся умереть в дороге. Утром, выходя в поле, я смотрел по сторонам, за горизонт, размышляя о своем побеге. Я думал добраться до той деревни, в которой бил колокол, а дальше уж как получится. Эта мысль всё сильнее овладевала мной каждый вечер при виде пустой мошны, при виде изрытой земли за моей спиной, но больше всего — когда я оглядывал безграничные поля вокруг, оставленные на попечение кучке людей. Почему нам не присылали подмогу? Новые инструменты? Машины? Почему мы делали свою работу таким сермяжным способом, будто бы на изнанке у цивилизации, лицо которой — я хорошо это помнил — где-то существовало? Более того, даже изначальный предлог, который был мне обещан, — остался тайной. Я пытался спросить, чем же мы, собственно, занимаемся? И не понимал их объяснений. Казалось, чем проще были мои вопросы, тем изысканней они выбирали слова для своих ответов. Мне надоело и поле, и дерево, и приторный вкус картофеля, и далекая церковь, продолжавшая трезвонить надо всем этим беспорядком. Я долго размышлял о побеге, и уже как будто бы решился, когда однажды, в то время как все мы сидели под деревом, к нам подошли старшины и завели между собой разговор. Я почти не следил за его ходом — тем более, что понять я мог только малую часть, — но когда они встали лицом к деревне и начали увлеченно жестикулировать, я насторожился. Один из них указал пальцем в её сторону и задал какой-то вопрос. Второй ответил словом никто. Тогда первый снова посмотрел на деревню и недоверчиво переспросил, но второй, не дослушав вопроса, прервал его нетерпеливым жестом и твердо повторил: Никто, никто. Я хотел спросить, как же никто, как никто, если в деревне бьет колокол? Но я не знал, как сказать колокол. Тогда я окликнул их и указал пальцем прямо на церковь. Они меня не поняли. Тогда я изобразил звуки, похожие на звон колокола: Дин-дон! Дин-дон! Они начали смеяться надо мной, переглянулись и ушли по своим делам, продолжая смеяться на ходу. Тут кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел Михаэлса. Дожевывая кусок картофелины, он посмотрел на меня и сказал: Ветер. Я его понял, потому что знал слово ветер.
Мне всё снится один и тот же сон. Меня, наконец, отправляют в путешествие. Передо мной раскладывают карту и объясняют маршрут. Мне нужно будет перейти поле, но не с той стороны, где видны дома и возвышается купол церкви c колоколом. Я пойду в обратном направлении, туда, где горизонт усеян деревьями. На карте этот лес выглядит как большое продолговатое пятно. Я очень ясно вижу его границы. Мне нужно будет пересечь его. Лес будет редеть и начнется холмистая местность. Мне нужно будет достать компас и следовать на запад-северо-запад. Рельеф местности будет скрывать горизонт, пока в одной из впадин мне не откроется город. Я должен спуститься к нему ночью. Мне сказали, что если я доберусь до холма над городом днем, то нужно дождаться ночи и только тогда начинать спуск. Никто не должен видеть, как я пришел и откуда. Ты окажешься с тыльной стороны города, сказали мне, и все дома будут повернуты к тебе спинами. С этой стороны к городу будет вести только одна старая и широкая дорога, тебе необходимо найти её и следовать по ней. Не петляй по кочкам, а иди по дороге. Когда очертания домов перед тобой станут крупнеть, следи внимательно — от дороги отходит узкая тропа. Следи внимательно, потому что если ты пропустишь её, то провалишь всё дело. Она будет отходить вправо. Иди, прижимаясь к правому краю дороги, и следи за её границей в свете фонаря. Смело ступай на тропу. Она будет узкой, в ширину одного человека. Выключи фонарь — он тебе больше не понадобится. Тропу окружают высокие кусты, поэтому ты не собьешься с пути. Тропа приведет тебя прямо в город. Перед тобой вырастет широкое здание, повернутое спиной, как и другие. Ты уткнешься в дверь в его стене. Дверь будет открыта, о ней не знает никто, кроме тебя. Войди в неё и закрой за собой. Поднимись по лестнице до первого этажа. Направо будет длинный коридор с дверьми по обе стороны. Все двери, кроме той, что с номером 2, будут закрыты. Смело входи внутрь. Закрой за собой дверь. Жди.
Так говорил мне голос. И так я и делал. Во всех этих снах повторялось одно и то же. Я выходил рано утром, пересекал лес, блуждал по холмам со своим ручным компасом, останавливался на возвышении, ждал захода солнца и спускался. Дорога на половину заросла травой, которая пробивалась между старыми камнями, покрытыми толстым слоем песка и каменной пыли. Гладкие камни поблескивали в свете фонаря, а по сторонам черными тенями в небо утыкалась высокая трава. Я находил тропинку и спускался в город. В темноте я мог различить только темные силуэты зданий, и чем ближе я подходил, тем меньше их становилось, и перед глазами вырастало одно единственное, у двери которого моя дорога кончалась. Я останавливался и прислушивался. Вокруг в траве стрекотали кузнечики, из города доносились гулкие железные звуки. Я открывал дверь, поднимался по лестнице и останавливался в коридоре. В доме всегда царила мертвая тишина. Я не знаю, что происходило на других этажах, в других комнатах, никогда мне не приходило в голову изменить маршрут. И там, на дороге, сто раз я проходил по одному и тому же маршруту и ни разу не изменял его. Я мог бы продолжить идти не сворачивая. Я мог бы свернуть с дороги и пойти по холмам, в других направлениях, отграниченных только далеким горизонтом, который виднеется с их вершин, а не камнями разрушенной старой дороги или смятой травой на тропе. Они говорили, что это провалит всё дело. Но тысячу раз я делал всё, как они говорили, но так и не понял, в чем состояло это дело. Поскольку вот что происходило дальше.
Я шел по коридору, между разных дверей и искал дверь с номером 2. Я не ломился в другие, ведь мне сказали, что они заперты. Я открывал дверь с номером 2 и входил в комнату. У левой стены стояла аккуратно застеленная кровать, у правой — старый стеллаж из темного дерева. Напротив входа было единственное окно, и оно выходило на стену соседнего дома. Слева от двери хрипло гудел холодильник старой модели, с крошечным пустым морозильным отделом. Все его полки были заставлены консервными банками. Я подходил к кровати. На тумбочке возле неё стояла небольшая лампа с матовым зеленым абажуром. Из потолка торчал провод с лампочкой в двадцать ватт на конце. Я возвращался к двери и несколько раз тыкал в выключатель на стене. Ничего не происходило. Я пододвигал табуретку к центру комнаты и осматривал лампочку, которая была в полной исправности. Я слезал с табуретки и ставил её к окну. В окне была стена дома. Нужно было плотно прижаться правой щекой к стеклу, чтобы увидеть край улицы и дома на её противоположной стороне. В домах горели окна. Я садился на табуретку. Я протягивал руку к лампе, которая стояла на тумбочке, хватал шнур, отходивший от её основания, и нажимал на выключатель. Лампа загоралась. Я оглядывал комнату. Дверь, гудящий холодильник, кровать — всё это на фоне тёмно-бежевых обоев. Я выпускал из рук шнур от лампочки и поворачивался на табуретке. С другой стороны окна продолжались те же обои. У самого пола они прерывались двумя розетками, к одной из которых был подключен телефон. Я вставал с табуретки, брал трубку и слышал мерные гудки. Положив трубку на место, я подходил к шкафу и открывал его. Пусто. Закрывал шкаф. Делал еще один круг по комнате и садился на кровать. Мне сказали ждать. Я сидел и ждал.
Я видел этот сон много раз, он прекращался то раньше или позже. Поначалу он заканчивался тем, что я садился на кровать, откидывался на подушку, закрывал глаза — и просыпался. Но однажды я закрыл глаза, но ничего не произошло. Я лежал долго, слушая гул холодильника и стук своего сердца, но ничего не произошло. Я открыл глаза и начал ходить по комнате. Иногда сон так и начинался. Я открывал глаза и знал, где я, знал, как я сюда попал, потому что уже много раз видел это в других снах. Я вставал и знал, что слева будет окно, спереди шкаф, а справа холодильник. Но странным образом я вдруг снова переносился на дорогу, видел блестящие камни при свете фонаря и слышал стрекот кузнечиков. Или видел себя на тропинке, перед дверью. И затем снова в комнате. Такие мне стали видеться сны. В конце концов, я так свыкся со всей историей, что перестал удивляться.
Пока однажды я не проснулся на том же самом месте со странной тянущей болью во всем теле. Я открыл глаза и увидел потолок и край тёмно-бежевых обоев на стене справа. Я снова закрыл глаза и прислушался к тихой боли. Я не знал, что сплю, поэтому не мог хотеть проснуться. Я приподнялся на кровати и удостоверился, что я в знакомом месте. Как только я принял вертикальное положение, боль резко увеличилась. Я попытался встать на ноги, и она стала такой острой, что мне пришлось тут же опуститься обратно на кровать. Хотелось пить. Я подполз к маленькой раковине рядом с холодильником, повернул кран и подставил губы под холодную воду, от которой боль начала толчками разливаться по телу. Мне нужно было опуститься на пол, чтобы это прекратилось. Я подумал позвать кого-нибудь и прислушался. В доме, как всегда, было тихо. В окне повис вечер. Я просто сидел и ни о чем не думал. Мне ведь сказали ждать, я и решил, что буду сидеть и ждать, не делая никаких движений. Я просто оглядывал комнату, которую знал как свои пять пальцев. Когда мой взгляд остановился на телефоне, я вдруг вспомнил, что мне сообщили номер, по которому нужно позвонить в чрезвычайной ситуации. Но ситуация не была чрезвычайной.
Так мои сны приобрели тревожный оттенок, из-за этой боли, которая прибавилась к ним и вынудила меня вплоть до пробуждения оставаться в неподвижности в этой тёмной комнате, в тишине, погруженным в мысли, о которых ничего сказать не могу. Во сне как- то не замечаешь своих мыслей. Я перестал видеть дорогу, холмы, перестал видеть другие сны, остался только один, в котором я лежал в комнате и ничего не делал.
А потом у Михаэлса начались проблемы. Приближалась зима. Земля леденела, картошка мельчала. Холод обнаружил людей злобных и раздражительных. Все друг у друга воровали. И если кого-нибудь обворовывали, то он, вместо того чтобы жаловаться старшинам, шел и воровал у другого, потому что имел на это право. С этого и началось — Михаэлса обворовали, а он поймал вора. Он сказал ему: Ты вор. Но у всех были друзья, а больше всех у воров. Только у нас с Михаэлсом не было друзей. И когда Михаэлс сказал вору: Ты вор, то друзья вора набросились на Михаэлса и начали бить его кулаками. Михаэлс пошел к старшинам. Они сказали, чтобы он разбирался сам. Михаэлс вернулся к работе. Работать он стал угрюмо, в полсилы.
— Что-то я задумываюсь, — сказал он мне. — Значит — плохо.
А в другой раз у него прямо из-под носа вытряхнули мошну с картошкой, пока он ходил по нужде.
— Нельзя больше здесь, — говорил он мне, показывая в сторону леса вдалеке. — Там лес. Там земля. Там мир. Нужно встать и идти.
Затем, вечером, у костра, он поднял руку — в знак того, что ему есть что сказать. Все скривили лица, а старшины перестали разговаривать, и те, которые стояли к нему спиной, повернулись лицом.
— Нужно встать и идти, — сказал Михаэлс.
Никто ему не отвечал.
— Не выходит вместе. Будем искать. Видите лес? — спросил он и махнул рукой. — Там — граница. А значит — не ясно. Надо смотреть. Или — зима.
— Нам и здесь здорово, брат, — ответили ему.
— Вам здесь здорово, но плохо. Потому здорово, что хорошего мало.
— За хорошим собрался, Михаэлс? — выкрикнул кто-то.
— За хорошим, в лес?
— Сначала лес, но ничего не видно, — ответил Михаэлс. — А я там был.
Все встрепенулись.
— Где ты был?
— Я головой вижу — был, — ответил Михаэлс. — До жизни был. Как ты подумаешь сам, посмотри назад — тепло.
Но видно было — Михаэлсу никто не верил. Старшины молчали и кивали, довольные. А с Михаэлсом после этого перестали разговаривать. А потом началось совершенное безобразие. Один человек жаловался старшине:
— Взял у меня без платы!
— Что? Украл?
— Украл, украл! Я на зимнее время — такой мешок кладу. Ничего нет. Мне сказали — Михаэлс взял. Ему много надо — большой и в границу собрался — понятно. Его видели!
— Кто видел?
— Два есть тех, кто видел. Я считаю, что он — собирает, потом — в границу — себе, чтобы жить или купить жить, потому что не ясно, кого там и где, понимаете?
— Ни черта не понимаю, друг.
— Он и вас, систему, не уважает. Он говорил — уйти! То есть вы тут работаете, а он — уйти. Значит — не доволен. Говорит, что задумываться удалось. Говорит — зима. Все спрашивают — мы здесь — все и разом — не умрем. А он — зима и зима. Я даже слышал, говорит — старшины — они вам хуже. Только встаньте прямо — вам хуже.
И Михаэлсу досталось. Пришли старшины и заставили отдать картошку. А он ничего не крал. Он говорит: Не крал. А вокруг: Крал! Крал! И старшины: Уж извини! И забирают, что есть. Так все и повадились бегать на него жаловаться, потому что увидели, что можно.
Михаэлс перестал работать и исхудал. А я жил почти что по-прежнему. Мне не очень попадало, потому что я особенно не высовывался. Только смотрели косо, когда я разговаривал с Михаэлсом и носил ему еду. Но есть он стал всё меньше.
— Нельзя работать — нельзя быть, — говорил он.
— Почему же нельзя работать? — спрашивал я.
— Работа — не еда, — отвечал он.
Михаэлс днями сидел у нашего дерева и смотрел на горизонт. Его исполинское тело отощало и оттого выросло в длину. Раз пришел к нему старшина и говорит :
— Ты зачем умирать собрался?
Михаэлс ему ничего не ответил.
— Так умирать нельзя, друг. Видишь, все на тебя смотрят. Чего тебе надо? Но Михаэлс ничего не отвечал.
— Ты вот говоришь, что я — зло, — продолжал старшина. — А я тебе никакого зла не делаю. Говоришь, что я зло, а объясняться со мной не хочешь. Как же тут что-нибудь решить?
Михаэлс сидел молча, как и прежде, и вглядывался в лица остальных.
Народ привык к нему, начал обходить его стороной и усаживаться по другую сторону дерева. Они жгли костры, а я смотрел, как он умирает без света. Тогда я начал разводить костер рядом с ним, но он замахал руками и закрыл глаза. Я всё боялся, что в одну из этих ночей он умрет и не проснется, но пока что он еще просыпается.
А я всё вижу один сон. Он не дает мне покоя ночами. Мне даже кажется, мне это даже кажется вполне вероятным, что я от этого сна умру еще раньше, чем Михаэлс от своей голодовки. Потому что в этом сне я лежу в комнате, а всё тело у меня болит. Понять этой боли я не могу, она живет где-то внутри, где-то в области живота и еще выше. Я пытаюсь пить воду, смотрю в окно, достаю консервы из холодильника, но всё бесполезно — всё это не имеет отношения к моей боли. Только лягу — она чуть-чуть стихает, и кажется, что так можно жить, лежа. Но, в конце концов, так жить тоже нельзя. Я сползаю и тянусь рукой к телефону. Я снимаю трубку и набираю номер — единственный номер, который знаю.
— Алло, — говорят оттуда.
Это самое алло говорят на неродном мне языке, на нашем общем языке.
Я не знаю слова скорая.
— Больно! — говорю я.
От усилия, которого стоит это слово, боль растет.
— Что вы говорите?
— Больно!
Боль вспыхивает с новой силой. Если я сплю, то я, наверное, в поту.
— Ваш адрес? — спрашивает голос.
— Что?! — растерянно выкрикиваю я.
— Не беспокойтесь. Скажите ваш адрес.
Мой адрес?
Какая-то мысль мелькает у меня в голове. Я смотрю в окно, оглядываюсь по сторонам.
— У меня… нет, — говорю я.
Последнее нет дается мне уже совсем через силу.
А оттуда всё доносится женский голос, и он всё спрашивает меня об одном и том же, и будь я даже в силах ответить, не знаю, что бы я такого ответил.
Иллюстрация на обложке статьи: Henry McCausland


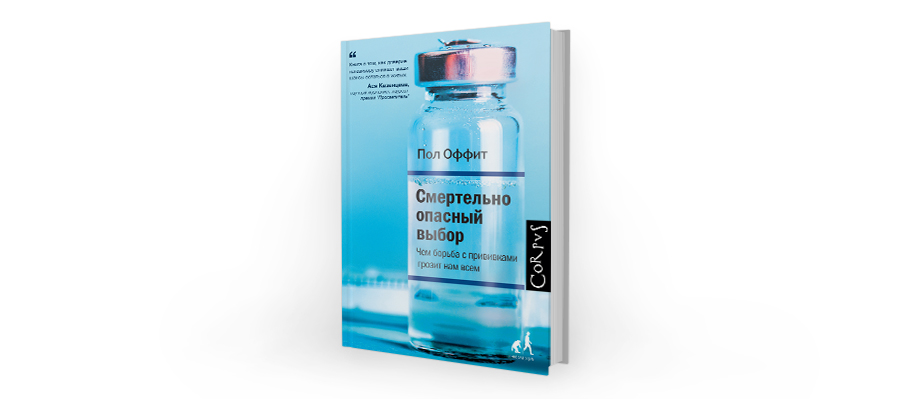



 Круглый стол посвящен 105-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева. В дискуссии пойдет речь о следующих вопросах: истоки и эволюция концептуальных идей Л.Н. Гумилева, личность и идеи Л.Н. Гумилева в восприятии отечественных ученых, общественных и политических деятелей — и многих других.
Круглый стол посвящен 105-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева. В дискуссии пойдет речь о следующих вопросах: истоки и эволюция концептуальных идей Л.Н. Гумилева, личность и идеи Л.Н. Гумилева в восприятии отечественных ученых, общественных и политических деятелей — и многих других. Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, биограф, журналист, преподаватель, литературный критик, радио- и телеведущий. Его новый роман — литературное событие. Три самостоятельные истории, три разных жанра. Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент знаменитого ИФЛИ. Драма советского журналиста: любовь и измена, эмиграция и донос, арест и предательство. Гротескная, конспирологическая сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы управления миром с помощью языка и текста. В центре всех историй — двадцатый век, предчувствие войны и судьбы людей в их столкновении с эпохой. Автор ответит на вопросы читателей, расскажет о своих творческих планах и проведет автограф-сессию.
Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, биограф, журналист, преподаватель, литературный критик, радио- и телеведущий. Его новый роман — литературное событие. Три самостоятельные истории, три разных жанра. Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент знаменитого ИФЛИ. Драма советского журналиста: любовь и измена, эмиграция и донос, арест и предательство. Гротескная, конспирологическая сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы управления миром с помощью языка и текста. В центре всех историй — двадцатый век, предчувствие войны и судьбы людей в их столкновении с эпохой. Автор ответит на вопросы читателей, расскажет о своих творческих планах и проведет автограф-сессию. Литературный клуб — серия встреч для интересующихся современной прозой. Йоэль Регев — философ, доктор наук, автор книг «Коинсидентология: краткий трактат о методе» и «Невозможное и совпадение: о революционной ситуации в философии». Лекция посвящена книге французского философа Квентина Мейясу «Число и Сирена», в которой автор предпринимает попытку расшифровки поэмы Стефана Малларме «Бросок костей» — одного из самых загадочных поэтических текстов конца XIX века.
Литературный клуб — серия встреч для интересующихся современной прозой. Йоэль Регев — философ, доктор наук, автор книг «Коинсидентология: краткий трактат о методе» и «Невозможное и совпадение: о революционной ситуации в философии». Лекция посвящена книге французского философа Квентина Мейясу «Число и Сирена», в которой автор предпринимает попытку расшифровки поэмы Стефана Малларме «Бросок костей» — одного из самых загадочных поэтических текстов конца XIX века. Борис Аверин — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, один из крупнейших специалистов по Набокову.
Борис Аверин — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, один из крупнейших специалистов по Набокову. Четвертого октября состоится очередное заседание литературного клуба, где речь пойдет о романе Льва Толстого «Анна Каренина».
Четвертого октября состоится очередное заседание литературного клуба, где речь пойдет о романе Льва Толстого «Анна Каренина». Открытие 13-го сезона в Литературном салоне Андрея Коровина в «Булгаковском доме». Вечер чтения стихов молодых поэтов. Участвуют: Нина Александрова (Екатеринбург), Ростислав Амелин, Евгения Джен Баранова, Александр Буланов, Антон Васецкий, Григорий Горнов, Маруся Гуляева, Олег Демидов, Дарья Ильгова, Полина Корицкая, Евгения Коробкова, Юлия Крылова, Борис Кутенков, Ольга Литвинова, Петр Лодыгин, Анна Маркина, Лиза Неклесса, Анна Орлицкая, Рада Орлова, Люба Правда, Евгения Ульянкина, Анна Харитонова, Александра Шалашова, Григорий Шувалов и другие.
Открытие 13-го сезона в Литературном салоне Андрея Коровина в «Булгаковском доме». Вечер чтения стихов молодых поэтов. Участвуют: Нина Александрова (Екатеринбург), Ростислав Амелин, Евгения Джен Баранова, Александр Буланов, Антон Васецкий, Григорий Горнов, Маруся Гуляева, Олег Демидов, Дарья Ильгова, Полина Корицкая, Евгения Коробкова, Юлия Крылова, Борис Кутенков, Ольга Литвинова, Петр Лодыгин, Анна Маркина, Лиза Неклесса, Анна Орлицкая, Рада Орлова, Люба Правда, Евгения Ульянкина, Анна Харитонова, Александра Шалашова, Григорий Шувалов и другие. Историк, преподаватель СПбГИК Борис Григорьевич Кипнис прочтет лекцию «А. С. Грибоедов», в рамках которой слушатели познакомятся с биографией, творчеством, а также петербургскими местами писателя и дипломата.
Историк, преподаватель СПбГИК Борис Григорьевич Кипнис прочтет лекцию «А. С. Грибоедов», в рамках которой слушатели познакомятся с биографией, творчеством, а также петербургскими местами писателя и дипломата.  Встреча с филологом Алексеем Вдовиным и презентация его книги из серии ЖЗЛ «Н.А. Добролюбов: разночинец между духом и плотью». Алексей Вдовин — историк русской литературы, эстетики и критики XIX века. PhD, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
Встреча с филологом Алексеем Вдовиным и презентация его книги из серии ЖЗЛ «Н.А. Добролюбов: разночинец между духом и плотью». Алексей Вдовин — историк русской литературы, эстетики и критики XIX века. PhD, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и исследовательский центр «Прагмема» продолжают цикл лекций о культуре и искусстве в рамках программы БДТ «Эпоха просвещения». 8 октября филолог Петр Бухаркин прочтет лекцию «М.В. Ломоносов в споре с «норманнской» теорией». Она будет посвящена тому, как воззрения Ломоносова-историка повлияли на творчество Ломоносова-поэта.
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и исследовательский центр «Прагмема» продолжают цикл лекций о культуре и искусстве в рамках программы БДТ «Эпоха просвещения». 8 октября филолог Петр Бухаркин прочтет лекцию «М.В. Ломоносов в споре с «норманнской» теорией». Она будет посвящена тому, как воззрения Ломоносова-историка повлияли на творчество Ломоносова-поэта. Лекция Артема Новиченкова о нобелевском лауреате этого года. На лекции речь пойдет о том, как писатель расширяет границы жанров, можно ли отнести его к какому-то определенному литературному направлению и почему литературный мир называет именно Исигуро самым бесспорным лауреатом сегодняшнего дня и по-настоящему «большим писателем».
Лекция Артема Новиченкова о нобелевском лауреате этого года. На лекции речь пойдет о том, как писатель расширяет границы жанров, можно ли отнести его к какому-то определенному литературному направлению и почему литературный мир называет именно Исигуро самым бесспорным лауреатом сегодняшнего дня и по-настоящему «большим писателем». «Читаем. Размышляем. Обсуждаем» — это проект для всех, кто сознает, как важно не только уметь читать, но и понимать содержание текста, а также выражать свои мысли. Тема ближайшей встречи — «Д. Мережковский. „Человек эпохи возрождения“».
«Читаем. Размышляем. Обсуждаем» — это проект для всех, кто сознает, как важно не только уметь читать, но и понимать содержание текста, а также выражать свои мысли. Тема ближайшей встречи — «Д. Мережковский. „Человек эпохи возрождения“». Роман Шмараков — филолог, переводчик-латинист и писатель. Он расскажет о новелле «История о двух влюбленных», написанной в 1444 году будущим папой римским Пием II.
Роман Шмараков — филолог, переводчик-латинист и писатель. Он расскажет о новелле «История о двух влюбленных», написанной в 1444 году будущим папой римским Пием II. Марио Варгас Льоса — всемирно известный перуанский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор книг «Город и псы», «Тетушка Хулия и писака», «Зеленый дом», «Скромный герой» и др. 10 октября он проведет автограф-сессию, ответит на вопросы читателей, а на следующий день даст открытое интервью журналисту, главному редактору портала «Горький» Константину Мильчину.
Марио Варгас Льоса — всемирно известный перуанский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор книг «Город и псы», «Тетушка Хулия и писака», «Зеленый дом», «Скромный герой» и др. 10 октября он проведет автограф-сессию, ответит на вопросы читателей, а на следующий день даст открытое интервью журналисту, главному редактору портала «Горький» Константину Мильчину. После присуждения Нобелевской премии за 2017 год книжный обозреватель Галина Юзефович расскажет об истории премии и о недооцененных книгах нобелевских лауреатов прежних лет.
После присуждения Нобелевской премии за 2017 год книжный обозреватель Галина Юзефович расскажет об истории премии и о недооцененных книгах нобелевских лауреатов прежних лет. Ксения Букша — писатель, поэт. Автор книги «Жизнь господина Хашим Мансурова», сборника рассказов «Мы живём неправильно», биографии Казимира Малевича, романа «Завод “Свобода”», удостоенного премии «Национальный бестселлер» и недавно вышедшего романа «Рамка». На встрече Ксения Букша прочтет свои новые стихи.
Ксения Букша — писатель, поэт. Автор книги «Жизнь господина Хашим Мансурова», сборника рассказов «Мы живём неправильно», биографии Казимира Малевича, романа «Завод “Свобода”», удостоенного премии «Национальный бестселлер» и недавно вышедшего романа «Рамка». На встрече Ксения Букша прочтет свои новые стихи. В библиотеке имени В. В. Маяковского пройдет однодневный фестиваль, в рамках которого состоится лекция о жанрах книжной критики, диалог о современном литературном процессе, игра формата «Что? Где? Когда?», а также литературный суд над Велимиром Хлебниковым.
В библиотеке имени В. В. Маяковского пройдет однодневный фестиваль, в рамках которого состоится лекция о жанрах книжной критики, диалог о современном литературном процессе, игра формата «Что? Где? Когда?», а также литературный суд над Велимиром Хлебниковым.



