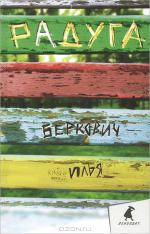- Илья Беркович. Радуга. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 224 с.
Поэт и прозаик Илья Беркович родился в Ленинграде, но уже почти четверть века живет в маленьком городке в Иудее, где зарабатывает на жизнь переплетным делом. Герой его повести «Радуга» — писатель, разбирающий записки друга юности, из которых рождаются пронзительные и до мелочей точные воспоминания о ленинградской окраине 1970-х.
4
На последней странице журнала чернел электронный адрес редакции, но для Козлевича это было, как сложить из листов с рассказами кораблики и пустить их в водосточную трубу.
С текстами в прозрачном пакете Козлевич пришел на презентацию нового номера.
Люди в фойе кучковались, обнимались, высокий седокудрый дядя и женщина с бледным, как бы слепым лицом метнули друг в друга взгляды и демонстративно не поздоровались.
— Лио-ора пришла, краси-ивая, — протянули сбоку.
Все знали друг друга. Только Козлевич был чужой. Он робко занял место на камчатке, у стены. Ряды затылков перед ним были седыми и лысыми. Козлевич не подумал, как выглядит сзади его собственная голова. Вообще, народ в зале собрался видный, пузатый, по-южному уверенный, с крупны ми носами, выпуклыми глаз ми и рельефными морщинами, не было ни липковолосых литбомжей в старых джинсах, ни худых поэтических старушонок.
Вечер напоминал поездку в машине времени, двигавшейся возвратно-поступательно: туда-сюда. Физик и лирик в песне энергичного барда из Беер-Шевы спорили, что же все-таки первично — материя или дух? Дама в синем костюме, с манерами администратора среднего звена, читала рассказ, который мог бы написать вылеченный антидепрессантами Достоевский.
Пели песни военных лет (дело было под 9 мая). Затем на сцену поднялся рослый человек, представился Андреем и начал рассказывать о недавно умершем своем и журнала друге Володе. Под потолком, над сценой, висели деревянные рамы. Будь Андрей сантиметров на десять выше, его лицо угодило бы в раму. А так рама или, скорее, рамка заслоняла ему подбородок, нос и глаза. Виден был только полуседой чуб. Впрочем, долго говорить Андрею не дали. Маленький человек скоро начал сгонять оратора — и согнал. Тут Козлевич понял, что это и есть хозяин журнала. Он, а не сидевшая рядом с ним за столом ведущих дама в синем костюме. Козлевич обрадовался: дама внушала ему робость, а маленький человек нравился: он откровенно не заботился о своем виде и достоинстве, а только о том, как идет вечер. И вечер, благодаря его рулю, шел живо и гладко.
Козлевич, однако, искал глазами протекции. Протекция нашлась: у каждого русского еврея есть хоть один знакомый литератор. Козлевич был представлен редактору, который, не чинясь, взял у него па кет.
На следующую презентацию Козлевич пришел уже автором, одним из тридцати «напечатанных». На сцену он не полез, но приободрился и за месяц написал еще несколько коротких рассказов. Рассказы были о виденном и слышанном. О новой округе.
О взрыве, от которого проснулся. Подумал: что за диверсии ночью? Спать! И заснул. На завтра (был выходной) пошел в торговый центр за хлебом. Вместо единственного в квартале бара чернел горелый пролом. Бар был вырван, как гнилой зуб. Портреты Элвиса Пресли, полка с пыльной бутылкой виски, стойка, за которой причесанный под Элвиса пожилой, до смерти недовольный судьбой юноша в джинсах и кожанке, вздыхая, продавал сосиски и сигареты, исчезли. Над развалинами курились разговоры зевак:
— Люди не хотят работать. Хотят легких денег.
— Взрывал бы сам свой бар. А то нанял солдата, солдат обжегся и все в больнице рассказал.
— Вместо страховки будет сидеть.
Зеваки не понимали, что хозяину бара было все равно. Взорвалась калифорнийская меч та. Мечта, привезенная им из Калифорнии, вздулась и лопнула в нашем квартале, где ни кто не подъезжает к бару в открытой красной машине и не заказывает двойной Jack Daniels, а все ходят мимо в шлепанцах, лузгают семечки и покупают билеты «Спортлото».
Неделю душа мечты висела на месте взорванного бара, а потом расчищенный, оштукатуренный пролом заняла фалафельная лавка, сидя перед которой хозяин и бывший таксист Жожо громко играли в кости.
Следующий рассказ звался «Победа управдома»:
«— Я знаю только, что у царицы проблемы, — сказала женщина в кофте с широкими рукавами и капюшоном, по самые очки закутанная в белую шаль.
— При чем тут царица? — спросил жилец Натанзон, фотографируя лужу на газоне вокруг прорванной трубы.
— Вы, русские, не понимаете ничего!
— Объясни, может, поймем.
— Если к вечеру в доме не будет воды, царица Суббота окажется в изгнании!
— Заплати, — подступил к женщине управдом, — и к Субботе трубу починят!
— Как я заплачу? Я должна спросить раз решения у мужа, а муж в Шомроне!
— Так позвони мужу!
— Как я позвоню? Я могу только отвечать на звонки. Я заблокировала свой мобильник, чтобы не злословить. Злословие убивает душу.
— Вот тебе мой мобильник!
— Я знаю только одно. Без воды в Субботу я не буду в своем доме царицей. Я буду грязной служанкой…»
Потом Козлевич описал ночное купе поезда Лондон — Париж и гневную речь Вовы Раскина над телом в жопу пьяного брата Сени:
«— Ты что мне, дворняга, наделал? Я поехал-то в эту Европу, что бы доказать: если за границу съезжу, значит, я уже не совок. А теперь ты, дворняга, при всех нажрался, выходит, опять мы с тобой совки?!»
Козлевич направлял лупу на участочки, сегменты действительности. Освещенные его вниманием места и предметы увеличивались, нагревались, казалось — сейчас над ними начнет куриться дымок. После описания места темнели, гасли, становились неинтересными и навсегда сливались с окружающим. Козлевич изучил свой квартал до бродячих собак и кошек, он знал, у кого из соседей что болит, и вплетал в свои описания обрывки их разговоров, а все-таки чувствовал, что знает недостаточно, извне. Недаром он назвал свой цикл «Вижу из окна». Козлевич стал задумываться: «А что я, собственно, знаю изнутри?»
И, сняв ботинки, он вошел сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в реку прежней жизни, которая течет в голове каждого эмигранта. Река эта протекает через Уткину заводь, откуда сотрудники уезжали в колхоз, через институтскую курилку, она течет мимо деревянных грибов детского сада. Все слои прежней жизни в ней смешиваются, но дома остаются прежними, и люди не стареют. И, ныряя в прошлое, шаря руками по его дну, Козлевич заметил, что вода стала мутной, как разбавленный арак. Он не видел, не помнил подробностей. Их придется придумывать, долепливать. Но если готовых, цельных слоев воспоминаний нет, если тяжелая работа неизбежна, надо выбрать для реставрации главное время, главный слой. Козлевич выбрал раннюю юность. Выбрал, чтобы понять.
И еще: Козлевич подсознательно надеялся, что если он опишет, то есть осветит и согреет, родной ленинградский микрорайон, то потом тот остынет, померкнет и оставит, наконец, Козлевича в покое. И Козлевич сможет сосредоточиться на иерусалимском районе, в котором живет сейчас, и перестанет, огибая деревья прошлого, натыкаться на фонарные столбы настоящего.
5
Козлевич полез под диван, где в кожаном черном бауле лежали тетради и папки. Просмотрел со стыдом бесполезные для начатого дела юношеские стихи. Почитал свои фальшивые от неловкости дневниковые записи, которые торчали, как чучела, не способные даже коснуться растопыренными подобиями рук пронзительного воздуха юности. Развязав серые, вялые, как макароны, шнурки, открыл папку из дрянного картона. В папке лежали примерно пятьдесят исписанных чужим почерком листов. Листы эти не были ни подсунуты Козлевичу под дверь, ни выброшены на берег моря в литровой, запечатанной сургучом бутылке, их не прислали в конверте без обратного адреса. Козлевич получил рукопись при совершенно обычных обстоятельствах. Эти записки девятнадцать лет назад в пьяном виде передал Козлевичу друг его юности Вова Ложкин. Никто никогда не относился всерьез к каракулям желтолицего, к двадцати годам спившегося Вовы, который не знал запятых и часто употреблял слово «если б». И Козлевич вроде не относился. Но он девятнадцать лет хранил папку, привез ее в Израиль и сейчас закрыл усталые от чтения слепой рукописи глаза и увидел мерцающий, пунктирный очерк будущей повести.
Ложкин писал эссе, реже — сюжетные отрывки о юной жизни. Надо было построить из них связную вещь. Козлевич, по образованию проектировщик мостов и тоннелей, не испугался. Какие-то куски он соединил аккуратным мостиком, где-то прорыл тоннель.
Многого не хватало. Строилось гораздо сложнее, чем соединялось: Ложкин был мыслитель, Козлевич — всего лишь стилист, а писать приходилось под Ложкина. Ложкин был (якобы) человек из народа.Козлевич, интеллигент и еврей, считал его настоящим, а себя — нет. Видя, что стилизация выходит грубо, Козлевич начал заменять тексты Ложкина своими. Его постройки стали теснить ложкинские, и в готовом виде повесть походила на лондонскую улицу, куда туристов водят смотреть XVI век, хотя домов XVI века осталось пять, и их узкие породистые фасады стиснуты широкими и безликими домами девятнадцатого, как парусники льдами.
Доведя текст до неплохой однородности, Козлевич стал думать, куда бы его пристроить. Ему показалось, что написанное о России лучше в России и печатать.
Рубрика: Отрывки
Глеб Шульпяков. Музей имени Данте
- Глеб Шульпяков. Музей имени Данте. — М.: Эксмо, 2013. — 416 с.
Часть I
1. ОСТАНОВКА В ТАЙГЕ
Через два часа мотор глохнет, машина скатывается на обочину. В тишине что-то потрескивает, механический сверчок под капотом допевает, дотягивает свою песню. Но вскоре он стихает.— Сева!
Тишина.
— Всеволод Юрьич, — я оборачиваюсь.
Сева — редактор программы, которую мы снимаем. По образованию он историк. В наушниках у Севы музыка, и я просто разглядываю его в зеркале. Лицо, покрытое редкой щетиной, невидящий взгляд. Он даже не заметил, что мы сломались.
Водитель палец за пальцем натягивает перчатки. Над лобовым стеклом у него пришпилена фотография мальчишки, это его сын. Перед тем как выйти из машины, он поднимает глаза на карточку.
От удара дверью по кабине прокатывается волна холода. Через стекло видно, как водитель угрюмо, словно машина сама должна ответить, что случилось, разглядывает радиатор. Сплевывает, садится.
Я застегиваю куртку и вылезаю. Грунт мерзлый, камни покрыты седым налетом. Пустая дорога рассекает тайгу, как след от бритвенной машинки. Ветра нет — на сопках видно, как мелко выточены зубцы елок. Ярко желтеют березы и горит красный семафор — клен или осина.
С обочины тропа забирает вверх. На холме можно снова проверить телефон, но чудес не бывает, связи нет. А дальше спуск, и стопки опавших листьев пружинят под ногами.
На дне оврага родник, он обложен замшелыми бревнами. Увеличенные водной линзой, со дна выпукло белеют камни.
Вода ледяная, пахнет железом; пью до ломоты в зубах. Куртка у меня непромокаемая, можно лечь прямо на листья. Закрываю глаза. Голоса на дороге почти не слышны и тишина, нарушенная моим приходом, восстанавливается.
Худшее позади, но что именно? Ведь ничего особенного не случилось. И я лежу до тех пор, пока холод не проникает под куртку.
С триколором и логотипами федерального канала наш фургон посреди тайги похож на игрушку. Так нелепа банка из-под «колы», на которую натыкаешься в лесу, или пустая сигаретная пачка на пляже.
Народ уже на дороге — курят, проверяют телефоны. Из машины выбрался Михал Геннадьич, или дядя Миша, как называют режиссера в группе; с азартом хорошо выспавшегося человека дядя Миша осматривает машину.
— Масло, шланг, — выдает приговор. — Хана, Игорек.
Через минуту снова его голос:
— «Он ей: „Мне? Семьдесят!“
Анекдот старый и дядю Мишу никто не слушает.
— „Я бы вам не дала!“ — Она».
Дядя Миша умоляюще смотрит на Севу.
— «Да мне уже и не нужно…»
Тот, лузгая семечки, кивает.
Дядя Миша повторяет уже про себя:
— Да мне уже и не нужно.
Я пересчитываю людей. Поверить, что нашего осветителя увезли в больницу утром, невозможно. После сотни километров по тайге такое ощущение, что из города уехали неделю назад. Но это не так, еще утром мы были в Двинске.
Перед глазами серое, испуганное лицо, как он оправдывался с носилок: «Что-то с желудком, тушенка или пиво». Пытался раздвинуть побелевшие губы. А я даже не знал его имени.
Но график есть график, и мы выехали из Двинска без него. По дороге я думаю не о том, как мы обойдемся без света — свет может поставить оператор или дядя Миша, — а как нам, в сущности, повезло. Что если бы его аппендицит открылся в тайге? В сломанной машине за двести километров от ближайшей больницы? Вот человек шутит, со всеми смеется. Поддакивает: «Пить надо меньше». А потом лежит на заднем сиденье и стонет от боли. И никто ничем не может помочь ему, никто и ничем.
Спроси себя: что бы ты чувствовал, глядя, как он умирает? Сострадание? Брезгливость? Или досаду, что график сорван и надо возиться с телом? Вглядываясь в лица людей в фургоне — разных убеждений, возраста и опыта, которых судьба свела под крышей одной машины, — я понимаю, что этот вопрос сейчас задает себе каждый. И ответ у каждого тоже свой.
Через два часа алкоголь выпит, анекдоты кончились. Сумерки. Уже не различить ни той красной осины, ни березы. Верхушки деревьев сливаются в темную полоску, сквозь которую едва сочится закат. Холодно.
Эта полоска напоминает ленту пишущей машинки. Когда верхняя часть покрывалась пробоинами, катушки меняли местами. Смешно, что пальцы до сих пор помнят это движение. Сколько все-таки ерунды хранится в человеческой памяти!
Мне хочется спросить Севу, ведь он тоже наверняка печатал на машинке. Но в этот момент дверь с лязгом отодвигается:
— Нет, нету.
В салон влезает техник, пожилой, но шустрый малый. Он успел залезть на соседнюю сопку проверить связь.
В машине пахнет пивом и сушеной рыбой. Звуковик, со всеми ровный красавец-белорус Витя, уткнулся в компьютер и флегматично убивает кого-то на экране. Оператор включил фонарик и читает. Дядя Миша после перцовки дремлет. У Севы музыка.
Чем ближе ночь, тем меньше шансов, что сегодня нас вытащат. Надо готовиться к худшему — к ночевке. Сколько у нас еды? алкоголя? О том, что завтра утром катер и нас ждут на Острове, лучше не думать.
Час проходит в тоскливой дремоте, как вдруг по потолку пробегают блики. Два желтка, фары! Толкаясь, наши высыпают на дорогу. Мы кричим, поднимаем зажигалки — словно вокруг море и нужно, чтобы с корабля нас заметили.
Шелестя щебенкой, старенький «Москвич» тормозит. Сева проворно обходит машину.
— Прошу прощения, — нагибается к окну. — Позвольте представиться, мое удостоверение… Так неловко, но…
За рулем немолодая женщина. Взгляд спокойный, оценивающий. Предупреждает сразу:
— Только два свободных.
Я забираю из фургона сумку и сажусь на переднее.
— Не мешает? — она показывает на саженец. — Из Двинска, еду на дачу. Посадить.
— Что вы.
Салон забит пустыми банками, свободных мест, действительно, только два. Раздав указания, Сева устраивается тоже, мы трогаемся. Когда машина набирает скорость, банки в коробках дребезжат, а силуэты на дороге растворяются в сумерках. Жалко бросать их, уезжать в теплой машине. Но таков порядок: можно заменить оператора и арендовать новую машину, можно снять передачу без режиссера и звукооператора, но без редактора и ведущего передачи нет, и поэтому мы обязаны покинуть тонущий корабль первыми.
— Удача, — говорит женщина.
— То есть?
Она по-северному окает:
— По выходным-то машины редко.
Ей хочется узнать побольше — кто мы и что снимаем в этой глухомани. Но спросить она не решается, и Сева сам все рассказывает.
Саженец в ногах рвет карту. Кянда, Тамица, какие-то безымянные точки и кочки: между Двинской и Онежской губой тайга, населенных пунктов почти нет. Действительно, повезло.
В полудреме я вспоминаю Двинск, съемки на «Севмаше». Огромный короб храма и часовню-парикмахерскую. Стены с мотками колючей проволоки и смотровые вышки.
После досмотра на КПП наш фургон медленно едет по заводской территории. Пейзаж в окне сталкеровский — металлолом, остовы товарных вагонов, ржавые эллинги. Огромные кольца свалены вдоль дороги. Они похожи на секции трубопровода, только покрытые толстым слоем резины. И я понимаю, что это такое. Откуда у подводных лодок черный матовый цвет.
Между ангарами мелькает вода, но вид на море закрывает стальная стена. Поднятый на сушу, корабль на стапелях похож на элеватор.
— Продали в Индию, — говорит девушка. — Чинят.
Эту девушку приставили из отдела внутренней охраны, и мы с Севой сразу прозвали ее «особистка». Улыбчивая, хамоватая. В штатском, сквозь которое все равно заметна военная выправка. Как прямо держит спину, быстрый поворот головы. Аккуратное движение — поправить под беретиком светлые волосы.
На все вопросы девушка молчит или многозначительно улыбается. Она рада, что завод произвел впечатление, хотя осадок после того, что я вижу, тяжелый. Все-таки завод строили заключенные. К тому же, глядя на корпуса с выбитыми окнами и кварталы брошенных бараков, на людей, трясущихся в вагонетках, трудно поверить, что здесь поднимают атомный флот страны, великую «кузькину мать». Однако это так, отчего на душе делается еще тоскливее.
В перерыве между съемками я отправился побродить вокруг храма с камерой — поснимать, что осталось. Но «особистка» следила за мной и теперь снисходительно, хотя и строго, отчитывает:
— С фотоаппаратом не положено.
Меня вдруг захлестывает ярость. Я поднимаю камеру и навожу на нее; слепя вспышкой, щелкаю. Она попыталась придать лицу выражение, как в журналах, но потом опустила голову и краска залила ее красивое, с тяжелыми скулами, лицо.
Никаких вопросов я не задавал ей — ни в стекляшке «Осьминог», где мы встретились после работы, ни в узкой гостиничной койке, куда мне без труда удалось затащить ее.
В какой-то момент, усевшись в ногах, она обняла мои ноги и прижала левую ступню к левой груди, а правую к правой. Заставила мять, приподнимать, сдавливать.
Провожая девушку ночью, я показал распечатку из Интернета. Это был снимок из космоса, где то, что они запрещали снимать нам, лежало как на ладони. В ответ она поправила светлые волосы и пожала плечами, обнажив в улыбке крупные ровные зубы.
Из полудремы меня выдергивает звонок.
Связь есть, номер местный.
— Ну где вы? — это Степанов из Устья. — Утром же на Остров! Прилив!
Я рассказываю, что случилось; куда выслать машину, чтобы забрать ребят и вытащить фургон; звоню, пока связь, в Двинск.
К телефону в больнице долго не подходят, наконец трубку снимают.
— Вас беспокоит съемочная группа… Мы хотим узнать, в каком состоянии наш коллега…
Сева подсказывает, как зовут осветителя.
Шелест бумаги, голоса.
— К сожалению…
— Что? — из-за двигателя не слышно. — Повторите!
— Умер — на — операционном — столе, — диктует ровный женский голос.
Сева забирает трубку, а я чувствую, как в одну секунду жизнь бесповоротно изменилась и в то же время осталась прежней. Сознавая это и что ничего не исправить, хочется орать и бить стекла. Но вместо этого тупо смотришь в окно — на лес и как за деревьями блестят заводи и лужи; на берег моря, утыканный серыми избами.
— Это после отлива, — женщина показывает на лужи на песке. — Что-то случилось?
— Все в порядке.
В тайге ночь, а на берегу светло. Вода отливает ртутным светом. Он мерцает до горизонта, где море упирается в тучи, сваленные, как старая мебель.
Фары выхватывают пустые остановки и мусорные контейнеры, темные зарешеченные балконы, ветки и провода. Ни вывесок, ни витрин в городе нет. Фонарь на перекрестке или окошко — вот и все освещение.
Пока выгружаем вещи, пока хозяин отгоняет собаку и гремит ключами — та, на «Москвиче», что спасла нас, исчезает. Благодарить некого.
Хозяин стоит против света, лица не видно.
— Степанов, — протягивает руку.
Ладонь теплая и мягкая, и от этого рукопожатия мне как-то спокойнее. Я даже улыбаюсь. При свете лампы Степанов — невысокий мужик лет пятидесяти, с круглым курносым лицом.
Спортивная куртка, на голове кожаная кепка-шлем. Резиновые сапоги с отворотами в шотландскую клетку. Взгляд из-под белесых бровей короткий, ощупывающий. Он не музейщик, никакого музея в Устье нет. Он хозяйственник. Остров и монастырь в его ведении.
Наспех, уткнувшись в тарелки, ужинаем. Время от времени телефон трезвонит, и Сева о чем-то договаривается, устало и по-будничному разрешая последствия того страшного, что на нас обрушилось.
Очарованный остров. Новые сказки об Италии
- Очарованный остров. Новые сказки об Италии. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 304 с.
Виктор Ерофеев
Моя дурацкая история
На днях моя итальянская подруга К.
прислала мне мейл с поздравлением:
мы знакомы двадцать лет!Я ответил ей нежной, ничего не
значащей дружеской запиской (мы —
друзья) и подумал: «Вот уже двадцать
лет я бы мог быть итальянцем. Разбил ей — отчасти — жизнь».Все русские до изнеможения обожают Италию. Даже те,
кто никогда не любил Европу. Вроде Гоголя. Италия —
алиби. Италия в русском сердце живет отдельно от Европы. Русское понятие красоты совпадает с картой
Италии. Не любить ее — осрамиться, показать себя невеждой. Италия — обратная сторона России, что‑то похожее на обратную сторону Луны. Все по‑другому, чем
в России, но это другое порою роднее России. Я не знаю
ни одного русского, который бы с радостью возвращался домой из Италии. В Италии хочется потянуть
время. Остаться еще на день, на неделю, на месяц…
Россия — это неосуществленная Италия. Нереализованный проект.Все двадцать лет, за исключением двух‑трех, когда она
на меня смертельно обиделась и перестала общаться, К.
спрашивала меня в электронных письмах: как там у вас
погода. И всякий раз, кроме разве что июля, я проигрывал. Итальянская погода всегда на стороне человека…Совсем недавно я плыл на первом утреннем пароме
из Капри в Неаполь. В баре, напротив главной автобусной станции острова, шумно галдели в оранжевых робах рабочие люди с черными бровями. Одни допивали
вино, другие брались за утренний кофе. Кто закончил
ночную работу, кто вышел на утреннюю. Выпив кофе,
не дожидаясь плоского, почти двухмерного, первого автобуса, я сел в такси и поехал с горы. Справа мелькнул
ресторан «Девственник» — здесь мы когда‑то не раз сидели с К. и обсуждали местного кудрявого фетишиста.
Задумавшись о кружевных трусах подруги, потянув
их невольно вниз за резинку, я незаметно, в легком
предрассветном возбуждении, очутился в порту. Постоял, переминаясь, в медленной очереди в кассу среди
простого, нетуристического народа. Я бы мог жениться
на этих белых трусах… Я затянулся, кинул окурок в урну
и поднялся на борт.Вначале небо было похоже на черный ковер с тысячью звезд и долькой смущенного от своей невинности
месяца. На небе началась предутренняя перестройка.
Небо покрылось синими пятнами. Они стали голубыми озерами: в них еще плавали звезды. Рассвет убрал
расписной ковер — в небо, как детский шар, взлетело
солнце, легко и радостно, как будто впервые, чтобы посмотреть, как оживятся за бортом парома чайки и разгладятся лица пассажиров. Италия опять победила.Мы все случайно знакомимся друг с другом, но я познакомился с К. чересчур случайно. Я писал тогда сценарий для итальянского фильма. Итальянский режиссер
выделил мне квартиру в Милане неподалеку от Portа
Romanа. Он был взбалмошным человеком: масоном,
выскочкой, социалистом, — ему хотелось во всем быть
умнее и лучше других, включая меня. Я недолго сопротивлялся — признал его лучше себя. Но он ежедневно
требовал подтверждения, что он лучше всех, что его
жена Урания лучше других жен, что его рыжая хорватская любовница лучше других любовниц, что он самый
лучший режиссер на свете и что мы сделаем гениальный фильм. В Милане той зимой было холодно, густые
туманы можно было резать ножом как сыр. В квартире
стоял мороз. После работы я ложился в горячую ванну,
но вода быстро леденела — колонка была бережливой.
Я вылезал из ванны, стуча зубами. Режиссер звал меня
на ужин, говорил, что собор Василия Блаженного уступает флорентийским соборам, что Урания хотела бы мне
помочь написать сценарий (этого хотят звезды) и что
Московский Кремль придумали итальянцы. Я не возражал насчет Кремля; насчет Урании, безумной поклонницы астрологии, сказал решительное нет, а Василия
Блаженного было жалко, и я не переставал любить его
молча, без длинных споров.Вдруг выяснилось, что режиссер сам не очень любит
хаотическую Италию, жившую тогда еще свежими воспоминаниями о красном терроре, и работает в Лугано
на радиостанции. Швейцария лучше! Я снова не спорил.
Он контрабандой вывез меня в Швейцарию, на границе
я должен был корчить из себя итальянца — но на меня
никто даже не посмотрел.В Лугано мы сделали передачу по нашему сценарию,
и мой режиссер предложил радиостанции сделать еще
тридцать серий. Радиостанция задумалась, но нет не сказала. Довольные будущими заработками, мы вошли
в лифт — в нем случайно оказался итальянский журналист, который как‑то брал у меня интервью. Оттеснив
режиссера, он пригласил меня в Милане на ужин. С порядочными девочками. Я не стал отказываться. В субботу
он заехал за мной, страдающим гайморитом. На заднем
сиденье сидела подруга его любовницы. Моя будущая К.К. была для меня богатой невестой. Ее папа — нейрохирург был мэром приличного городка на севере от Милана. В семье было много братьев и квартир с большими террасами.
В первый же вечер мы нашли с К. общий язык — английский. Она оказалась slim and funny. Возможно, несколько костлявой. Породистый ахматовский нос. Прекрасное миланское образование. В ее лице сверкало
то, что французы называют e´lan — по‑русски «порыв»,
но порыв необуздан и дик, а e´lan — скорее мягкий рывок к полету.В непосредственной близости от Portа Romanа мы
взялись соблюсти все любовные приличия первой ночи: не двинулись расчетливо в кровать, а отдались
e´lan’у на диване, предварительно потеряв голову.Люди называли ее дотторессой. Мы бросились колесить по Италии. Для первой поездки она одолжила
у папы престижный автомобиль и, усадив меня за руль,
на автостраде занялась со мною автосексом. Мы чудом
доехали до Рима. Я вылез из машины законченным итальянцем. Сначала мы ездили по звучным именам: Рим,
Флоренция, Венеция. Затем взялись за острова. Я понял,
что сущность Италии не в музеях и даже не в темпераменте, а в составе воздуха. Наверное, самый итальянский воздух я ощутил в Кьянти, возле мелкого городка
Чербая, на вилле знакомых виноградарей, как‑то в конце марта. Представьте себе долину еще голых виноградников, вышедших на весеннюю разминку перед стартом,
залитых солнцем, в окружении оживающих оливковых
деревьев, и мелкие полевые цветы, отовсюду быстро
лезущие из‑под земли, — вот это и есть воздушный élan
Италии. К. завела меня как юлу. С меня слетела степенность северного гражданина. Я готов был прыгать на одной ноге и непрерывно требовал автосекса.Нет ничего банальнее, чем любовь к Тоскане. По улицам ее городов и деревень бродят толпы взъерошенных немецких профессоров и отставных английских
бизнесменов, решивших поселиться в божественных
краях в ожидании смерти. Здесь засели домовыми сычами в старинных замках звезды Голливуда и певцы
вроде Стинга. Во тьме сияют их глаза… Уж лучше полюбить, назло всем и себе, суховеи Монголии или русское
Заполярье… Но дело не только в Тоскане. Вся Италия
превращается в дурном сне в заговор банальности, триумф стереотипной любви, религиозное преклонение
перед путеводителем. Как продраться через колючие
вечнозеленые кустарники банальности к своей Италии, вероломно отправив общее мнение на помойку?
Я пришел к своей Италии через частный случай Джотто,
обнаружив его в глубине самого себя как прародителя моих открытий. Дальше стало проще. Италия превратилась в спираль, огибающую ось моих частных
смыслов.Маниакально и многословно я рассказывал К. о пограничном сплетении сакрального и профанного
на фресках Джотто.— Если у Вермеера творчество рождается из ничего,
то здесь у Джотто…— Bravo! Bravissimo! — время от времени восклицала К.,
делая вид, что слушает меня.— Постой! — восклицал я, закинув голову в Ассизи,
у южного склона Монте‑Субазио. — Ты посмотри, как
сакральная маска превращается в лицо, чтобы…— Пойдем, нам надо попасть засветло к господину директору Уффици… Нельзя опаздывать!
Мы рыскали по музеям как проголодавшиеся шакалы.
— Нас ждет господин мэр Капри ровно в шестнадцать
ноль ‑ ноль. Иначе он уедет на свою любимую рыбалку.— Хрен с ним!
— Это невозможно! Он так ласково смотрел на тебя, когда в Неаполе пропали твои чемоданы…
— Хрен с чемоданами!
— Остановись!
Она укоряла меня, что за обедом я выпиваю вместо
положенных двух бокалов вина три:— Это невозможно!
— Все возможно! — Я залпом выпил ледяной лимончелло.
Она посмотрела на меня как на тяжелобольного
и осторожно приложила любящую руку к моему лбу.— Когда Джотто вышел на границу миров… Нет, лимончелло слишком сладкий для меня. Закажем граппу!
— Успокойся!
Я затихал.
— Ты когда‑нибудь мне покажешь Москву? Будешь
моим гидом?— Sì! Certo!
— О, как ты прекрасно говоришь по‑итальянски! Скажи
еще…— Figa!
— No! — смеялась она сквозь слезы.
— Заметь, что Джотто…
— Basta! — Она закрывала мне рот. — Скажи мне
что‑нибудь о нас…В Италии я научился улыбаться. Во мне проснулся
интерес к детям: детей Италия обожает, они священны,
как коровы Индии. К. предложила мне не затягивать
с прекрасными детьми…Она говорила: в фотоагентстве, где она работает,
ее все уважают, она умеет быстро подобрать нужную
для газеты прекрасную фотографию, она незаменима…
Мы съездили на Эльбу. Оказалось, что Наполеон в ссылке жил в олеандровом раю. Мне тоже захотелось в такую
ссылку. Мы съездили на Капри. Оказалось, что Горький
жил в грейпфрутовом раю. Мне тоже захотелось. Мы
съездили на Сицилию, оттуда — на остров Пантеллерия.
Мне захотелось купить квартиру в Палермо и даммузо
на Пантеллерии. Ах, Пантеллерия! Весь остров покрыт
столами и ждет улова на ужин. Знаменитости и лузеры — все сидят за общим столом, игнорируя теорию
классовой борьбы.На Пантеллерию прилетел к нам мой режиссер. Сказал опять: фильм будет гениальным; К. в ответ: я стану
знатной журналисткой и выучу русский. Они сравнили
«ягуар» режиссера с престижной машиной папы мэра
и заспорили о кожаных сиденьях.Ей очень нравилось мое зеленое международное удостоверение, по которому можно бесплатно ходить в любые музеи. Она брала его в руки как драгоценность. К.
гордилась тем, что лично знакома с некоторыми мировыми фотографами от Японии до США. C дрожащим
подбородком она говорила об искусстве фотографии как
о тайне двух океанов, которую нельзя извлечь со дна,
и, когда мы встречались на приемах с этими незатейливыми знаменитостями, которые столкнулись с тайной, но не опознали ее, она дружески и заискивающе
заглядывала им в глаза. Теперь и ей можно заглядывать в глаза. В конце концов она выполнила все обещания, стала работать во всемирно известной газете,
обзавелась зеленым удостоверением. Кроме того, выучила русский, так что сможет прочесть мои слова без
словаря.Режиссер снял фильм, его три недели крутили по Италии, но фильм, в отличие от Суворова, не перешел через Альпы. Впрочем, его иногда показывают по российскому телевидению, и режиссер Анатолий Васильев
как‑то признался мне в Анапе, что он ему нравится своей непроходимой нелепостью.Я стал воспринимать вопросы журналистов по‑итальянски и разбираться с продавцами в мясных лавках,
но дальше не пошел. Почему я тормозил? Итальянский,
возможно, стал для меня языком не страны, а невозвратной близости с К. Каждый раз, когда я появлялся
в Италии, К. сначала расспрашивала о моей жизни, а потом смотрела с недоумением: что же ты тянешь?Мы ехали на очередной остров. Искья нам не понравился: мы там поссорились в минеральных ваннах. Зато
Капри был еще лучше, чем его мировая репутация, особенно поздней осенью, когда в дождливый день пинии
нежно сбрасывают рыжие иголки и пахнут, пахнут безумно. Мы оказывались в объятиях друг друга под шорох падающих иголок возле виллы Тиберия — она прижималась ко мне своим маленьким животом; властно,
со смешком закинув назад голову, брала меня за яйца —
и вновь назначали свидание на Капри.Двенадцать раз мы ездили на Капри. Двадцать четыре парома неустанно перевозили нас через Неаполитанский залив. Тысячи чаек были свидетелями наших
поцелуев. Четыре времени года показали нам свои каприйские красоты. Двенадцать раз мы останавливались
в одном и том же отеле, где всякий раз коротконогий
кудрявый смотритель мини‑баров воровал белые кружевные трусики К., потому что он был фетишистом.
И мы однажды видели с просторного балкона, как он
их нюхал, стоя в саду за банановой пальмой, держа
их в трепетных ладонях, как белую голубку мира Пикассо, а в это время бил колокол на центральной маленькой площади, и К. странным образом испытывала
к фетишисту взаимную слабость. Мы обсуждали верного Фаусто, фетишиста средних лет, слегка состарившегося и поседевшего кудрями на наших глазах, в течение
наших каприйских паломничеств, за ужином в ресторане «Девственник», что находится чуть ниже главной
автобусной станции острова, и это единственное место
в мире, где все официанты считали нас мужем и женой
и спрашивали, подавая рыбу, когда будут дети.Моего ответа ждал папа ‑ мэр. Он же — нейрохирург.
Братья ждали. Ждала будущая итальянская теща. К. сказала: если женимся, то — вот дом и сад с ослепительно зеленым бамбуком. Какой прекрасный бамбук! Я всем
восхищался.Не дождались. Тринадцатый раз на Капри мы не приехали. Больше не сели за стол в ресторане «Девственник». Я не женился. Почему? Ну, полный дурак!
Куба Снопек. Беляево навсегда
- Куба Снопек. Беляево навсегда. Сохранение непримечательного. — М.: Strelka Press.
Дмитрий Александрович Пригов — Герцог Беляевский
Беляево попало в поле моего зрения лишь потому, что
неофициальные художники наспех выбрали его для
проведения своей выставки. И сразу в моей голове
стало появляться множество разных вопросов. Было
ли само это культурное событие случайностью?
Был ли всплеск недовольства и неповиновения,
который произошел в Беляеве, единичным — или таких
выступлений здесь было много? И наконец, может
быть, это место обладало каким-то особым потенциалом, представляло для художников особый интерес?Изучив хронику художественной жизни
начиная с 1960-х годов, когда этот район строился, и заканчивая сегодняшним днем, я убедился, что многие
художники действительно были связаны с Беляевом.Однако самым важным обитателем Беляева
был для меня Дмитрий Александрович Пригов —
поэт, художник, скульптор, один из основателей
и наиболее известных представителей московского
концептуализма. В тексте «Беляево 99 и навсегда»,
написанном уже в 1990-е годы, он перечисляет тех,
кто когда-то жил здесь, но потом уехал. В своей
характерной манере Пригов ставит в один ряд реальных людей и выдуманных персонажей и путает
читателя, смешивая факты с вымыслом и включая
в свой перечень и тех, кто явно не имел к Беляеву
никого отношения: «…аверинцев, пока не съехал
в вену, Гройс, пока не съехал в Кельн, Парщиков,
пока в тот же Кельн не съехал, Ерофеев, пока не
съехал под руку центральных властей на Плющиху.
Съехал отсюда и Попов. И Янкилевский, но в Париж.
И Ростропович, и Рушди. Но еще живут Кибиров
и Сорокин. Но съехали Кабаков с Булатовым. Но еще
живут Инсайтбаталло и Стайнломато. Но съехали
Шнитке, Пярт и Кончелли». Так Беляево превращается в настоящее мифологическое урочище,
особую культурную зону. Но почему?Краткое знакомство с историей этой части
города позволило мне выдвинуть следующую гипотезу. В беляевской жизни должно было быть нечто
особенное, что выделяло этот район из числа прочих
«спальников». Беляево проектировалось архитектором Яковом Белопольским и строилось как часть
огромного градостроительного проекта на юго-западе Москвы в 1952–1966 годы. Этот проект особенно интересен своей социальной составляющей.
Одной из главных его задач было вывести научные
и образовательные институции за пределы городского центра. Новые научные институты и образовательные учреждения располагались здесь рядом
с жилыми массивами. Впрочем, тенденция к децентрализации науки появилась еще до Хрущева — этот
тренд уже задала сталинская высотка московского
университета, расположенная к юго-западу от центра
города. Здесь стоит упомянуть и другую идею
Хрущева — вывести из центра главные административные здания и построить новый правительственный район к юго-западу от столицы. Однако этот
план реализован не был.Весь этот контекст имел огромное значение
для социальной жизни Беляева. Институт космических исследований соседствовал здесь с институтом русского языка имени Пушкина. Университет дружбы народов, основанный, чтобы поддержать
постколониальные страны азии и африки, создавал
здесь такую мультикультурную атмосферу, которой
едва ли могли похвастаться другие части столицы.
В отличие от северных и восточных районов юго-запад Москвы, как магнит, притягивал интеллигенцию своей академичностью и культурностью. Возможно, по той же причине позже этот район также
стал средоточием художественной жизни.Эта нематериальная компонента разительно отличает Беляево от прочих спальных районов,
хотя внешне они очень похожи. В Беляеве была
другая атмосфера, оно имело другую репутацию, здесь
жили другие люди. В этом, кстати, состоит одна из московских особенностей: при всем визуальном однообразии микрорайонных ландшафтов здесь существует огромное культурное многообразие,
неразличимое и даже отсутствующее в общепринятых представлениях об этом городе. Два соседних и внешне совершенно одинаковых микрорайона могут разительно отличаться друг от друга
уровнем безопасности, культурной жизни и даже
тем, как люди используют идентичные общественные
пространства.Художники, которые жили в Беляеве, были
на поколение моложе участников «бульдозерной выставки». Пригов родился в 1940 году и вырос в центре
Москвы. В те годы Беляево было лишь деревней на столичной окраине. Когда Хрущев закладывал основы
своей архитектурной революции, Пригов был еще
подростком. Став молодым человеком, он мог наблюдать последствия хрущевского архитектурного наступления. В книге «Живите в Москве!» он описал свои
ощущения от того времени, опять же смешивая реальность и вымысел: «После вернулись мы в Москву,
а там — Хрущев… а тут вдруг небольшие пятиэтажные дома как бросились вширь на огромные незастроенные территории, как заполонили все собой.
Москва стала расти непомерно. Буквально за год расползлась по территории ближайших городов, захватив их полностью. потом, заполняя все этими мобильными, неприхотливыми, легко воздвигаемыми,
питающимися любым подножным кормом постройками, она с легкими боями вышла к Волге,
форсировала ее в районе Сталинграда, перевалила
за Урал, хлынула в Сибирь».Именно в такую пятиэтажку в только что
построенном Беляеве Пригов переехал со своей женой
в 1965 году. А еще через пять лет — в 1970-м — они
переехали еще раз, через пару улиц, в девятиэтажный
дом на улице Волгина, и прожили там до самой смерти
Пригова. Таким образом, с двумя самыми популярными домостроительными моделями Пригов был
знаком не понаслышке. С высоты своего этажа дома
на улице Волгина он мог видеть восхитительную панораму всего района — коробки домов, перемежающиеся с деревьями.Эта перспектива, безусловно, повлияла на искусство Пригова. его творческий метод состоял
в постоянном исследовании того, что его окружало.
К миру вокруг Пригов всегда относился с любопытством и всегда был открыт к новому. Городской
ландшафт вызывал у него искренний интерес,
и он работал с ним и в своих текстах, и в графике.
Для Пригова не существовало ценностного различия
между типологически разными урбанистическими
ландшафтами: он уделял равное внимание и «старой
Москве», и новым окраинам. В романе «Живите
в Москве!», который я цитировал ранее, вновь
и вновь описываются фантастические городские
сценки — некоторые из них происходят в центре,
а некоторые в микрорайонной застройке.Беляево заняло в искусстве Пригова особое
место. Это и стихи из так называемых беляевских
сборников, и текст «Беляево 99 и навсегда», и цикл
«родимое беляево», и многое другое — отсылки
к своему месту жительства рассеяны по самым
разным Приговским текстам и появляются там
в самые неожиданные моменты.Каким же предстает родной район Пригова в его
искусстве? Его образ микрорайонной архитектуры
точно не следует стереотипам — это не унылое, серое
пространство, подавляющее человеческое достоинство; не безликая бетонная архитектура, которая
лишает человека всякой надежды. Напротив, из текстов
Пригова возникает образ местности довольно симпатичной. Он часто обращает внимание читателя
на обилие зелени, садов и прудов. Он замечательно
чуток к архитектуре, и эта чуткость проявляется в его
графических работах. Они полны аллюзий на имманентные черты модернистской архитектуры: в его
графических сериях много прямоугольных, повторяющихся элементов и форм, сходных с коробками. Пространства, формы и пропорции, которые мы находим
в рисунках Пригова, часто похожи друг на друга
до полной неразличимости — и это черта именно
Хрущевской архитектуры.Стоит упомянуть, что в 1966–1973 годах Пригов
работал в московском архитектурном управлении
в должности инспектора по внешней отделке
и окраске зданий. А это значит, что его отношение
к окружающей архитектуре имело двоякую природу.
С одной стороны, он исследовал эту архитектуру
с позиции ее обитателя. С другой стороны, он — пусть
в незначительной мере — сам формировал пространство микрорайона! Или, по меньшей мере,
понимал логику его формирования.Возможно, именно благодаря этому опыту
он принялся анализировать отличия микрорайона
от архетипического города и давать им оценку. Тема,
которая часто повторяется в стихах и графике Пригова, —
это избыток пространства между домами, бесконечная пустота. Вчитываясь в строки известного стихотворения о «милицанере», мы видим его именно на фоне
микрорайона — между земным простором и небом.Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли…
да он и не скрываетсяПригов никогда явно не порицал просторность
того нового архитектурного ландшафта, в котором
он жил, — скорее он задавался вопросом о смысловом
наполнении этой пустоты. Например, способна
ли она — в потенциале — стать пространством свободы
и новых возможностей? В «Родимом Беляево» Пригов
то и дело (в свойственной ему ироничной манере)
говорит о том, что современный просторный город
обладает социальной ценностью:Захожу в бар
Беру большую кружку пива
Долго и упрямо
Почти яростно гляжу на нее
И ухожу не тронувДумаю, в Беляево меня не осудили бы за это
На его раскинутом пространстве
Полно места
Для любого проявления
Неоднозначной человеческой натуры.Одним из проявлений «неоднозначной человеческой натуры», в существовании которой Пригов
убежден, является искусство. Пригов полагает, что поэзия
имеет право существовать не только в местах прекрасных и знаменитых, но и на безликой блочной окраине.
В стихотворении «банальное рассуждение на тему:
поэзия вольна как птица» утверждается, что Беляево
ничем не хуже Переделкина, которое славится своими
поэтами: в конце концов, муза выбирает себе пристанище не из-за славы — она является там, где захочет.
У этого, казалось бы, тривиального заявления есть более
глубокий смысл: допуская существование поэзии в микрорайоне (по общему мнению — второсортном архитектурном пространстве), Пригов повышает ценность самих этих пространств, поднимает их на один
уровень с архитектурой архетипического города.В Переделкино поэты
Разнобразные живут
И значительно поэтому
Меньше их в других местах
Видно так оно и надо
Но поэзия — она
Где получится живет
Скажем, у меня в Беляево
Место в Москве такое.Беляево появляется и в мире Приговской графики.
У Пригова есть явные отсылки к микрорайонной,
изготовленной заводским способом архитектуре; прямоугольную геометрию этих жилых домов, словно
нарисованных по линейке, он часто использует как
фон в целых графических сериях. Рассматривая изображенные в них истории, невозможно понять, происходит их действие в одной и той же квартире или
квартиры разные, но очень похожие друг на друга.
И в этих квартирах снова и снова появляются объекты
с символическим значением — фантастические чудовища. Точно так же и в приговских текстах реальность
постоянно переплетается с вымыслом. В его стихах
возможен знаменитый битцевский маньяк, с балкона
на улице Волгина может открываться вид на Гималаи,
а на самой улице время от времени появляется лев.
Зачем художнику нужны эти и прочие дополнительные элементы, почему он старается добавить к образу
микрорайона новые, вымышленные черты? Марк
Липовецкий, который занимается исследованием
приговских текстов уже много лет, считает, что таким
образом Пригов получал возможность создавать новую
мифологию этой местности: «Москва и Беляево — для
Пригова это были взаимосвязанные мифологемы.
Москва, с одной стороны, и Беляево, с другой, — как
его локус. Он мыслил Беляево именно как свою территорию. Это входит в логику: есть мифология Москвы,
которая существовала до него, и он ее переосмысливает. А мифология Беляева до него не существовала —
и он ее создает. То есть работа с мифологией Москвы
связана скорее с его ранним периодом, когда он работал
с существующими мифологиями, а работа с Беляевом
характерна для его более позднего периода, когда
он сам порождает, производит мифологии».В этой стратегии действительно была своя логика:
только что построенное Беляево должно было казаться местом чужим и холодным. Это был совершенно
новый тип архитектуры: огромное пустое пространство, в котором тогда еще не было никакой
зелени и которое заполняли только абстрактные
формы безликих строений, пока еще непривычных
ни для Пригова, ни для кого-либо из его современников. чтобы стать более комфортным, микрорайон
срочно нуждался в поддержке художников; хотя эти
пространства отчасти заполнялись политическими
смыслами, определенная идентичность у них отсутствовала. Пригов как художник приручал и апроприировал чужое пространство, ставшее местом его обитания, — именно это и стало его главным приоритетом.По мнению Липовецкого, самым радикальным (а в контексте присвоения и одомашнивания —
наиболее важным) художественным жестом Пригова
стал проект «Обращения к гражданам». Он относится к 1987 году, и из-за него Пригов даже ненадолго угодил в психушку. Сотни обращений — коротких текстов, адресованных безвестным соседям
Пригова, — были отпечатаны им на машинке на небольших листках бумаги. Некоторые «обращения»
Пригов раздавал людям на улице, но большую часть
расклеил по району — на стенах и деревьях. Липовецкий считает, что Беляево стало для Пригова холстом
в буквальном смысле этого слова: «Для Пригова,
который, конечно, всегда мыслил пространственно,
как художник, Беляево буквально становится частью
его текста, он вписывает свой текст в Беляево, он включает его в Беляево, включает в пейзажи. Эта вовлеченность пространства в его собственный текст мне
кажется крайне интересной!»Что же составляло непосредственное содержание этих обращений? На что обращал внимание
своих соседей пригов? Таких обращений были
сотни — и все они были очень разными: некоторые
представляли собой краткие философские сентенции, некоторые — риторические вопросы. Здесь
находилось место и для тривиальных размышлений
о повседневной жизни, и для настоящей задумчивости. А иногда в них содержались отсылки к тому
самому месту, где эти обращения размещались, —
к архитектуре, пустотности, тишине, зелени…Граждане!
Оглянитесь окрест себя! — сколько всего
трогательного и доверчивого распространено
вокруг нас!
Дмитрий АлексанычГраждане!
Есть неизъяснимая милость в вертикальном
стоянии стен этих квартирных, в прозрачности стекол оконных, в теплоте
отопления!
Дмитрий АлексанычГраждане!
Каждая точка пространства нас
окружающего чревата чудом неземным!
Дмитрий АлексанычГраждане!
Мы зажигаем свет в своей квартире,
и она озаряет соседние — это замечательно!
Дмитрий АлексанычГраждане!
Вот мы видим след льва на улице волгина,
он еще дымится!
Дмитрий АлексанычПригов перебрал много ролей, относясь
к самому своему присутствию в Беляеве как к пер-
формансу. Он называл себя Беляевским Мудрецом,
подписывал свои обращения небрежным «Дмитрий
Алексаныч». Однако роль Герцога Беляевского стала
именно тем, что позволило ему включить в этот
перформанс все окрестное пространство целиком.
Ханс Хенни Янн. Река без берегов. Часть вторая: Свидетельство Густава Аниаса Хорна
- Ханс Хенни Янн. Река без берегов. Часть вторая: Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга первая / Пер. с нем., коммент. Т. А. Баскаковой.— СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 904 с., ил.
Ноябрь
Меньше года назад мне встретился человек, сразу внушивший ощущение, что ему можно доверять. У него было хорошее, не опустошенное лицо, хотя половину среднестатистической жизни он уже оставил позади. Руки — на удивление правильные и сильные. Даже в теплой, смешанной с табачным дымом атмосфере ресторана отеля «Ротна» вены под его кожей не набухли. Я не сообразил, какой профессией мог бы заниматься мужчина с такими руками. Но, в любом случае, они свидетельствовали о незаурядном здоровье. О нормальном отношении к окружающему. Не было нужды опасаться, что я столкнусь с болезненным мнением, которое пробудит во мне жалость, но и выманит на поверхность какие-то мои предрассудки. — Люди обычно рассматривают судьбу глазами своей болезни; это учение я усвоил. А болезнь есть явление общего порядка, она распространена повсеместно: иногда она навязывается человеку, но, как правило, он сам ее выбирает. — Легочные больные, которые так чрезмерно любят солнце, постоянно воспламенены надеждами: как будто их жизнь каждое утро купается в свете, только что возродившемся. Их страх подобен ночи. Он не имеет длительности. (Музыканты, страдающие от туберкулеза, слишком часто обращаются к радостно-обнадеживающей светло-желтой тональности ми мажор; тогда как я, будучи меланхоликом, ее избегаю.)
Что же касается сифилитиков, переживающих мощный подъем духовных сил, как если бы в них открылся неиссякаемый источник энергии… Они склонны к насилию, переливаются через край. Чувствуют себя хозяевами мира. Некоторые из них восхваляют болезнь как нечто сакральное. Никакие сдерживающие разумные доводы не встают между ними и их прямым путем к поставленной цели. Они могут присовокупить ко дню сколько-то ночных часов, не испытывая потом глубокой усталости. Даже мимолетные мысли для них достаточно хороши, чтобы добывать оттуда некую правду. Они знают только половинчатые сомнения и только полную убежденность… Пока не случится заминка, пока сгустившиеся сумерки не сотрут высокий полет свойственных им способностей… Однако Болезнь, какие бы облачения она ни носила, учитывает различия между людьми, да и свою сущность меняет в соответствии с решениями, которые нам неведомы. Кому-то она ослабляет путы, чтобы он смог развернуться: этот мнимый любимец Провидения; других же уничтожает сразу. Или они падают все ниже и ниже, со ступени на ступень, ни разу не подняв взгляд к выси. — Имя Болезни — Легион. Ее штандарт — извращение. Ее цель — опустошить.
Я решил попытаться вступить в приятельские отношения с этим здоровым, чтобы рассказать ему о решающем отрезке моей жизни. Может, я надеялся, что получу от него приговор. И такой приговор был бы для меня ценен — как суждение человека, не подвергшегося испытаниям.
Я заговорил с ним — это было в ресторане отеля «Ротна», всего же в нашем портовом городе три гостиницы. Я сел к нему за стол, поскольку он ничего против не имел. От занавешенных окон доносились шорохи бури, которая, тяжело дыша, ковыляла по улице. Я прислушался к происходящему снаружи. Я услышал шум тьмы. Я сказал без всякого перехода:
— Когда, тридцать лет назад, затонула «Лаис», я был этому свидетелем. (На самом деле с тех пор прошло только двадцать семь лет.)
Он сразу откликнулся:
— Лаис — так звали красивую шлюху, которая две с чем-то тысячи лет назад взбаламучивала Афины.
— Это был красивый корабль, — сказал я.
— Красивой она наверняка была, — ответил он. — Рассказывают, что она не только нравилась состоятельным молодым людям заурядного образца, но что даже простодушный Диоген — который позже жил в бочке, никогда не мылся, а с наступлением темноты выходил на улицу с фонарем, — будто бы какое-то время пытался вести упорядоченную жизнь, чтобы только понравиться ей. Даже падкий на соблазны Сократ не сводил с нее глаз, чем дал повод своей жене Ксантиппе обогатить греческий словарный запас несколькими выразительными эпитетами из тех, что пишут на стенах гальюнов. Впрочем, тогда недостатка в крепких словечках не ощущалось…
— Это был красивый парусник, — сказал я. — Трехмачтовый корабль, из тика и дуба: роскошная конструкция, без изъянов. Балки скреплены медными стержнями и бронзовыми болтами. Ниже ватерлинии деревянный корпус обтянут зеленой кожей… Строил судно старый, достопочтенный и прославленный Лайонел Эскотт Макфи из Хебберна на Тайне. Но оно затонуло уже в первом плавании.
— Тридцать лет назад… — протянул он. — О таком никто и не вспомнит. Это потеряло значимость.
— Может, еще живы многие члены команды, — возразил я, — а уж им-то кораблекрушение врезалось в память. По ночам они видят его во сне. Может, оно изменило их жизнь, как изменилась в тот момент моя жизнь. Меня тогда будто схватили и вышвырнули из привычной колеи.
Он ответил мне:
— В любом случае вредно считать прошлое чем-то реальным или даже правдивым. Человек кардинально меняется через каждые семь лет. У него уже не прежние мускулы. Не прежними глазами смотрит он на землю. Кровь его за такой срок многократно очищалась. Другим языком ощущает он вкус пищи. В нем зреют зародыши других маний. То, что было с ним прежде, улетучилось вместе с дыханием из легких, вытекло из почек вместе с мочой; вытолкнутая пища: вот что такое прошлое.
Я сказал очень решительно:
— Я помню каждый день, как если бы это было вчера. Тогдашние разговоры еще звучат в моих ушах, и я могу передать их, не исказив смысл.
Он сказал:
— Ученые еще спорят: не попадают ли наши кости вместе с заключенным в них костным мозгом десять раз на кучу отбросов, прежде чем туда же — зримым для каждого образом — попадем мы.
Я ответил ему:
— Есть люди, которые проводят десятки лет за стенами каторжной тюрьмы. И общественность утверждает, что совершенные ими преступления, в которых уже ничего нельзя изменить — то есть будто бы неизбывная вина этих несчастных, — оправдывают столь жестокое обращение с ними.
Он сказал:
— Общественность не ведает, что творит. По истечении десяти лет тот, кто подвергается наказанию, уже не идентичен преступнику.
Это высказывание, хотя мои прежние реплики ему противоречили, показалось мне настолько исполненным правды, что я почувствовал себя больно задетым. Я с грустью подверг проверке собственное мнение и решил, что мы с моим собеседником хоть и пришли к согласию, но — двигаясь разными путями. Я сказал:
— В большинстве случаев такая идентичность исчезает уже через час.
— Неприменимая и опасная теория утописта, желающего переделать весь мир! — вспылил он.
Я принял к сведению этот упрек, вспомнил о собственной, уже почти истекшей жизни, но мне по-прежнему хотелось снискать его одобрение. Вслух я сказал:
— Наши кости, будучи погребенными в земле, не разлагаются и за тридцать лет.
Он искоса глянул мне в лицо и заметил:
— У вас неустойчивые мысли. Надо бы запретить обсуждать вопросы, о которых мы говорим сейчас. Это делает людей неспокойными. Никто не хочет защищать такое положение дел, когда невиновный оказывается в пожизненном заточении. Никому не доставит удовольствия мысль, что его могильный покой нарушат, пока он еще будет лежать в могиле. Однако и то и другое в порядке вещей. Любопытство — наш враг. Точное знание такого рода взаимосвязей порождает дурные мысли. А у нас их и без того предостаточно. Повсюду возникают беспорядки. Разливаясь как половодье, они разрушают правящие режимы. Болезням придается чрезмерное значение. Люди разучились умирать незаметно. Они хотят судить — там, где никакого суждения в принципе быть не может. Они требуют справедливости, а им, чтобы быть счастливыми, нужно лишь отвернуться, когда под колесами оказываются несколько очередных жертв.
Я сказал:
— Это было бы ненастоящим, поверхностным счастьем.
Он засмеялся:
— Вы, как мне кажется, ведете нездоровый образ жизни. Вы заботитесь о душе. Память, которой вы поете хвалу, наверняка ваша единственная собственность. Вот вы и спасаете ее, протаскивая через все превратности своих превращений.
— Я не беднее, чем многие другие, — ответил я.
— Никто не способен оценить собственную бедность, — сказал он, — пока считает своей собственностью лишь то, что обладает денежной стоимостью.
Я попытался ему возразить. Но, может, аргументы были слабыми. Он решил, что сломит мое сопротивление двумя-тремя энергичными выпадами.
— Бедность, — сказал он, — распознается по скуке. Человек, который работает, не поднимая глаз, с утра до позднего вечера, бедным не бывает. Те, что умирают в рабочей лямке, и есть счастливые богачи. Они даже обходятся без агонии.
Я сказал:
— Я видел, как на улице Кейптауна умирал старый китайский грузчик. Он нес на голове три корзины, поставленные одна на другую. Случайно я видел, как он прошел последние двадцать шагов, прежде чем упасть. Эти двадцать шагов были тяжелы, как ничто другое в его прежней жизни. И каждый следующий шаг — тяжелей предыдущего. Зубы у него разжались. Глаза будто не хотели смотреть на дорогу, и между веками проглядывали только белки. Желтый пот выступил у него на лбу. Ребра судорожно вздрагивали, и казалось, тускло-запыленная кожа колышется, будто тряпка на ветру. Потом он упал поперек улицы. Никто не испугался. Никто не наклонился над ним. Я единственный остановился. Набежавшие негритянские дети растащили корзины и их содержимое. Через довольно долгое время подошел полицейский, поставил ногу на жалкий живот тихо хрипящего. Похоже, сильно надавил ногой… Я отступил в тень дома. И оставался там, пока не подъехала повозка; упавшего бросили на нее, как мешок с гнилыми яблоками. Не знаю, успел ли грузчик поздороваться с ангелом смерти. — Тогда-то, думаю, я понял, каковы внешние признаки беспощадной бедности.
— Вы ошибаетесь, — бросил мой собеседник; и тут же прибавил: — Ведь именно скука побуждает вас рассказывать мне о гибели того парусника. Потому-то я и не спрашивал о нем и никаким иным образом не выказывал заинтересованности. Несчастные случаи мне вообще неприятны. До сих пор никто не предложил приемлемой теории, которая объясняла бы их. Я же не стану ломать голову над вопросом, состоит ли дождь на Марсе из красных капель.
Я поспешил ответить, что именно необъяснимость тогдашних событий сделала меня столь назойливым.
— Вы вступили на неверный путь, — сказал он невозмутимо. — Я вот ориентируюсь только на очевидные события. Я инстинктивно люблю настоящее, не доверяю будущему и ненавижу прошлое.
Я сказал:
— Очевидные события, как вы изволили выразиться, не менее неисчерпаемы, чем космическое пространство. Это их сущность. Им предшествуют некая вина, некий закон, некий повод: та еще не разоблаченная сила, от которой у нас голова пошла бы кругом, если бы мы почувствовали ее дыхание.
Он испытующе посмотрел на меня. Я между тем продолжал:
— Конечно, если человек любит сегодняшний день и не нуждается ни в чем, кроме текущего часа, он удовлетворится скудными разъяснениями. Обойдется несколькими формулами и общепринятыми условностями. А все сомнительное через двадцать четыре часа забудется… Но если кто-то угодил в пучину, которая и через неделю его не отпускает, если этот кто-то уверен, что должен заглянуть в далекие снежные глаза Не-Сущего, если сам его разум делается все более разреженным и человек этот видит, что и все вещи устремляются в ту же разреженность — сперва в Прозрачное, а потом по направлению к Большому Нулю, — тогда удобной лжи об элементарной каузальной зависимости ему будет недостаточно.
— Если уж вам так приспичило, — сказал он по-простому, — можете мне довериться. Я не болтлив и, как вы наверняка для себя отметили, весьма забывчив.
Я испугался, услышав эти слова. Мне показалось, их произнесла сама Безжалостность: неприязнь одного человека к другому, подобному ему… готовность обвинить ближнего… Я ответил, не устыдившись своего намерения — сбить собеседника с толку:
— Я авантюрист. По профессии. В остальном — живу как почтенный бюргер. Хозяин отеля вам это подтвердит.
Он нарочито громко расхохотался.
— За вашей внешностью, значит, все же скрывается разумный человек, — сказал. — И тотчас вытащил из кармана миниатюрную, очень красиво сделанную игру: шкатулочку с рулеткой.
— Знаете, что это? — спросил он.
— Да, — сказал я.
— Научить вас, как стать хозяином счастья?
Не дожидаясь ответа, он вытащил из нагрудного кармана пачку карточек, сплошь покрытых числами.
— Математика управляет случаем, — продолжал он. — Тайны чисел и есть закон текущего часа. Уже в самом начале, заметьте себе, существовали аналитическая геометрия, интеграл и логарифмические таблицы. Орбиты звезд тщательно просчитывались. Все мироздание есть алгебраический фокус.
Услышав эти слова, я слегка успокоился. Мысли о числах, которые он высказал, хоть и грубо сформулированные, не так уж отличались от вопросов, которые сам я когда-то задавал Далекому.
Вдруг он предложил:
— Сыграем?
Я отказался.
— Я ведь правильно понял, что вы авантюрист? — поддразнил он.
Тут я снова обрушился в недоверие, глодавшее меня еще минуту назад. Таблицы и шкатулочка с игрой между тем исчезли в его карманах.
— Скачками увлекаетесь? — спросил он меня.
Я не ответил.
Он продолжал:
— Представьте себе: бегут десять или двенадцать лошадей. Одна из них должна прийти к финишу первой. После окажется: какая-то лошадь пришла к финишу первой и победить могла только эта, никакая другая. Когда люди заключают пари, все сводится к тому, чтобы поставить на эту единственную.
— Но там же десять или двенадцать лошадей, — сказал я, передразнивая его.
— Лишь по видимости, — возразил он. — Точнее, это несущественно. Победитель только один. Все дело в том, чтобы увидеть его. А для этого даже не обязательно представлять себе, как вообще устроена лошадь.
Он вытащил из кармана плаща список лошадиных имен.
— Я всегда узнаю победителя по имени, — продолжал он, — по числу букв и их отношению к соответствующему числу имен проигравших лошадей. Позанимайтесь немного сложением, вычитанием и делением, и вы сразу получите правильный результат. А утомительный промежуток времени перед принятием решения можно пе¬репрыгнуть, положившись на интуицию. Время подчиняется законам перспективы, как и ландшафт. Я часто заключаю пари и никогда не проигрываю. Но ипподромов я избегаю.
Он начал читать по бумажке лошадиные имена. Громким голосом объявляя всякий раз сумму цифр. Большое значение он придавал случайностям расположения имен в печатном объявлении. Наконец сказал, что весной на скачках Оакс в Эпсоме победит кобыла-трехлетка Нелли Хилл. Он предложил мне испытать его метод, заключив пари по контракту. Есть, мол, конторы, которые специализируются на этом, их маклерским услугам вполне можно доверять…
Я перебил его и отклонил предложение. Он неожиданно сменил тему и спросил:
— Вам не приходилось посещать школу, где учат, как найти для себя девушку, а потом избавиться от нее — и чтобы обошлось без слез, которые девицы обычно проливают, когда разрыв становится неизбежным?
Я промолчал. Знаю за собой такой недостаток: замедленную реакцию. Я не раз упускал, как дурак, благоприятные шансы. Это — своего рода беззащитность, всегда казавшаяся мне чем-то позорным… Использовать благоприятные шансы… Вот уж чего я всю жизнь не умел.
Теперь он снова заговорил:
— Меняемся мы не по своей воле. Человек даже не жесток, он лишь кажется таким. Если мы по прошествии семи лет уже не прежние, как можем мы любить все того же человека? Да и человек этот уже не он сам. Что вообще значит — из многих миллионов людей любить только одного? Человек не любит другого так, как это обычно изображается. Человек любит себя самого, и только в тени этой самости — другого. Но одновременно он любит спать, любит собаку, книгу, какое-нибудь дерево, воду, лето, все приятное, что попадется ему на пути. И человек борется с препятствиями. Большая любовь, которую так часто заклинают, но которая редко становится реальностью, вырастает из того же корня, что и преступление. Она длится семь лет и представляет собой бездонно-глубокое заблуждение.
Он вздохнул. Сказал:
— Вам это не нравится? Но ведь можно доказать, что конфликты — не обсуждаемые вслух, а фактические — следуют друг за другом в гораздо более плотной последовательности, чем могут вообразить любящие. Малейшие изменения: ангина, появление у другого неприятного запаха, какой-нибудь пустяк — до вчерашнего дня человек ел бобовый суп, а сегодня от него отказывается… Малейшие изменения в конституции немедленно отражаются на шкале наших чувств. Насколько же большее влияние оказывают на чувства те ураганы, что бушуют над телесными соками! Человек должен это знать, если не хочет без пользы исчерпать силы.
Я внутренне собрался. Сказал:
— Я посещал другую школу…
Он тотчас перебил меня:
— Знаю, вам такое не нравится.
— Действительно, — ответил я. — Не нравится настолько, что в голове уже теснится целый сонм возражений, но мне трудно их упорядочить.
— У вас путаная позиция. Вы сами это признали, — сказал он.
— Я бы охотно отступил, — сказал я, — только мне тяжело смириться с тем, что тогда пойдут разговоры о моем поражении.
Он гневно, полнозвучным голосом, спросил:
— Уж не являетесь ли вы одним из тех несчастливцев, что взвалили на себя преступление любви? Может, это и есть ваша тягостная авантюра? Начавшаяся с крушения парусника из Хебберна на Тайне? Вы что же, решились заложить свое унаследованное именьице, которое называете Памятью, — чтобы на проценты с него получить скудное оправдание когда-то совершенного вами ложного шага?.. Вы ослеплены, вы громоздите одно несчастье на другое, упорно желая прозябать в своей покинутости и бедности. Вы — стыдливый бедняк, который еще подает какие-то пфенниги уличным попрошайкам!
Я смущенно молчал. Но через некоторое время сказал:
— Вы не позволили мне рассказать, как все было. И возникло недоразумение.
Он проворчал:
— Можно подумать, вы не способны ответить «да» или «нет».
— Я не хочу, — слабо упорствовал я.
— Меня ваша попусту растраченная жизнь вообще не касается, — сказал он.
— До сих пор она была не хуже, чем любая заурядная жизнь, — возразил я.
— Вы же не знаете, что такое заурядная жизнь, — подначивал он.
Хозяин подошел к нашему столику.
— Господа ссорятся? — спросил.
Чужак, засмеявшись, отрицательно качнул головой. Я поднялся, пересел за соседний столик и заказал стакан крепкого черного пива. В зале стало очень тихо. Я почувствовал, что мои сомнения вот-вот поднимут мятеж. И поспешно выпил пиво. Буря толчками передвигалась по улице. Она гнала перед собой пустую тоску. Впереди летели легкие предметы. Холодные ветки беспомощно бились о край кровли. Тяжелая, теплая усталость овладела мной. Мои уши слышали наполненную шумами ночь, а тело, словно свинья в луже, нежилось в приятном тепле… Этот момент ленивой расслабленности пролетел. Когда я заказывал вторую кружку черного пива, Чужака уже не было.
Юнна Мориц. СквОзеро
- Юнна Мориц. СквОзеро. — М.: Время, 2014. — 576 с.
* * *
Сквозь прозрачную лошадь Ван Гога
Зелень светится после дождя,
Ритмы Бога читает дорога,
Сквозь прозрачную лошадь пройдя.Благодатью сияющей силы
Сквозь прозрачную лошадь видны
Краски воздуха, зарослей жилы
И цветущая высь глубины.У возницы болит поясница,
Черновик под колёсами, грязь,
Сквозь прозрачную лошадь возница
Держит с Богом сердечную связь.А во тьме ядовитого смога,
В душегубке горящих болот —
Сквозь прозрачную лошадь Ван Гога
Я качаю для нас кислород.Эта лошадь не даст укокошить
В данный миг ни тебя, ни меня, —
Сквозь Ван Гога прозрачную лошадь
Льётся воздух, прохладой звеня.Мой учитель пришёл из острога,
Знал он много спасительных благ, —
Сквозь прозрачную лошадь Ван Гога
Он дышал — и вот именно так!
* * *
Птицы летят, как листья,
Листья летят, как птицы,
Ветер полётной кистью
Пишет, как пьяный Зверев, —
Красками плещет, хлещет,
Глазками блещут лица
Листьев и птичьев перьев.Осени ветер свеж,
Яблок пьяна изнанка,
Окна летают, двери,
Живопись, осень, пьянка —
Яблок наелись лоси,
Яблочек пьяных!.. Осень,
Лоси летят, как птицы,
Птицы летят, как листья,
Листья летят мгновений,
Живопись, ветер, гений, —
Яблочек пьяных съешь!..
СКВОЗЕРО
Озеро читают, не листая.
Сквозеро читается насквозь!
Сквозеро, кувшинка золотая
Сквозь луну, надетую на ось
Сквозняка дрожащих отражений,
Где дрожащий лось напьётся всласть
Лунным светом, смоет кровь сражений, —
Жизнедрожь, она всего блаженней,
Жизнедрожь сквозная, тайны власть,
Сквозеро, читающее лося
Зеркалами берегов, планет,
Птиц, летящих с дрожью сквозь колосья
Звёздных зёрен, где озёрен свет.
* * *
Граница совсем не там, где стоит пограничник с псом.
Граница — за гранью пропасти, где невесом
Сизиф и камень, оба не выездные за
Пределы мифа, который во все глаза
Следит, чтобы взгляд прямой исчезал в косом.Когда совсем отключаются тормоза,
Как стрелки часов, раздавленных колесом, —
Начинается время, не выездное за
Пределы мифа, где вечное Всё во Всём,
И взгляд прямой исчезает во взгляде косом.
ВЕСНА
Руками рук, ногами ног,
Из электрички электричек —
В леса, где ландыш очень мног
И звонко свищут птички птичек!Глазами глаз, губами губ —
В листву листвы, в простор просторов,
В такую высь, в такую глубь,
Где кольца вьёт повтор повторов,Где тайна тайн, и гнёзда гнёзд,
И небо неб, и письма писем
Нам шлют оттуда звёзды звёзд,
Не зная, что от них зависим —Глазами глаз, губами губ,
Словами слов, мозгов мозгами,
Судьбой судеб, чья высь и глубь —
Кругами, кольцами, слогами…
Нина Федорова. Уйти по воде
- Нина Федорова. Уйти по воде. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 288 с.
Неделя о Фоме
I
Они вернулись с юга в пыльную августовскую Москву, с поезда их встречал один из приходских друзей, и Катя, сидя в чужой машине и глядя в окно, с непривычки поражалась — какая же Москва гигантская! После жизни в маленьком городке у моря, где они отдыхали до середины августа, она успела отвыкнуть от широких улиц и высоких домов, но радости возвращения не чувствовала — ей не хотелось уезжать оттуда, из затерянного между горами и морем мира. Там было так хорошо и спокойно, и уже на вокзале, куда по горной опасной дороге доставил их усатый мрачный таксист, она знала, что прощается не только с узкими улочками, маленькими домами и морским ветром, она прощалась как будто со всей своей прошлой жизнью. Никогда уже не будет так, как прежде, — вот что она чувствовала, вспомнив вдруг Наташу Ростову и Николая, возвращавшихся домой после святочных гуляний, тогда Наташа тоже сказала брату — никогда не будет уже так, как прежде, — потому что предчувствовала беду.
Это чувство прощания не покидало ее все три коротеньких, быстрых летних недели, которые она прожила с родителями, Аней и Ильей на юге, она жила, наслаждаясь каждым днем, ценя каждое мгновение, и осознавала уже тогда — никогда. Никогда больше не будет утренних купаний, вечерней партии в шахматы с папой, акунинских детективов, которые они с родителями вырывали друг у друга и читали по очереди; не будет скрипучих неудобных кроватей, болтовни с Аней и Ильей перед сном, теплых южных ночей и низкого звездного неба, сочности бархатных персиков, сладости винограда… Не будет той радости, которую она испытывала на равных с младшими от конной прогулки по горам, от купания в солнечной дорожке, от соленого ветра и высоких волн. Не будет больше никогда той смеси детства и взрослости, той чистоты и простоты, которые были с ней в маленьком южном городе, куда из Москвы не долетали вести и где она была полностью оторвана от своего привычно го мира, как будто пожила недолго жизнью совсем другой девочки — очень, кстати, счастливой.
Но жизнь эта кончилась, и Катя все никак не могла загнать себя обратно, в привычные рамки обыденной своей жизни: впереди маячил московский август, потом университет, страшно было даже думать — четвертый курс уже, впереди ждали еще перемены — это она тоже чувствовала, потому что иначе быть не могло, перемены назрели в ней уже давно.
Вернувшись в Москву, она чувствовала, что ее болезненно раздражает буквально все — привычный вид из окна на серый двор и играющих в футбол мальчишек, духота четырех стен, пыль на книжных полках, сваленные в кучу на столе тетради, чахлая черемуха под окном, необходимость входить опять в колею, что-то решать, что-то делать, как-то дальше жить привычной, набившей уже оскомину жизнью, в которой будет ли теперь Бог?
Ее не покидало ощущение, что мир вокруг рушится, хотя он оставался, разумеется, неизменным, даже надоедливо статичным, ей было душно и плохо в этих рамках, и невозможность больше жить так, как прежде, отзывалась в ней сильной болью, почти физической, невыносимой.
Как теперь она будет жить, для чего и зачем? Радости больше не было, смысла тоже. Как ходить в храм, когда она уже знала, как бывает по-настоящему (и по-настоящему ли это было?), как стать прежней, после всего, что она испытала: это же неизбежная ложь самой себе?
Родители засобирались на дачу, хотели, как обычно, прожить там весь оставшийся август, но сейчас Катю дача ужасала — эту размеренную жизнь, которая всегда так ей нравилась и казалась такой уютной раньше, теперь она бы не смогла вынести. Напряжение между Катей и родителями росло со дня приезда в Москву: конечно, они почувствовали ее протест и внутреннее раздражение, и это, в свою очередь, их раздражало. Они начали спорить из-за ерунды и придираться друг к другу, поэтому, чтобы не поссориться окончательно, Катя придумала, что ей нужно пройти практику в университете и на дачу она поехать не сможет.
Отчасти это было правдой, она собиралась съездить в университет, узнать, что за практика ей полагается после третьего курса, но прежняя Катя попросила бы дать ей задание на дом и поехала бы на дачу, набивать на компьютере тексты, сидеть по вечерам с родителями у костра, разглядывая звезды, кормить ежика, который прибегал на летнюю кухню, смешно фукал, при малейшем шорохе сворачивался клубком, а однажды попался в мышеловку и от страха никак не давал себя освободить.
Теперь все это умиротворение только раздражало, ей хотелось остаться одной, хотелось, чтобы все ушли и никто ее не трогал, не загонял в рамки, не требовал, не нудел над ухом, что нужно разобрать шкаф и прочитать список по литературе — ее это злило, не маленькая все же, четвертый курс, сама решу, что читать и что выкидывать, но когда родители уехали, она, выйдя помахать им с балкона, почувствовала неожиданную пустоту и даже заплакала, глядя вслед уезжающей машине.
II
Накопившееся глухое раздражение и боль должны были как-то прорваться и прорвались. На следующий день ей позвонила Варвара, предложила сходить в кино на «Ночной дозор», все тогда говорили «удивительное кино», писали, что это что-то небывалое, такого в России еще не снимали. Они встретились с Варей, болтали, смеялись, опоздали в кино, пришли не к началу и ничего не поняли — обе были настроены как-то истерически, смеялись без причины и решили, что фильм — фигня и вообще какой-то наркоманский. Расставаться не хотелось, они пошли в «Макдональдс», Катя рассказывала, как жила на юге, Варя — о том, как училась в автошколе и как на нее орал инструктор, который ждал от нее взятки, а она не понимала, как ее давать, ужасно смущалась и не знала, куда деваться от стыда.
Было уже поздно, Кате не хотелось домой, в пустую квартиру, и Варе не хотелось — у нее родители тоже были на даче, тогда они решили поехать к Варе ночевать, к ней было ближе.
По дороге они купили пива и сигарет. Варе захотелось выпить, у Кати от смеха и болтовни слегка кружилась голова, все было как-то легко и отчаянно: предложение выпить ей неожиданно понравилось.
Было немного страшно, ведь она совершала преступление, это был грех, совершенно явный, но ее будоражило ощущение совершающегося беззакония — сейчас они будут выпивать, а может, даже курить, она, Катя, православная девочка, с детства в храме, из воцерковленной семьи, духовное чадо отца Митрофана, будет пить пиво и курить сигареты.
«Что сказал бы на это Олег Благовольский?» — вспомнила она свою старинную присказку и разразилась — как ей показалось — развратным хохотом. Она почувствовала неожиданную легкость, ей захотелось назло себе, назло всем, сделать это — напиться первый раз в жизни, закурить, стать «падшей женщиной». Если у нее не получилось быть «хорошей», раз это так сложно, невозможно просто — ладно, она станет тогда плохой! Немедленно, немедленно стать другой, противоположностью себе прежней, ведь все равно рушится мир — так пусть до конца, надо разрушить его самой, разорвать руками, выпустить наружу мятущуюся душу.
Они сидели на полу у Варвары в комнате, горела только настольная лампа, и полумрак совершающегося Катиного падения был уютным и ласковым. Пили пиво, Кате казалось, что хуже ей уже быть не может, и от этого было очень весело. Они выпили много — целая батарея пивных банок выстроилась от стола до дивана, курили на балконе — у Вари был четырнадцатый этаж, поэтому Катю, с легкой и звенящей от выпитого головой, не покидало ощущение, что она парит между небом и землей.
Окурки летели вниз падучими звездами, Катя следила за красненькими огоньками, как они гаснут, не достигнув земли, где-то в районе восьмого этажа, роняя иногда веселые искорки; было прохладно и моросил дождь, Варя принесла куртки с капюшонами, обе пьяно смеялись: похожи на ночной дозор.
Варя рассказывала, что встречается с мужчиной ему уже за тридцать, конечно, продолжения быть не может, но пусть хоть так, так проще — и так странно она смотрелась в этом надвинутом на лоб капюшоне с мрачно горящими глазами, в самом деле — ночной дозор.
В голове у Кати был туман, она долго не могла найти даже дверь в ванную, и отчаяние куда-то ушло, единственное, что беспокоило — кончилось пиво. Впрочем, пора было спать, а не идти за пивом: часы показывали уже половину пятого утра, а Варя вдруг вспомнила, что на следующий день запланированы какие-то неотложные дела.
Они уснули, привалившись друг к другу, на не застеленном диване, и Катя с пьяной слезой, прежде чем провалиться в хмельной сон, подумала — мне плевать на все, на всю свою жизнь, на все из прежнего. Просто наплевать.
Артур Клинов. Минск: путеводитель по Городу Солнца
- Артур Клинов. Минск: путеводитель по Городу Солнца. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 128 с.
16
В моем детстве в Городе Солнца уже не было Бога. Когда я спрашивал воспитательницу в детском саду: «Почему его нет?», она отвечала мне просто: «Гагарин летал в космос, но Бога там не увидел». Мне представлялось, как Бог — бородатый дедушка в белом платье с белыми крыльями — парит в черном пространстве над земным шариком. Но вот на космическом корабле прилетает Гагарин и, обогнув Землю несколько раз, не увидел в круглом окошке иллюминатора дедушку с крыльями. Значит, Его действительно нет. Гагарин был для меня большой авторитет. Граждане страны Счастья не верили и гордились тем, что не верят в Бога. Они чувствовали свое превосходство над теми, кто остался в том времени, когда Бог еще жил. В них заключалось преимущество людей передовых, людей, победивших мракобесие, покоривших природу, ставших на ступень выше ее. Помню, как мне было стыдно показаться на улице, когда вдруг заподозрили, что я состою в связи с Богом. Было стыдно и обидно, ведь это случилось помимо моей воли. Когда мне исполнилось десять, мы перебрались из дома на Ломоносова в квартиру на улице Червякова, которая находилась на Сторожовке, старом районе, издавна славившемся своим птичьим рынком. Перед самым переездом мы похоронили бабушку. Она долго болела и умерла еще на старой квартире. Бабушка была верующая, поэтому хоронили мы ее по церковному обряду — с попами и отпеванием. Вскоре после переезда мать пригласила на сорок дней незнакомых женщин из церкви — каких-то старух в длинных черных платьях. Мать была членом партии и слабо разбиралась в церковных обрядах, поэтому позвала старух, чтобы те помогли провести поминки. Был конец сентября, погода стояла еще теплая, поэтому окна комнаты с накрытым поминальным столом были распахнуты во двор нашего дома. Какое-то время посидев за столом, женщины в черном принялись читать молитвы. Читали они их во весь голос — громко и распевно. Был еще ранний вечер, и во дворе, как назло, собрался народ. Мне хотелось захлопнуть окно и крикнуть старухам, чтобы они читали молитвы потише, шепотом, так, чтобы никто не мог их услышать. Но они вдруг стали читать еще громче, и, конечно, их услышали все, кто находился в это время во дворе. Дети, с которыми мне еще только предстояло подружиться, собрались под нашим окном и, хихикая, с ехидцей поглядывали на него. Помню, как они смотрели на следующий день, когда я вышел во двор. Они стояли и о чем-то шептались, бросая на меня любопытные взгляды. Думаю, они приняли нас за «сектантов». Но мне почему-то не хотелось переубеждать их в обратном. В этот день я попросил мать купить мне в ближайшее воскресенье на Сторожовке собаку.17
Сторожовка находилась уже за границей Города Солнца. Зато это был район старого, дореволюционного Минска, вернее, его прежняя окраина. Дворцов тут уже не было вовсе, как и не встречалось красивых лепных заборов. Только ограждение городской инфекционной больницы немного напоминало тот шикарный забор военного гарнизона в моем старом районе. Зато одно из окон нашей квартиры смотрело прямо на другой гарнизон, который размещался рядом с Птичьим рынком. Размеры имел он поменьше, и его не окружали пьедесталы с капустой, но теперь я мог видеть все, что там происходило. Наша квартира находилась на четвертом этаже, а воинская часть располагалась прямо через дорогу. Сверху она напоминала аккуратный, составленный из конструктора игрушечный городок. Даже деревья каждой весной в нем кра- сили белым цветом. Когда я спрашивал у матери: «Зачем их красят?», она отвечала: «Чтобы гусеницы по ним не ползали». Теперь я не только слышал правильный топот, но и мог наблюдать, как прямоугольные зеленые гусеницы маршировали по плацу или перемещались от барака к бараку. Солдатские песни многоножки обычно пели, когда шли к пищеблоку столовой. Сразу за воинской частью начинался забор Птичьего рынка. То, что происходило за ним, теперь меня интересовало гораздо больше. В Городе Солнца не было зоопарка, поэтому рынок оставался единственным местом, где раз в неделю по воскресеньям появлялась возможность увидеть, потрогать, погладить и даже купить всяческую живность. Правда, экзотических животных здесь не продавали — в основном кроликов, кур, собак, котят, хомяков и свиней. Самыми шумными были, конечно, поросята. Если вдруг, не дай бог, у соседа случился запой, и он забыл, какой сегодня день недели, то по хрюкающим и визжащим под окном в шесть часов утра свиньям он мог безошибочно определить, что пришло воскресенье. Рынок начинал работу рано. Еще затемно под нашим окном выстраивались конские подводы и целый парк «жигулей», «волг», «москвичей». «Мерседесов», как и экзотических животных, в Городе тогда не водилось. Все утро до самого полудня в багажники и на подводы грузили кроликов, кур и маленьких поросят. Кур и кроликов носили обычно в деревянных ящиках, а поросят в больших холщовых мешках. Кролики вели себя смирно. Зато поросята, которым, наверное, было страшно, брыкались и дико визжали. Мешки, которые суровые мужики в кепках тащили к телегам, всегда шевелились и издавали звук электропилы, вонзившейся в толстое суковатое полено. За ограждением птичьего рынка начинались заборы частных участков. Сторожовка полнилась множеством всевозможных деревянных, кирпичных, металлических в сеточку или из длинных прутьев заборов. С другой стороны нашего дома начиналось ограждение детского сада. За ним, через небольшой местный проезд — забор школы. Справа от школы тянулся деревянный забор бани. Когда я отправлялся на бульвар — центр здешней жизни с двумя гастрономами, булочной, сберкассой, аптекой, кинотеатром и парикмахерской — следовало пройти между двумя ограждениями, школы и бани, через длинный и узкий проход, в котором два человека могли разойтись, лишь немного прижавшись. Еще на Сторожевке возвышалось множество черных металлических труб старых котельных. Я любил эти трубы. Когда в зимний морозный день я выглядывал из окна, они поднимались над крышами прореженной рощей высоких черных стволов с длинными белыми кронами дыма, задумчиво уходившего в небо.18
В школе я учился неплохо, хотя посещать ее не очень любил, особенно зимой, осенью и весной. Занятия начинались рано, поэтому просыпаться надо было в семь, и на улице еще стояла темень. Когда я подходил к окну, школа, которая находилась прямо напротив нашего дома, в упор смотрела на меня своими ласковыми желтыми глазами. Мне казалось, в ее взгляде было что-то садистское. Так хотелось вернуться обратно в постель, но квадратные глаза хмурились и говорили: «Не смей! Немедленно одевайся и иди ко мне!» Но случались радостные дни, когда она смотрела, а я мог ей с ехидцей ответить: «А вот и не пойду! У меня справка от врача!» Тогда я наблюдал, как темные фигурки детей из соседних дворов по свежему, выпавшему за ночь снегу плелись к дверям школы, которые время от времени открывались в прямоугольном зевке и проглатывали их в свое оранжевое чрево. В восемь раздавался звонок и все затихало. Только какая-нибудь запоздавшая фигурка бежала, спотыкаясь, по нерастоптанной колее, таща за собой тяжелый ранец. А я забирался обратно в постель и укрывался теплым пуховым одеялом. Иногда глаза школы были закрыты. Это означало, что наступили каникулы или зимний карантин по случаю гриппа. Тогда приходили самые счастливые дни моей школьной жизни. Хорошие оценки я получал только по русскому языку, труду и физкультуре. По остальным предметам учился на отлично. Законы Ньютона и Фарадея давались мне лучше, чем правила написания запятых в предложениях. Химию нам преподавала Молекула, которую мы так называли за ее маленький рост. Когда она входила в класс, ее голова возвышалась не намного выше уровня школьных столов. Тетка она была толковая — если кто-то хотел химию, Молекула излагала ее очень убедительно. С теми, кто химию не любил, она особенно не церемонилась и давала сполна ощутить всю силу своего презрения. Учительницу по биологии мы про себя называли Плоскодонка. Правда, это прозвище ей не очень подходило. Роста она была высоченного, и, когда появлялась в классе, выпуклости ее тела рельефно выпирали во все стороны. Когда же в класс входила завучиха, которая вела у нас историю, мы, затаив дыхание, сидели, выпрямив спины. Ее мы называли СС или Гестапо. Она напоминала блондинок в черных мундирах из фильмов про войну. Во время урока Гестапо ходила по классу с длинной деревянной указкой и, время от времени, применяла ее к «тупицам» и «бездарям», для лучшего усвоения материала. Нашу классную, которая вела у нас физику, мы называли просто Мария Израильевна. Если б у вас вдруг возникли проблемы с законами всемирного тяготения, следовало подыскать другую школу — в нашей троечникам жилось несладко. У меня же проблем с физикой, химией, геометрией, историей и другими предметами не было. Даже автомат Калашникова я собирал за положенные двадцать пять секунд. Вот только гранату почему-то никогда не получалось метнуть на необходимые тридцать метров. Из всех дней школьной недели больше всего я любил пятницу и субботу. Пятница полнилась радостным предвкушением субботы, а суббота приходом воскресенья. Хотя единственный выходной был почему-то самым унылым днем недели. Наверное, потому, что за ним наступал понедельник. Вечером в воскресенье часто показывали хоккейный матч. В телевизоре на белом, перечеркнутом пополам поле с окружностью в центре бегали маленькие черные человечки. В действительности они были цветные, но наш подсевший кинескоп давно делал все черно-белым. Человечки гонялись за крохотным, убегавшим от них цилиндром, который они пытались загнать в трапеции ворот. На трапециях стояли широкоплечие дяди с решетками на лицах и, когда цилиндр подлетал к воротам, отгоняли его длинными кривыми палками. Периодически маленькие черные человечки устраивали потасовку и кучей прилипали к прозрачному ограждению поля. Если камера давала крупный план, казалось, их головы что есть силы упираются в экран с другой стороны. Еще немного, они продавят его и со звоном разбитого стекла покатятся по полу комнаты. Тогда я подходил к телевизору, выключал его и отправлялся в постель, чтобы рано утром увидеть ласковые, поджидающие меня желтые глаза школы.
Роберт Вальзер. Прогулка
- Роберт Вальзер. Прогулка. / Пер. с нем. М. Шишкина. Михаил Шишкин. Вальзер и Томцак: эссе. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 128 с.
Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром, не
упомню уже, в котором точно часу, охваченный внезапным
желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив писательскую каморку, полную призраков, слетел вниз по лестнице,
чтобы поскорее очутиться на улице. В дополнение к вышесказанному мог бы добавить, что на лестнице я столкнулся
с женщиной, которая выглядела как испанка, перуанка или
креолка. Она излучала какое-то увядающее величие. Однако
должен строжайшим образом запретить себе даже пару
секунд задержаться на описании этой бразильянки или кем
бы она ни была — ведь я не в праве бросать на ветер ни пространство, ни время. Насколько вспоминается мне сегодня,
когда пишу все это, тогда я пребывал в авантюрно-романтическом настроении и, выйдя на светлый и веселый уличный
простор, испытал приступ счастья. Утренний свежий мир,
открывшийся моим глазам, показался мне столь чудесным,
будто я увидел его впервые. На что бы я ни бросил взгляд,
все приятно удивляло приветливостью, добротой и юностью.Сразу забыл я, как только что угрюмо корпел над пустым
листом бумаги наверху в моей комнатенке. Вмиг растаяли и
тоска, и боль, и все тяжелые мысли, хотя я все еще живо слышал и впереди, и за спиной какое-то торжественное гудение.
С радостным ожиданием я устремился навстречу всему, что
могло встретиться и случиться на прогулке. Шаг мой был ровным и легким, и, смею думать, ступая таким образом, я производил впечатление персоны, исполненной достоинства.
Я не большой любитель выставлять напоказ окружающим мои чувства, но и стараться с болезненной суетливостью прятать их тоже считаю ошибкой и порядочной глупостью. Не успел я пройти и двадцати или тридцати шагов по
оживленной шумной площади, как сразу столкнулся с профессором Майли, светилом первого разряда. Герр Майли
шествовал как непререкаемый авторитет — сосредоточенно, торжественно и величаво. Негнущаяся ученая палка
в его руке внушала мне благоговейный ужас, трепет и почтение. Нос профессора Майли изгибался строгим, властным,
острым клювом орла или ястреба, а губы были сжаты плотно,
будто стиснуты скрепкой юриста. Поступь ученой знаменитости напоминала о неумолимости закона. В суровых глазах
профессора Майли, скрытых под кустистыми бровями, сверкали отблески мировой истории и давних героических деяний. Его шляпа казалась несвергаемым властителем. Тайные
властители — самые горделивые и безжалостные. В целом же
профессор Майли держался, скорее, мягко, ведь ему излишне
было особо демонстрировать окружающим свое могущество и вес в обществе, и эта личность, несмотря на всю свою
непреклонность и суровость, была мне, скорее, симпатична,
поскольку, смею утверждать, далеко не все люди, чарующие
вас сладкой улыбкой, честны и надежны. Известно ведь, что
негодяи любят рядиться в положительных героев и совершать злодеяния под покровом отвратительного таланта —
улыбаться учтиво и вкрадчиво.Я чую приближение книгопродавца и книжной лавки.
И уже скоро, как я предчувствую и замечаю, появится и будет
упомянута кондитерская с хвастливыми золотыми буквами.
Но прежде еще нужно записать священника или пастора.
С радостным важным лицом проезжает на велосипеде городской аптекарь, он же штабной или полковой доктор, рулит
прямо на пешехода, то бишь на меня. Не должен остаться
незамеченным и незаписанным некий скромный прохожий, который так просится на эту страницу. Вот этот разбогатевший старьевщик и тряпичник. Мальчишки и девчонки носятся друг за дружкой бесшабашно и необузданно
в лучах солнца. «Резвитесь! — подумал я. — Годы вас охладят и обуздают. Жаль только, что это произойдет слишком
рано». Собака лакает из фонтана. В голубизне неба щебечут, кажется, ласточки. Так и лезут в глаза одна-две дамы в
столь коротких юбках, что застают врасплох, и невозможно
оторвать взгляд от их ботиков, удивительно изящных, высоких, разноцветных. Затем внимание мое привлекают две
летние соломенные шляпы. Собственно, вот какая история
с этими шляпами: вдруг вижу, как две мужские соломенные
шляпы ловят нежный ветерок, а под шляпами стоят вполне
порядочные господа и посредством учтивого проветривания
шляп желают друг другу приятного утра. Шляпы в этой церемонии будут явно поважнее своих носителей и владельцев.
Тут автора покорнейше просят воздержаться от излишних
насмешек и держать себя в руках. Ему надлежит оставаться
серьезным, и надеемся, что он намотал это себе на ус.Поскольку внимание мое приятным образом привлек большой и известный своим отменным выбором книжный магазин, я поддался искушению и не замедлил нанести краткий
и беглый визит, прикинувшись человеком с хорошими манерами, причем отдавал себе отчет в том, что способен лишь,
скорее, на роль инспектора и ревизора, собирателя справок
или утонченного библиофила, а вовсе не обожаемого долгожданного богатого покупателя и хорошего клиента. Вежливым, предельно осторожным голосом и, понятное дело,
в самых изысканных выражениях, я осведомился о последних и лучших новинках изящной словесности. «Не позволите
ли, — застенчиво спросил я, — взглянуть на самое-пресамое из
заслуживающего внимания в области наисерьезного чтения и
потому, разумеется, наиболее читаемое, и сразу почитаемое,
и вмиг раскупаемое? Буду вам премного и необычайно благодарен, если окажете особую любезность и соблаговолите показать мне ту книгу, которая завоевала рьяную любовь не только
у читающей публики — кому как не вам об этом лучше знать, —
но и у внушающей страх и оттого несомненно столь улещиваемой критики, и которая будет почитаема и потомством. Вы
просто не поверите, до какой степени мне не терпится узнать,
какое из творений пера, затерявшихся в этих стопках, является той самой искомой любимой книгой, один вид которой,
скорее всего, как я живейшим образом предполагаю, заставит
меня тут же раскошелиться и превратиться в восторженного
покупателя. Меня всего пробирает до костей от нетерпения
узнать, кто же этот любимец просвещенной публики, сочинивший сей заласканный и захваленный шедевр и, как сказано, может быть, даже таковой и приобрести. Позвольте же
обратиться к вам с просьбой указать мне на сию прославленную книгу, чтобы я мог утолить эту жажду, охватившую все
мое существо, и на том успокоиться». — «Извольте», — ответил
книгопродавец. Он стрелой исчез из поля моего зрения с тем
лишь, чтобы через мгновение вновь предстать перед алчущим
клиентом с книгой, пользующейся наивысшим спросом и
обладающей поистине непреходящей ценностью. Этот драгоценный результат духовной работы он держал столь бережно
и торжественно, будто нес священную реликвию. С благоговением, с блаженнейшей улыбкой, которая может осенять лишь
уста верующих и просветленных, явил он мне призывающе
свое подношение. Взглянул я на книгу и спросил:— Клянетесь, что это и есть самая-пресамая книга года?
— Без сомнения.
— Но вы уверены, что это именно та книга, которую обязательно нужно прочитать?
— Безусловно.
— И это правда хорошая книга?
— Что за совершенно излишний и неуместный вопрос?
— Сердечно благодарю, — произнес я холодным тоном,
оставил книгу, которую все покупают, потому что ее обязательно нужно прочитать, лежать себе там, где она лежала, и
тихо удалился, не произнеся больше ни слова.— Темнота! Невежа! — долетели до меня слова по праву
раздосадованного книгопродавца, брошенные мне в спину.
Не обращая внимания на эти речи, я неторопливо отправился дальше, как сейчас станет ясно из нижеследующего,
прямиком в ближайший весьма солидный банк.По-хорошему нужно было бы зайти туда, чтобы получить
доверительные надежные сведения о некоторых ценных
бумагах. «Как мило и благопристойно заскочить по дороге
в банк, — подумал или сказал я себе, — чтобы поговорить о
финансах и коснуться вопросов, при обсуждении которых
как-то невольно переходишь на шепот».— Как хорошо и удачно, что вы к нам сами заглянули, —
услышал я из окошка ответственного управляющего, и он
совсем свойским тоном добавил, чуть лукаво, но весьма дружелюбно:— Удачно, повторюсь, что вы сами зашли! Только что
собирались писать вам, а теперь вот можно обойтись и устным уведомлением, весьма для вас радостным, что по поручению общества или кружка очевидно неравнодушных к вам
добросердечных и человеколюбивых женщин на ваш счет
переведена сумма в размере — прописью:
одна тысяча франков —
да-да, не дебет, а кредит, что мы настоящим и подтверждаем
и просим вас почтеннейше принять к сведению, а еще лучше
записать где-нибудь в подходящем месте, как вам угодно. Пред-
полагаем, что известие это придется вам по душе. Ибо производите вы на нас такое, честно говоря, впечатление, что без должного попечения и нежной заботы вам, тут уж не удержимся и
скажем без экивоков, никак. С сегодняшнего дня деньги находятся в полном вашем распоряжении. Поглядите только, как
тут же радостно засияло ваше лицо! Ваши глаза озарились. Рот
в это мгновение растянулся в улыбке, давно не посещавшей
вас, поскольку назойливые ежедневные заботы самого неприятного свойства ее беспрестанно прогоняли, ведь вас давно уже
не покидало скверное расположение духа, а лоб ваш без конца
морщился от всяких досадных и тоскливых мыслей. А теперь
потирайте ручки от удовольствия и радуйтесь, что некие благородные добросердечные благотворительницы, сподвигнутые
возвышенной идеей приносить добро, утишая скорбь и облегчая нужду, подумали о том, что следует поддержать одного
поэта, бедняка и неудачника (это ведь вы, не так ли?). Вот
нашлись люди, пожелавшие снизойти до вас и вспомнившие о
вашем существовании, так что не всем еще наплевать на презренного поэта, с чем вас и поздравляем.
Кэролин Стил. Голодный город
- Кэролин Стил. Голодный город: Как еда определяет нашу жизнь. — М.: Strelka Press, 2014. — 456 с.
ГЛАВА 5
ЗА СТОЛОМСудьба наций зависит от того, что они едят…
Жан Антельм Брийя-Саварен1МИДДЛ-ТЕМПЛЬ-ХОЛЛ
Миддл-Темпль-холл — это вам не заурядная столовая. Это просторный зал эпохи Тюдоров с впечатляющим перекрытием высотой более 14 метров, которое парит над дощатым полом благодаря двумя ярусам резных консольных балок. Со времен Елизаветы I он является ядром Миддл-Темпль-инна — одного из четырех лондонских иннов, древних корпораций британских адвокатов. Дубовые панели стен, тщательно отреставрированные после серьезных разрушений, причиненных залу бомбардировками во время Второй мировой войны, служат выгодным в свое й строгости фоном для россыпи ярких гербов выдающихся членов инна. На возвышении в дальнем конце зала располагается стол старшин, сколоченный из четырех девятиметровых брусьев, выточенных из ствола одного дуба в Виндзорском лесу и привезенных в Лондон на барже. За этим столом — считается, что его подарила корпорации Елизавета I, — сидят старшины, члены избираемого парламента Миддл-Темпля, в основном «шелковые мантии», то есть носители высшего адвокатского звания королевского советника2. На стене за их спинами висят портреты монархов; над центральным — довольно унылым изображением Карла I на коне — красуется герб инна: агнец со знаменем. Перед столом старшин стоит так называемый буфет — используемый для торжественных церемоний стол, подаренный корпорации одним из самых колоритных ее членов, сэром Фрэнсисом Дрейком; он сделан из крышки люка его легендарного корабля «Золотая лань». Рядом с буфетом расположен стол старейшин, где с 1595 года обедают восемь самых пожилых членов Миддл-Темпля. Пожалуй, единственными предметами, не имеющими солидной исторической родословной, оказываются тут длинные дубовые столы, за которыми сидят простые члены корпорации.
В общем, благодаря всем этим королевским подаркам, удивительному потолку и геральдическим эмблемам (не говоря уже об обломках пиратского корабля) высокий статус Миддл-Темпль-холла не подлежит сомнению. Более четырех столетий здесь протекает светская, профессиональная и церемониальная жизнь одной из самых значимых институций Лондона. Вести себя неподобающим образом в этих священных стенах, прямо под пристальным оком юриспруденции, было бы немыслимым, поэтому мой первый обед тут стал своего рода испытанием. Попала я на него благодаря моему другу Нику, после успешной карьеры в нашем общем ремесле — архитектуре — вдруг решившему стать адвокатом. Это, как вы понимаете, потребовало от него упорного труда, но кроме того и чего-то куда более неожиданного: участия в не менее чем 18 официальных банкетах в Миддл-Темпль-холле. Когда Ник пригласил меня присоединиться к нему на одном из этих обязательных пиров, мне сначала показалось, что там можно будет весело провести время. Я быстро осознала свою ошибку: Ник предупредил меня, что одеваться лучше построже и что банкет будет сопровождаться разными сложными ритуалами (какими именно, он не объяснил). С некоторым трепетом я встретила Ника у входа — он в черной мантии до колен, я в костюме, в котором обычно хожу на похороны, — и мы прошли в зал, где уже рассаживались две сотни людей в примерно таких же нарядах. Торопливо заняв чуть ли не последние свободные стулья, мы услышали, как главный привратник ударил жезлом об пол и призвал всех встать. После того как старшины в роскошных шелковых мантиях не спеша прошествовали к своему столу, прозвучала молитва на латыни и мы наконец сели.
Напротив нас с Ником оказались два адвоката: молодая женщина и пожилой мужчина. Последний, к моему облегчению, тут же завязал с нами беседу. Поскольку из нашей четверки только он чувствовал себя непринужденно, мы с радостью отдали ему бразды правления, а когда подали какой-то невнятный зеленый суп, нам показалось вполне естественным, что именно его обслужили первым, и он же первым взялся за ложку. Так продолжалось весь вечер, и рано или поздно меня осенило: должно быть вся эта процедура каким-то образом предопределена — иначе никак невозможно было объяснить странное сочетание изысканных манер и не особо соблазнительной пищи. В то время как наш «любезный хозяин» продолжал вести себя как председательствующий на научном симпозиуме, еда становилась все хуже и хуже: после безвкусного супа нас попотчевали разваренными овощами и серым куском баранины под мятным соусом промышленного изготовления, а затем довольно химическими бисквитами с кремом. Ради такого угощения явно не стоило одеваться по-парадному3.
Если не считать бутылки бордо, которую принес с собой Ник, все это напоминало школу, собственно, как я выяснила позднее, дело примерно так и обстояло. Когда бы не благоговение перед обстановкой, я бы, наверно, гораздо раньше заметила, что наш стол накрыт для групп из четырех человек — тарелки для хлеба стоят перед гостями то справа, то слева, так что оказываются естественным барьером между четверками. Такая группа, называемая «ротой», служит вашей компанией на протяжении всего обеда, и разговаривать с кем-либо из других четверок здесь запрещено — можно разве что попросить передать соль. Самый старший адвокат в каждой роте, сидящий ближе всего к столу старшин, назначается на этот вечер ее «ротным»: в его или ее обязанности входит помогать новичкам освоиться, находить интересные темы для разговора и вовлекать в их обсуждение всех остальных. Одним словом, за ужином он играет роль хозяина, наставника и учителя.
Эта система стара, как само ремесло адвоката: она существует с XIV века, когда законы в Англии вместо духовенства начали толковать юридические корпорации. Первоначально инны представляли собой некое подобие университетов: со своими внутренними дворами, запираемыми на ночь воротами, часовнями и трапезными они напоминают колледжи Оксфорда и Кембриджа — других наследников средневекового монастырского образования. В случае с Миддл-Темплем связь с монашеством очевидна: само это место раньше принадлежало ордену тамплиеров, чьи название, герб с агнцем и древнюю церковь унаследовали адвокаты4. Даже социальная структура инна позаимствована у рыцарских орденов: тамплиерский обычай жить по двое в келье и обедать парами в общей трапезной, воспитывавший чувство товарищества и дисциплину, лежит в основе важнейших традиций инна — его члены работают небольшими группами в общих «конторах», а во время торжественных банкетов разделяются на роты5. Банкеты с самого начала были неотъемлемым элементом жизни корпорации. Тогда студенты должны были жить на территории инна и регулярно питаться в главном зале, где специально назначенный адвокат-лектор зачитывал вслух статьи законов или председательствовал на имитациях судебных процессов, в ходе которых учащиеся могли проверить свои знания. Только с внедрением книгопечатания в XVI веке значение такого формального обучения снизилось, а столетием позже и вовсе сошло на нет. Студенты начали посещать общие трапезы просто для того, чтобы разузнать что-то полезное у старших коллег. В 1798 году этот обычай был официально закреплен с введением обязательных торжественных обедов, что отнюдь не способствовало повышению репутации иннов, поскольку создавало (по сути, верное) впечатление, будто «джентльмен может стать адвокатом, работая только челюстями»6. В 1852 году для будущих барристеров вновь начали проводиться официальные лекции, но обязательное участие в ужинах стало к тому времени уже слишком ценимой традицией, чтобы с ней можно было расстаться.
Хотя нынешние студенты-юристы получают куда более обширную подготовку, чем их предшественники XVII ве ка, к посещению банкетов в иннах по-прежнему относятся со всей серьезностью. Пригласительные билеты следует по прибытии сдавать главному привратнику, а после того как в зал вошли старшины, никто не вправе покинуть его без разрешения магистра-казначея до заключительной благодарственной молитвы (людям, склонным к паническим атакам, стоит учитывать это, если они подумывают о карьере адвоката). Нарушения этикета, как ясно из действующего устава Миддл-Темпля, воспринимаются не менее серьезно: «Если между двумя молитвами замечено какое-то нарушение, обычай велит самому пожилому из старейшин написать магистру-казначею записку, желательно на латыни, „смиренно“ уведомляя о случившемся и прося о solatium [возмещении]. Последнее, как правило, заключается в том, что нарушитель преподносит старейшинам бутылку портвейна»7.
Несмотря на всю экзотику вроде порицаний на латыни и извинений крепостью в 40 градусов, застольные ритуалы в судебных иннах имеют и вполне практический смысл. Чтобы добиться успеха в профессии, адвокату нужны сообразительность, уверенность в себе, умение убеждать и любезность, а этому не научишься по учебнику. Банкеты в главном зале инна со всеми их прениями и церемониями дают студентам возможность проверить свою готовность к любым неожиданностям, с которыми они могут встретиться в суде, а пожилым членам корпорации — поддерживать форму. Даже такое, казалось бы, драконовское правило, как запрет на разговоры с гостями из других рот, преследует вполне разумную цель: студенты учатся налаживать контакт с любым человеком, который уселся рядом. В первую очередь сословие адвокатов — это социальная сеть, а лучшего способа завязывать знакомства с людьми, чем регулярные совместные трапезы, быть не может, и в иннах эту истину осознали сотни лет назад.ДРЕВНИЙ ПИР
Разумеется, большинство застолий в сегодняшней Британии мало чем напоминают утонченные банкеты юридических корпораций. Более чем в половине случаев мы едим в одиночестве, и большинство из этих приемов пищи происходит на ходу, перед телевизором или за письменным столом8. Наша жизнь все больше подпитывается едой, а не организуется ею — не в последнюю очередь из-за гигантских перемен в социальной сфере за последние сто лет. В 1871 году в среднестатистической британской семье было шестеро детей; к 1930 году эта цифра снизилась до двух, а в 2003-м составила меньше одного9. Сегодня 36% домохозяйств составляют бездетные пары, а 27% — одинокие люди. Такая разобщенность приводит к тому, что для совместных ужинов мы все чаще выбираем рестораны. Более трети пищи в стране сегодня потребляется вне дома; к 2025 году эта доля, по прогнозам, должна увеличиться до 50% — примерно как сейчас в Америке10. Эта тенденция вызывает беспокойство даже у торговых сетей: общепит, чьи доходы с наших желудков в 2003 году составили 34,5 миллиардов фунтов и с тех пор быстро увеличиваются, всерьез угрожает их гегемонии на рынке «удобной еды»11. В ответ супермаркеты размещают у себя точки, торгующие едой на вынос, вроде Pizza Express, и рекламируют готовые блюда как «еду ресторанного качества, которой можно наслаждаться дома».
Где бы мы ни ели —дома или в ресторанах, — одно несомненно: традиция ритуальных, формализованных приемов пищи в Британии уходит в прошлое. В четверти домов сегодня даже нет достаточно большого обеденного стола, чтобы за ним могли разместиться все члены семьи12. Но хотя большую часть наших «событий питания», как выражаются продовольственные компании, состоит из таких «вариантов питания», как фаст-фуд или готовые блюда, есть случаи, для которых пригоден только один вариант. Когда нужно отметить что-то по-настоящему важное, подавляющее большинство из нас по-прежнему устраивает застолье. Столы становятся меньше, ритм жизни быстрее, но ничто пока не пришло на смену праздничному угощению. Званые вечера перестали быть обязательным атрибутом светской жизни, как сто лет назад, но даже они сохраняют определенное значение. Получив приглашение на обед, мы чувствуем себя польщенными и воспринимаем его как верное свидетельство дружеского отношения.
Пару лет назад моя подруга Карен пригласила меня на седер — традиционную трапезу, которую еврейские семьи устраивают накануне Песаха. Седер, чья традиция насчитывает более 3000 лет, представляет собой ритуал, выстроенный вокруг чтения Агады — истории исхода евреев из Египта13. Ее положено зачитывать отцу семейства, сопровождая рассказ молитвами, благословениями, песнями, а также угощением. Заняв место рядом с Карен за столом в доме ее матери Сьюзен, я увидела весьма скудный и необычный набор блюд: большие тонкие пластины мацы, веточки петрушки, тертый хрен, печеное яйцо, серовато-бурую кашицу, которая, как я узнала позже, называется харосет, и, самое странное, кость какого-то животного. Даже то, что было тут съедобным, выглядело абсолютно неаппетитно — как я вскоре поняла, так все и было задумано.
Готовясь к путешествию в неизведанные области кулинарии, я больше всего переживала, как бы не обидеть присутствующих, сделав что-то не так. Впрочем, беспокоиться было незачем: седер оказался не только священным ритуалом, но и своего рода кулинарным уроком истории для детей. Слушая, как дядюшка Карен по имени Гарольд читает Агаду на иврите (содержание мне шепотом переводила подруга), я постепенно осознавала смысл всей трапезы и каждого из предложенных блюд. Выяснилось, что петрушку во время седера принято макать в соленую воду, символизирующую слезы израильтян; маца напоминает о бегстве из Египта, настолько поспешном, что у хозяек не было времени приготовить закваску для теста; хрен передает горечь рабства, а печеное яйцо означает траур и одновременно начало новой жизни. Но больше всего мне понравился харосет: это блюдо из мелко нарезанных яблок, орехов и сладкого вина символизирует раствор, которым порабощенные евреи скрепляли камни при строительстве зданий для своих угнетателей-египтян.
Попробовав все это по очереди, я отлично прочувствовала сюжет Агады — и чем дальше, тем больше: к тому моменту, как мы во второй раз отведали горькую зелень, я здорово проголодалась. Именно в этом, конечно, и заключа ется весь смысл: в отличие от большинства праздничных угощений, седер не предполагает, что вы наедитесь досыта вкусными яствами. Еда здесь выполняет символические, а не питательные функции: самое заметное «блюдо» на столе — кость, оказавшаяся бараньей голенью, — вообще не предназначено для еды. Оно служит напоминанием о поворотном моменте в истории еврейского народа: ночи, когда Бог велел каждой еврейской семье принести в жертву ягненка, чтобы ее миновала предначертанная гибель первенцев. Именно эта жертва — песах — дала название еврейской Пасхе. Вспоминая о ней каждый год, евреи сохраняют связь с той эпохой, когда большим пирам неизменно предшествовали ритуальные жертвоприношения, когда сам порядок трапезы напоминал: чтобы дать жизнь, надо сначала ее отнять. Сегодня эти жертвоприношения совершаются только символически, но я рада сообщить, что вторую часть седера — угощение, следующее за церемониями, — символической никак не назовешь и что Сьюзен отлично готовит.
1 Brillat-Savarin J.A. The Physiology of Taste [La Physiologie du goût, 1825] / Trans. by A. Drayton. London: Penguin, 1970. P. 13.
2 Старшины официально называются Магистрами королевской скамьи.
3 По сведениям из надежных источников, в последние годы качество еды в Миддл-Темпле существенно улучшилось.
4 Еще одним наследником ордена стал расположенный по соседству Иннер-Темпль-инн. Его часовней теперь служит древняя церковь Темпль, которая приобрела всемирную из вестность в 2004 году, поскольку она, как и тамплиеры, фигурирует в романе Дэна Брауна «Код да Винчи».
5 The Honourable Society of the Middle Temple. Handbook. 2007. P. 12.
6 См.: [http://www.innertemple.org.uk/].
7 The Honourable Society of the Middle Temple. Dining in Hall. 1970. P. 16.
8 По данным Института по распределению продовольственных товаров, в 2006 году мы ели в одиночестве в 51,1% случаев, тогда как еще в 1994 году эта цифра составляла 34,4%. См.: IGD. Grocery Retailing Report. 2006.
9 См.: Burnett J. Time, place and content: the chan ging structure of meals in Britain in the 19th and 20th centuries // Food and Material Culture / Ed. by M.R. Schärer, A. Fenton. East Linton, Scotland: Tuckwell Press, 1998. P. 121; Offi ce of National Statistics. Family Spending. 2002–2003.
10 В США этот показатель на 2006 год со ставил 48%.
11 Данные взяты с сайта Института по распределению продовольственных товаров.
12 The Times. 2005. June 4. Цит. по: Blythman J. Bad Food Britain. London: Fourth Estate, 2006. P. 269.
13 Подробнее о седере см.: Raphael C. A Feast of His tory. London: Weidenfeld and Nicolson, 1972.