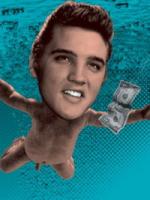Первая глава третьей книги вампирской саги Елены Усачевой «Желание»
От чего обычно просыпаешься? От звонка будильника. Это понятно — пора в школу. Летом, когда настежь открыто окно, от заоравшей за окном автомобильной сигнализации — если вдруг где-то что-то с грохотом уронят. Испуганное эхо потом долго гуляет по дворам. Тогда просыпаешься с диким желанием тоже на кого-нибудь что-нибудь уронить. Еще можно проснуться от кошмара. Такое со мной раньше бывало частенько. Теперь я во сне летаю. Сердце громко бухает то ли от восторга, то ли от испуга, что упаду. Но я не упаду. А поэтому в момент пробуждения всегда улыбаюсь. Как сейчас. И снится мне Макс. Разный. Сегодня он шел ко мне, и в его волосах был снег.
Теперь я знаю ответ на сложнейший вопрос десятилетия — где познакомиться с самым классным парнем на свете. Жаль, что я ни с кем не могу поделиться своим знанием, — секрет подходит только для меня. С любимым нас соединила ночь и мой мир призраков. Макс оттуда, из моих кошмаров. Можно сказать, прямо с кладбища ко мне и пришел. Кому рассказать — не поверят. Ну, разве только Лерка Маркелова, сумасшедшая готка, единственная, кто не бросил меня в моей болезни.
Я болею. В детстве казалось, что может быть лучше — лежи себе, пей чай с вареньем, смотри телевизор. Красота! Но я болею уже вторую неделю, и никто не может понять, что со мной происходит. Состояние гадостное, все вокруг раздражает, и если бы не моя слабость, я давно бы уже что-нибудь натворила. Пошла бы на кухню и, например, перебила всю посуду. Но от одной мысли, что тогда придется вставать, у меня слипаются глаза.
Мой сон. Только он и радует. Если приснился, значит, скоро ко мне придет Макс. Все сразу становится приятным — и жаркая подушка, и сбившееся в пододеяльнике одеяло, и сползшая от моего постоянного верчения в кровати простыня. Вот только что-то еще сегодня в нем было… Какой-то двор… и я вроде бы бежала… Нет, нет, это всего-навсего сон, ничего не было. А что было, то давно забыто. Волноваться не о чем, все будет хорошо.
Сердце, сердце, не стучи так громко, я уже поняла, что идет мой любимый. В такт сердцу звучат мерные шаги. Вот он вошел в подъезд, поднялся по лестнице, постоял около лифта, взялся рукой за перила. Идет пешком медленно. Очень медленно — специально для меня. Он дает мне время окончательно проснуться и подумать о нем. Знает, что я его жду.
А все-таки хорошо, что мой парень — вампир и я могу его чувствовать. Во-первых, никаких неожиданностей, я всегда предугадываю его появление. Во-вторых, абсолютно нерво-устойчивые отношения. Макс готов меня ждать хоть сто лет. Вот я болею, и он терпеливо приходит ко мне каждый день, развлекает разговорами, приносит книги, фильмы. При его появлении не надо вскакивать, бежать на кухню за бутербродами и чаем — Макс ничего не ест. Очень экономно!
От последней мысли я проснулась окончательно, а когда Макс возник на пороге комнаты, не смогла сдержать довольной улыбки. Спрятала нос в одеяле и все равно хмыкнула.
— О чем думала? — дернул бровью Макс.
С мимикой у него не очень. Нет, если, конечно, сравнивать с другими вампирами, то он — взрыв эмоций — и улыбнуться может, и нахмуриться, а в его прозрачно-голубых глазах я тону каждый раз, как только посмотрю в них. У остальных вампиров, если что и живет на лице, так только глаза. Звучит шаблонно, но что поделать, если так и есть на самом деле.
— Чему улыбаешься? — Макс сел на стул, который со вчерашнего дня никто не трогал.
— Я подумала, что если бы ты был из семейства плодожорок и каждый день совершал налеты на холодильник, то мама выгнала бы тебя через неделю. А так — даже чай не пьешь. Удобный гость.
— Да, мы такие!
Макс откинулся на спинку стула, и только сейчас я заметила у него пакет — рука в черной перчатке держит белую плотную сумку. Судя по размеру — несколько книг. Принес себе парочку любовных романов, чтобы не заскучаешь? Или для меня?
— Вообще от нас много пользы, — с гордостью произнес он, похлопывая свертком по ладони.
— С этого момента поподробней, пожалуйста.
Я локтем поправила подушку, чтобы было удобней лежать. День обещал быть приятным. Более интересного собеседника, чем Макс, я в жизни не встречала. Да и вообще другого такого нет — красивый, щедрый, терпеливый. Не парень, а мечта!
— Польза раз: предлагаю тебе не терять времени зря и немного позаниматься.
— Ой, только не это! — Я начала сползать обратно в горизонтальное положение, натягивая одеяло на лицо. — И вообще — с больными надо общаться осторожно. Мне нельзя перенапрягаться!
— Я сегодня говорил с директором твоей школы. — Макс сделал многозначительную паузу, пристально посмотрел на меня, заставляя забыть, о чем я только что говорила. Если он ожидал от меня благодарности, зря тратил время. Слово «школа» не рождает во мне приятных ассоциаций. — Он согласился, чтобы ты до Нового года сдала все предметы экстерном.
— Экстерном? — Одеяло застряло на полпути, около подбородка. — Зачем?
— Школа — это то, что привязывает тебя к одному месту. Если ты получишь аттестат, мы сможем, например, куда-нибудь съездить.
— Мы?
Макс стал разворачивать пакет.
— «Мы» — множественное число от «я». Я, — показал он на себя. — Я, — указательный палец качнулся в мою сторону. — Достаточно. Остальные — «они».
Молниеносным движением Макс вынул книги из пакета — довольно потертые учебники. На корешке одного из них я прочитала слово «алгебра» и спряталась под одеяло окончательно, не забыв оставить щелочку для подглядывания.
— Я болею! — Кажется, это единственный плюс — можно на время забыть о дифференциалах. Мне легче написать двадцать пять сочинений, чем разобраться, что такое логарифм.
Макс застыл, взвешивая книги на руке, словно оценивал, насколько они тяжелые для моей несчастной головы. Я сама не в восторге от своего состояния — постоянная слабость, температура, странные головокружения и сонливость. Врачи говорят: что-то нервное. И правда, предыдущая неделя была у меня не из легких.
В коридоре послышались шаги. О, моя мама! Последнее время она проявляет обо мне повышенную заботу, даже работу забросила — давненько я не болела так долго и так непонятно.
— Я подумал, занятия отвлекут тебя от болезни. Мы обманем твой организм — ты начнешь заниматься, он решит, что здоров, и все пройдет. «Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben» (Немецкая фраза, похожая на русскую поговорку «Клин клином вышибать».).
— Смешной метод. Но от математики ничего, кроме головной боли не бывает! — В тонкости перевода с немецкого я не стала вдаваться. Макс любил вставлять словечки на своем языке. Кое-какие я выучила. Например, «Es klingelt» (Звенит звонок (нем.).). Макс часто мне напоминает о том, что я опаздываю на урок. Но к сегодняшнему дню это не относится.
Я посмотрела на его спокойное лицо, на постоянно меняющиеся, как будто удивленные глаза. Не знаю, о чем на самом деле думает Макс, но мне порой кажется, что в его глазах прячется недоумение. Как будто ему до сих пор странно, что он вот так запросто приходит ко мне в гости, сидит около моей постели. Вот еще учебники притащил!
Последнее время я часто задаю себе вопрос, за что я полюбила Макса. Когда мы только познакомились, меня задело, что он странно себя повел. Потом мне было его жалко. Еще был испуг, когда узнала, кто он на самом деле. Все. Дальше — только любовь. Почему? Потому что он существует на свете. С ним мне ничего не страшно. Стоит ему оказаться рядом, и мир вокруг как будто расцветает. Мой маленький персональный стереоэффект. Сначала картинка плоская, а надел очки — и вот уже все в объеме. Макс надежный. Порой мне кажется, что я начинаю смотреть на мир его глазами. Глазами вампира.
Жаль, я никогда не увижу Макса в его родном девятнадцатом веке. Он родился в тысяча восемьсот каком-то там году. Тогда все было другое, хотя Макс утверждает, что особой разницы нет. Люди такие же. А он был таким, как все. Безупречные манеры, знание нескольких языков, умение играть на пианино, широкий кругозор. После его рассказов кажется, что девятнадцатый век был полон вампирами. Потому что сейчас хорошо себя вести и быть потрясающими парнями могут только они. Реальные парни обязательно страдают каким-нибудь дефектом. Либо с головой проблема, либо хромают на все четыре конечности.
— Маша!
Мне показалось, что я всего на секунду закрыла глаза, но, открыв их, поняла, что успела уснуть. Макс стоял, склонившись надо мной, заглядывал в лицо. Картинка медленно поплыла в сторону. Опять голова кружится. Я машинально прикрыла глаза ладонью. И — как вспышка или внезапно включившийся телевизор — увидела темную комнату, на столе мерцает экраном ноутбук, какие-то провода, пачки дисков, темный провал книжного шкафа, на полу книги, узкий темно-зеленый коврик, кровать, на которой кто-то лежит. Кровать кажется сдавленной между стенкой и широкой тумбочкой. На тумбочке пузырьки, блистеры с таблетками. Я наклоняюсь, чтобы, наконец, рассмотреть, кто лежит в кровати, но какое-то странное движение отвлекает меня. Я оборачиваюсь. С писком по тумбочке проносится стремительная белая мышь. Нет, даже не мышь, а крыса — я успеваю заметить ее длинный розовый хвост. Крыса ныряет в щель между коробкой и шкафом. От неожиданности я оступаюсь, делаю шаг, опрокинув несколько стопок книг. И видение пропадает.
— Эй, ты только не умирай, слышишь?
Голос Макса доносится издалека. А мне почему-то представилось, как я медленно опускаюсь на дно пруда. Надо мной толща воды, и кто-то с берега пытается докричаться до меня, заставить всплывать. Но я ничего не могу сделать. Вода, давящая на грудь, слишком тяжела.
— Я не могу умереть, я бессмертная, — пробормотала я. Но, судя по лицу любимого, мой ответ его не удовлетворил. Он стал отбирать у меня одеяло. Я сопротивлялась, но он взял пододеяльник за кончик и легко потянул на себя.
— Нашел, с кем справиться… — пожаловалась я, потирая руку, — одеяло из пальцев выскользнуло, обжегши кожу. Сила у Макса огромная. — Холодно.
— Сейчас будет еще холоднее, — пообещал он, сел ко мне на кровать, скинул тапочки и стал устраиваться рядом со мной под одеялом.
— Ха! — вырвался у меня смешок. Неприятное видение медленно испарялось. — Ты ничего не перепутал? Больных обычно греют, а не охлаждают.
Макс глубоко вдохнул и, словно решившись, крепко обнял меня, прижимаясь всем телом. Я вытянулась, ощущая, что рядом со мной сейчас лежит половина льдов Антарктики с парочкой замороженных белых мишек. Макс был ледяной. Но не ледяной как сталь на холоде, а приятно прохладный, как человек, только что вошедший в комнату с сильного мороза. Мягкая кожа, еле уловимый чуть сладковатый аромат. Прохлада его тела входила в меня, вплеталась в мои неубиваемые тридцать семь и пять, и мне становилось хорошо.
— Я тебя заражу, — прошептала я ему в ухо.
— Попробуй, — хмыкнули мне в ответ.
Получив разрешение, я подняла лицо, собираясь его поцеловать. Почувствовала, как он напрягся, перестал дышать, но губы не отвел. Ответил поначалу робко, а потом вдруг настойчиво, резко, придавив меня собой. Моя голова мгновенно выключилась. Все вокруг превратилось в одно страстное желание — не разрывать объятия, не прерывать поцелуя. Не помню, что делала, мои мозги благоразумно отвернулись, оставив тело в одиночестве справляться с накатившим чувством.
Секунда, незначительный микрон в потоке времени, и вот уже Макс снова сидит на стуле, перекинув ногу на ногу. Пульсирует зрачок, губы крепко сжаты. Я одна среди разворошенной постели и выгляжу не лучшим образом. Хочу успокоиться, но сердце только сильнее начало биться. С трудом удалось сдержаться, чтобы не кинуться Максу на шею и не потребовать продолжения поцелуя. Голова вдруг стала легкой, я ее вообще не ощущала. Болезнь ушла. Я подалась вперед, собираясь встать. Чтобы снова почувствовать в своих объятиях его ледяной жар, снова оторваться от земли и улететь в небеса. Чтобы снова его поцеловать.
— Тебе лучше? — спросил Макс, стараясь не разжимать губ.
Ага, я сейчас чуть не стала свидетелем превращения любимого в вампира. Выходит, мы с ним никогда…
— Кхм! — раздалось за дверью, и по коридору прошуршали шаги.
Макс не шевельнулся. Даже бровью не повел. Я же готова была бежать разбираться с мамой.
— Она нас видела! — прошептала я, спуская ноги с кровати.
— Да? И что? — Макс потянулся, взял верхнюю книжку из стопки и стал лениво перелистывать.
— Как что? — опешила я и тут же ощутила резкие толчки в виске. Опять головная боль! Быстро она вернулась.
— Во-первых, в следующий раз будем лучше закрывать дверь. — Макс захлопнул учебник. — Во-вторых, в тот же самый следующий раз я приглашу тебя к себе. В-третьих, я на тебе женюсь, и нам вообще никто никогда не будет мешать.
— И не мечтай! — Я вновь закопалась в одеяло. Ничего себе заявки. — Я за холодильники замуж не выхожу. И вообще рано об этом говорить!
От смущения я готова была утонуть лицом в подушке, но Макс не позволил — обнял меня за плечи, вынимая из кровати, заставляя сесть.
— А когда об этом можно будет говорить? — невинным голосом спросил он.
Нет, ну что за дела! Я готова сквозь землю провалиться, а он смотрит так, словно проверяет на детекторе лжи.
— Не знаю. — Я старательно отводила глаза. — После окончания школы.
— Хорошая мысль! — Макс поднял над головой учебник. — С какого предмета начнем?
— Ты так легко говоришь, будто двадцать раз был женат! — возмутилась я.
— Двадцать раз не был, — качнул головой Макс, с явным удовольствием разглядывая, как я кутаюсь в одеяло, устраиваясь поудобней. — Был помолвлен. Один раз.
Хорошо, что я сидела в кровати, а то упавшая от удивления челюсть разбилась бы о жесткий пол.
— С Катрин? — вырвалось у меня. Молчи, молчи, молчи! Сколько раз ругала себя за несдержанность. Ну вот зачем я вообще вспомнила гадкую вампиршу? Других тем для разговоров у нас, что ли, нет? Она исчезла. Исчезла из нашей жизни навсегда и больше не появится.
— Ее звали Мари.
— Какое совпадение! — фыркнула я, отворачиваясь.
— Мари-Хелен. — Макс делал вид, что не замечает моих острот. — У нее были такие же волосы, как у тебя.
Были? И сплыли? До недавних пор я считала ревность страшной пошлятиной. Что может быть глупее, чем изводить любимого придирками, бесконечными вопросами и подозрениями? Но сейчас мне именно этим и хотелось заняться — задавать вопросы и изводить придирками.
Если я ничего не могла понять по лицу Макса, то он считывал мои эмоции, как с книжной страницы. По его довольной улыбке я поняла, что мои старания сдержать поток вопросов замечены.
— Прелестная была девушка… — длил мои мучения Макс.
— Чем выгодно отличалась от меня… — поддакнула я. Так, кажется, сейчас начнется маленькая атомная война.
— Еще как отличалась! — расширил глаза Макс.
— Ты был влюблен? — накручивала я себя все больше и больше. Сейчас он скажет «да», и я что-нибудь в кого-нибудь брошу.
— Не то слово!
В эту секунду Макс совершенно не был похож на вампира. Улыбка, глаза, восторг на лице… Не хватает только румянца. Ну, все! Я запустила в него подушкой. Не попала. Короткое движение, и подушка в руке Макса. Я быстро оглядела себя. Можно было еще метнуть одеяло, но оно точно не причинит ему вреда. Я наклонилась. Белая ладонь легла на тапочек раньше, чем я успела его коснуться.
— Ты с ней целовался? — прошептала я.
— Ты целуешься лучше.
Он был слишком близко, я склонилась к его губам быстрее, чем успела что-либо сообразить. На секунду сама себе показалась огнедышащим драконом — настолько холоден был его рот и настолько горяча я.
— Чем еще мы отличаемся? — пробормотала я, забираясь обратно на кровать и отбирая свою подушку. В горле вдруг запершило, я с тревогой оглянулась. Мне показалось? По полу вроде кто-то пробежал. От книжного шкафа к столу. Глупость, показалось, конечно. Я повернулась, готовая слушать рассказ любимого и ни в коем случае не думать о белой мыши.
— Она была умной, — спокойно произнес Макс. Пока он говорил, душа моя успела подпрыгнуть, стукнуть меня по мозгам и обиженно уползти в пятки. — Любила учиться. Я был у нее репетитором. Ей совершенно не давалась математика.
— И вы за неспешным изучением теоремы Пифагора… — продолжила я пасторальную картинку. О чем он думает? Зачем мне все это рассказывает!
— Мы были помолвлены, — согласно кивнул любимый. — А потом я умер.
Я кубарем скатилась с небес язвительности на землю стыда, обиды тут же забылись. Бедный! Какая печальная история!
— И что же та девушка? — прошептала я. Если сейчас он скажет, что она была первая, кого он покусал, став вампиром, я разрыдаюсь. Или она от тоски бросилась со скалы и теперь бродит бестелесным призраком по улицам Берлина…
— Ни-че-го. — Макс потер руки, словно стряхивал с них прожитое. — Ab-so-lut nichts . Поужасалась. Поубивалась. А потом вышла замуж.
— А ты? — Какой ужас! Я вот так запросто разговариваю с человеком, который столько всего пережил! — Разве ты не пришел к ней рассказать, что произошло?
Бедная девушка! Несчастный Макс! Я бы, наверное, с ума сошла от переживаний.
— Ты же любишь читать, — Макс кивнул в сторону книжных полок, — и, вероятно, знаешь, что подобные разговоры до добра не доводят. Вряд ли ей стало бы легче, узнай она, кем я стал.
Я посмотрела на ряды книг, пытаясь сообразить, какую конкретно имеет в виду любимый. Толстого, знатока человеческих душ? Тургенева, певца девичьих сердец? Достоевского, защитника «униженных и оскорбленных»?
И тут мне снова показалось, что под столом что-то промелькнуло. Вот только персональных галлюцинаций мне здесь не хватает!
Мой отстраненный взгляд Макс понял по-своему.
— О чем ты размышляешь? — Голос его стал напряженным.
— Что? — Я все еще вглядывалась в темноту пространства под столом. — Не знаю.
Только не думать о белой мыши… Только не думать!
— Считается, что любить умеют не все, — неспешно заговорил Макс. — Это некая особенность души. Но так как, по мнению исследователей, души у вампиров нет, мы же проклятые создания, променявшие души на вечную жизнь, то мы автоматически лишаемся способности любить, не имеем привязанностей и вообще крайне равнодушные ребята.
Он размышлял вслух, а я все больше и больше чувствовала, до какой же степени я гадкая и мерзкая. Конечно же, Максу было неприятно об этом вспоминать, я же своими глупыми вопросами заставила его вернуться в прошлое. Мыши еще тут у меня белые…
— Не знаю, что стало с моей душой и кто положил ее в небесный ломбард, но тебя я люблю. Говорю с уверенностью, потому что уже сталкивался с данным чувством. Сравнивать, конечно, нельзя. Но это любовь.
Он улыбнулся своей сдержанной, так сильно меняющей его улыбкой, и я словно увидела перед собой прошлого Макса. Макса столетней давности. Макса человека.
— Но почему же ты ее потом… перестал любить?
— В жизни иногда случаются события, когда становится не до любви.
— «В жизни случаются события…» — машинально повторила я, вспоминая все то, что мне довелось пережить с любимым. И столкновение с готами, и автокатастрофу, и поездку в Москву к охотникам за вампирами — Смотрителям. Разве за все это время было хоть одно мгновение, когда я не думала о Максе, когда на вопрос, что для меня важнее — жизнь или любовь, я не ответила бы: любовь?
— Сейчас все по-другому, — перебил мои размышления Макс. — Хелен давно умерла. Все прошло…
— Прошло? — Что-то меня сегодня бросает то в жар, то в озноб, то в ревность, то в панику. Что он хочет сказать? Почему так медленно говорит? Что за манера тянуть время и не открывать всё с самого начала! Если он опять заявит, что для моего здоровья нам вредно быть вместе, я не знаю, что сделаю. Выброшусь из окна, потому что не смогу жить без Макса.
— Помнишь ту драку? Я так и не понял, из-за чего она произошла. Тебе еще руку порезали…
— Да, — потупилась я. По части глупостей я чемпион-ас, только я могла побежать защищать парня от хулиганов. — Ты потом сказал, что именно тогда заметил меня.
— Это было поразительно, — согласился Макс. — Ты же меня совсем не знала, а уже была готова защищать…
— Сам же говорил, что человек бывает гораздо страшнее любого вампира, — я не поднимала глаз.
— Но ты же не знала еще, что я вампир, поэтому вполне могла проявить осторожность!
— Мне хотелось только предупредить. Они ведь шли драться трое на одного. А потом, с Синицыным мы учимся в одном классе. Кто ж знал, что он такой дурак! — пробормотала я, возвращаясь к воспоминаниям о том вечере, когда мой одноклассник решил проучить неожиданно появившегося красавчика, приняв его за конкурента на дороге к девичьим сердцам. Но Макс оказался вне конкуренции.
Черт, получается, что я оправдываю дурака Птицу-Синицу, хотя повел он себя тогда по-свински: мало того, что натравил на Макса дружков, да еще и сбежал.
— Не в том дело. Было уже не важно, что они делали. Я их и не заметил совсем. Я увидел тебя и словно проснулся. Это была не любовь с первого взгляда, а только воспоминание, что такое чувство вообще существует. Мы никогда не говорили с тобой об этом, но я хочу, чтобы ты знала — ты стала частью меня. Я хочу быть рядом, хочу видеть мир твоими глазами.
— И я хочу! — неожиданно призналась я. Ах, что мой куцый, обыденный человеческий мир рядом с безграничным миром вампира.
— То, что я сейчас нахожусь здесь, все только осложняет. Если ты попросишь, могу сделать так, что все забудут о нашем существовании. Но мне кажется, это будет нечестно по отношению к тебе. У тебя своя жизнь, и ты должна ее проживать по правилам.
— К черту правила!
— Я не знаю формулу любви, не знаю, что ты сделала со мной, но ни одной женщине не удавалось заставить меня чувствовать себя человеком. И цвет волос тут ни при чем. Теперь я точно знаю. Я бы заметил тебя, даже если б ты не пришла тогда на площадку. Я люблю тебя.
Каждое его слово болезненным молоточком отдавалось в моей голове. Я поднесла ладонь ко лбу и сама не заметила, как произнесла:
— Кажется, у меня поднимается температура.
Макс удивился. Да, да, неэмоциональный вампир проявил ярко выраженную эмоцию. Словно какая-то программа дала в его мозгу сбой. Он дернулся, замер, глаза стали медленно наливаться чернотой.
Насладиться произведенным эффектом я не успела, потому что краем глаза снова заметила движение. Белая мышь. Сидела на столе и смотрела на меня красными бусинками глаз. Это был не случайный взгляд, не секундная заминка, а пристальный, целенаправленный. Не отворачиваясь, мышь стала медленно поднимать мордочку.
Я завизжала раньше, чем успела сообразить, что вообще-то мышей не боюсь. Макс крепко обнял меня, заслоняя собой от опасности.
— Мышь! — вопила я, не помня себя от страха. — Там мышь! — тыкала я пальцем сразу во все стороны.
Макс крепко, очень-очень крепко сжал меня в объятиях, ладонью притянул голову к своей груди.
— Там никого нет! — Слова гулко отдались в его грудной клетке.
Как он может видеть, если даже не смотрит на стол? Повернут к нему спиной, изучает что-то на противоположной стене. Ой, только не это!
— Максим, тебе не кажется, что Маше надо отдохнуть?
Вот куда смотрел Макс — на пороге комнаты стояла мама. Голос ее был сух, как наждачная бумага. А ведь когда-то Макс ей нравился.
— Хорошо, Виктория Борисовна. Я ухожу, — легко согласился он, пытаясь ссадить меня со своих колен.
Но я вцепилась в него мертвой хваткой.
— Останься! — вскликнула. Несмотря на все наши договоренности что Макс не будет воздействовать на моих родителей, сейчас я была готова попросить его, чтобы он заставил маму закрыть дверь комнаты и забыть, что она здесь видела.
— Все по-честному, — ответил мне Макс на мою непроизнесенную просьбу, и я невольно соскользнула с его колен, вставая на ноги.
— Я боюсь! — Мне очень хотелось, чтобы он остался.
Макс посмотрел на стол и замер, прислушиваясь.
— Здесь никого нет, — повторил он. — Тебе показалось. Это болезнь. Скоро все пройдет.
И, чтобы окончательно меня успокоить, подошел к столу, провел по нему ладонью.
— Максим! — напомнила о себе мама.
— Я завтра приду, будем заниматься.
«Не уходи!» — кричало все внутри меня. Надо же, одно мгновение, один дурацкий мышиный взгляд вверг меня в подзабытое уже состояние ужаса. Вокруг что-то происходило. Неприятные воспоминания пробивались из глубин моего сознания, предвещая одни лишь неприятности. «Побудь со мной!» — билась требовательная мысль, но рот молчал, губы не шевелились. Макс словно запечатал их. Ему действительно надо было уйти. Остаться сейчас — значит нарваться на конфликт с мамой, усложнив и без того натянутые отношения.
А ведь он прав. Закончить школу экстерном — как раз то, что на время успокоит маму и даст нам возможность быть вместе.
— До завтра, — быстро закивала я. — Я посмотрю учебники.
— А я тебе принесу задания, — с пониманием посмотрел на меня Макс.
И я ответила таким же взглядом. Мол, извини, но что поделать, если я не так быстро реагирую на то, что ты хочешь мне сказать. Потерпи, я научусь, непременно научусь и стану твои мысли ловить с ходу.
— До свидания! — Мама цербером стояла в коридоре, словно Макс собирался убежать на кухню и спрятаться там под столом.
Макс даже не оглянулся. Коротко кивнул маме, скользнул за дверь. Еле слышно щелкнул замок. Мое сердце тревожно трепыхнулось, пытаясь полететь следом за ним, и успокоилось. Макса рядом не было. Он ушел. Ушел стремительно. Я перестала его чувствовать. Теперь он был очень далеко от моего дома.
— Маша, ты соображаешь, что делаешь? — Мама медленно переступила порог моей комнаты.
И тут я все поняла. Это была не мышь, а крыса. Белая крыса альбинос. Когда ко мне Маркелова приходила в последний раз? Пару дней назад? Не ее ли это рук дело?
— Как ты не понимаешь, сейчас не время любезничать с Максимом? Ваши чувства никуда от вас не денутся. Тебе надо хотя бы на ноги встать. Сколько времени уже болеешь, безостановочно пьешь лекарства! И как он ухитрился пройти мимо меня, что я не заметила? В следующий раз увижу, захлопну дверь.