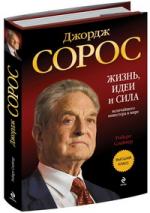Отрывок из романа
Симода, декабрь 1841 года; Итибеи Сайто знал, что жене его, она на сносях, вскоре снова предстоит пройти сквозь горнило родовых мук. И вздрагивал при одном воспоминании о том, как два года назад это едва не стоило Мако жизни.
Холодный зимний ветер яростно хлестал по стенам небольшого деревянного дома, стоявшего почти у самого берега моря. Но Сайто, хороший корабельный плотник, поставил для своей семьи добротный дом. Крепкий, он без труда отражал жестокий натиск ледяных ветров и волн, поднятых недавним тайфуном.
Сайто вздохнул и подумал: когда же он утихнет, этот проливной дождь? Теперь работы не будет еще несколько дней, а значит, и денег в семье не прибавится. А вот еще один рот — это да, стало быть, трудиться ему еще больше. Не привык он сидеть сложа руки, и это вынужденное безделье из-за тайфуна совсем выбило его из колеи. Что делать, бедняк вроде него не может позволить себе такой роскоши, ему надо всю жизнь работать от зари до зари, чтобы прокормить себя и свою семью.
Тут лицо его на мгновение просветлело от мысли: «А ведь тайфун наверняка разбил и повредил немало лодок и шхун, так что работы у меня прибавится — ремонт, строительство…». Сайто вдруг устыдился сознания, что можно выгадывать на чужом несчастье, но потом просто пожал плечами. Ведь это Всемогущая Природа вершит круговорот жизни и смерти и он не в силах что-либо изменить.
Позади скрипнула половица, и в комнате появилась его сестра.
— Сайто, у Мако начались схватки! — объявила она, беспокойно прислушиваясь к бушевавшему снаружи ливню. — Сегодня плохой день для родов. Вдруг что-то пойдет не так?
Сайто не ответил; рождение и смерть неподвластны человеку, и ему оставалось только молиться, чтобы с женой все получилось хорошо и на этот раз Бог даровал ему сына. Не так давно сёгун издал указ, разрешавший крестьянам и мастеровым вроде Сайто иметь фамильное имя — привилегию, о которой он и ему подобные при прежнем правителе и мечтать не смели. Сайто несказанно гордился обретенной фамилией и страстно желал иметь сына — передал бы ее по наследству.
Но Господь отказал ему в своей милости, и десятого декабря жена Сайто родила ему бледную девочку, выглядевшую болезненно. Назвали ее Окити, и Сайто, смирившийся с тем, что ему придется кормить и одевать еще одну дочь, смотрел на поражавшего своей красотой ребенка с невыразимой грустью. Девочка эта родилась совсем не ко времени: дочь у них уже есть, а кроме необходимости продолжать род, в хозяйстве нужны сильные сыновьи руки, чтобы помогать отцу плотничать. Вторая дочь означает еще один рот и еще одну жизнь, за которую ты в ответе. Простые люди вроде них не позволяли себе роскошь иметь много дочерей.
Сайто тяжело вздохнул по какой-то непонятной причине Господь не пожелал услышать его молитвы. Глядел на шевелящийся живой комочек и на виновато улыбающуюся жену; не ведали они, что придет время и нежеланная дочь прославит свою семью на всю страну и обессмертит фамильное имя, как не смог бы никакой сын. Дочь их окажется тесно связанной с историческим «открытием Японии» иностранцами в Симоде в шестидесятых годах девятна¬дцатого века.
Ничего не подозревавшая ни о своей «нежеланности», ни о великой судьбе, что ждала ее впереди, девочка вдруг зевнула, и сердце Сайто сжалось — ведь это его родная кровиночка и не может он от нее отмахнуться. И поклялся Сайто окружить дочку любовью и заботой, как бы бедно им ни жилось.
* * *
Шли дни, и все удивлялись, какой красавицей становилась крошка Окити: кожа молочно-белая, волосы черные и блестящие, а черты лица утонченно-изящные — само совершенство.
— Она такая изящная! — восклицала сестра Сайто.
— Да, — соглашался Сайто и издавал иронический смешок.
«И как это у худого, морщинистого, заскорузлого от солнца и ветра плотника и его грузной жены, с такими раскосыми глазами, родилось дитя столь прекрасное и очаровательное?» — спрашивал он себя. Не знай он Мако лучше чем кто-либо и не подтрунивай кстати и некстати над ее непоколебимой добродетелью, мог бы даже предположить, что отец этой очаровательной малышки вовсе не он. Хотя и жалел, что Господь не послал ему сына, глаза его светились застенчивой гордостью и восторгом.
Да, конечно, он уверен, что именно он отец малютки Окити; Мако никогда бы не смогла утаить от него что-либо подобное. Господь даровал им дочь, и они должны быть счастливы. Но Сайто был печален оттого, что знал: такая красота есть бесценный дар только в богатых и знатных семьях, где она служит умножению богатства и власти. Что пользы в этой красоте среди бедных, едва сводящих концы с концами рыбаков Симоды… Девушке лучше быть простой и невзрачной, чтобы не привлекать внимания власть имущих, которые всегда берут все, что хотят. В Симоде рабочие руки ценятся куда выше, чем красота, и Сайто пребывал в долгих раздумьях: как сложится жизнь маленькой Окити?
Годы летели, и вскоре Окити превратилась в милого, не по годам развитого ребенка. Характер она имела добрый и со всеми уживалась; будто чувствуя, что нужно как-то загладить «вину», что родилась девочкой, и поэтому старалась всем угодить. Любила свою семью и поселок, где жила. Хоть никогда они и не заимеют и малой толики тех богатств и роскоши, о которых рассказывали девушки, проданные в услужение к знати, семья Сайто жила в мире, согласии и была по-своему счастлива. Дом Сайто замыкал собой ряд аккуратных одинаковых построек, с выкрашенными в нарочито черный цвет стенами с ярко выделяющимися на их фоне белыми накладками, выложенными в диагональный узор. Это так называемые дома намеко, и жители Симоды очень ими гордились.
Но больше всего Окити любила Симодский залив. В погожие дни воды его так тихи и спокойны… она садилась на свой любимый каменный выступ и долго-долго смотрела на море и на далекий горизонт. Часто задумывалась над тем, что за мир лежит там, за этими водами, и сочиняла истории о людях, его населявших.
Обитатели этого придуманного ею мира становились ее друзьями, и, пока Окити росла, она все больше погружалась в эту иллюзорную жизнь, где так много красоты и музыки, что каждый день там становился летним праздником.
Единственной тучей на этом безоблачном небосклоне был ее отец. Окити знала, что он по-своему любит ее, но в то же время видела —— держит на расстоянии. Казалось, он боялся стать ближе, чувствуя —— очень скоро ему придется вынести решение о ее будущем. Понимала и то, что этот судьбоносный день неумолимо надвигается. Ей хотелось, чтобы время остановило свой бег и она не взрослела, —— тогда ее жизнь в надежном семейном кругу никогда бы не кончилась…
Для Итибеи Сайто вопрос о судьбе дочери тоже стал одним из самых болезненных, и много размышлять об этом он не любил. Вышло так, что из-за своей восхитительной красоты Окити просто не могла составить пару как невеста никому из местных кандидатов в женихи. Вот и искал он поневоле выход из неловкой ситуации —— надо же как-то определять будущее Окити.
Что до ее матери, то здесь все складывалось совершенно иначе: та любила дочь всем сердцем, утешала как могла и гасила вспышки детского раздражения, стараясь держать девочку подальше от отца.
Окити росла очень красивым ребенком, с чистой, нежной, прямо прозрачной кожей и утонченными, почти совершенными чертами лица. Ничуть она не похожа на других детей, с узкими глазами и пухлыми, скорее одутловатыми щеками, и мать очень гордилась своей необыкновенной дочерью. Окити обладала той красотой и грациозностью, о которой Мако Сайто втайне мечтала всю свою жизнь. Но тяготы и заботы, испытанные за пятнадцать лет замужества за Итибеи Сайто, раз и навсегда положили конец этим фантазиям. И вот теперь она заново переживала мечты своей юности вместе с подрастающей красавицей дочерью.
Через два дома от них, в таком же намеко, как и у Сайто, жила семья Кодзима. Их старшая дочь, Наоко, стала лучшей, самой близкой подругой Окити. Теплыми летними вечерами Окити и Наоко взбирались вверх по склону на свое любимое место —— плоскую скалу, нависавшую над морскими волнами, —— и любовались оттуда закатами.
Как-то раз летом 1853 года девочки отправились на свое заветное местечко. День выдался погожим, и закат обещал быть восхитительным; вот они и хотели посмотреть, как солнце медленно погружается в море. Несмотря на дивный солнечный денек, Окити почему-то грустила. Вот-вот ей исполниться двенадцать, и она сознавала, что очень скоро неминуемо встанет вопрос о ее будущем. Не хотелось ей покидать уютное, безопасное семейное гнездышко; впервые пожалела она, что не родилась мальчиком. Мальчишкам —— не надо думать о будущем: все решалось женитьбой на той, кого выберут родители. И в семье мальчики оставались столько, сколько хо¬тели.
Когда солнце начало скатываться в море, на горизонте появилась одинокая рыбацкая лодка; пугающе черная на фоне заходящего солнца, она, казалось, угрожающе надвигалась прямо на них. Окити вдруг закрыла лицо руками и тихонько застонала. Наоко тут же подбежала и обняла ее за плечи.
— Окити, Окити! — вскрикнула она. — Что с тобой? Тебе плохо?!
Девочка справилась с тем, что на минуту оцепенела, и помотала головой, пытаясь стряхнуть наваждение.
— Сама не знаю, что на меня нашло, — ответила она. — Я вдруг увидела что-то большое и черное… оно плыло прямо сюда и хотело схватить меня! Ерунда, правда?
— Конечно, ерунда! — согласилась подруга. — Посмотри — там только рыбацкая лодка, ничего больше!
Окити внезапно задрожала.
— А мне… мне вдруг показалось, что я вижу черный корабль! И не наш, чей-то чужой!
Наоко всегда делалось неуютно от внезапных предчувствий Окити и ее видений. Жизнь в Симоде, что и говорить, невеселая, а Наоко старалась мечтать только о хорошем, счастливом.
— Глянь, — молвила она весело, стараясь отвлечь Окити от мрачных мыслей, — вон рыбаки возвращаются… Пойдем посмотрим, что там у них в улове!
Девочки заспешили вниз по каменистому склону, гремя деревянными башмачками. Они тотчас забыли о черном корабле, пустившись наперегонки навстречу рыбацким лодкам и вовсю размахивая руками. Для Окити это было последнее счастливое беззаботное лето.
* * *
На следующий день в Симоде проходил традиционный летний праздник. Этот день Окити самый ее любимый в году: все женщины ненадолго забывали о тяготах повседневной жизни, наряжались в свои лучшие кимоно, пели, танцевали и пили саке всю долгую летнюю ночь напролет. В этот день все забывали о заботах и даже лицо ее отца становилось не таким усталым и суровым. Окити вдоволь любовалась на веселых, красивых женщин — такой когда-то была и ее мать в далекие годы своей уже позабытой юности. Все вокруг заражали друг друга радостью, оставляя в прошлом обиды и ссоры. Казалось, сам воздух опьянял людей безмятежным счастьем жизни.
Но на этот раз девочке было не по себе — отец по-прежнему выглядит усталым и озабоченным. Видя, как Окити самозабвенно танцует с сестрой, Сайто думал, что объявит дочери свое решение сразу после праздника. Пусть ребенок порадуется последним денькам уходящего детства, ей суждено попасть вскоре в другой, взрослый мир, там она и останется до конца жизни.
Много позже Окити скажет об этих днях: «Для меня то лето было каким-то особенным… никак я не могла насытиться праздником, будто знала, что уже никогда не стану такой счастливой». Наутро после праздника Сайто решил объявить ей свое решение.
— Окити! Идем, я должен сообщить тебе нечто важное.
— Да, отец, — спокойно ответила девочка, но сердце ее наполнилось ужасом: Сайто никогда не обращался с ней напрямую и наедине, если речь не шла о чем-то плохом. Неужели сегодня он скажет что-то о ее будущем?
Но, как послушная и добропорядочная дочь, молчала и терпеливо ждала.
— Мое возлюбленное дитя, — начал он, — я принял решение насчет твоего будущего, и решение это кажется мне наилучшим для тебя при теперешних обстоятельствах. После своего двенадцатилетия ты оставишь отчий дом и отправишься в поместье Сен Мураяма. Там ты обучишься ремеслу гейши.
У Окити упало сердце — гейша… так она станет гейшей… Одной из тех девушек, что танцуют и поют для увеселения мужчин.. И отец в самом деле считает это лучшей долей для дочери? Но отцовское слово — закон и она не посмела возразить. Пришлось ей покорно принять все объявленное им, хотя сердце обливалось кровью. Той ночью она уснула вся в слезах, будто ей безразличны ласковые объятия и нежный голос матери, всеми силами пытавшейся ее успокоить:
— Это все потому, что ты такая красивая. Дивная красота безвозвратно сгинет за годы тяжкого труда, если ты останешься здесь. А отец твой искренне верит, что лучше всю жизнь петь и танцевать, чем работать не разгибая спины. Поэтому ты должна благодарить его за мудрое решение, ведь он никогда не смог бы дать тебе всего того, что ты сможешь получить в усадьбе богатых и знатных Сен Мураяма.
— Лучше бы я была уродиной! — причитала сквозь рыдания Окити. —Чувствую, что красота будет преследовать меня как проклятие и искалечит мне всю жизнь! Мама, мама, прошу тебя, пожалуйста, помоги мне — сделай так, чтобы он передумал! Если надо, я стану скрывать свою красоту и поступлю в прислуги.
Но Мако лишь покачала головой, и Окити поняла: мать никогда не пойдет против воли отца, что бы она при этом ни думала. «Как жестоко кончилось лучшее лето в моей жизни!» — мелькнуло в голове у Окити, и она забылась тяжким, тревожным сном.
* * *
На двенадцатилетие Окити мать приготовила традиционный «осекихан», красный рис с фасолью, на счастье и лапшу с травами — на долгую жизнь. Через несколько дней скромные вещички девочки сложили в холщовый мешок, и вскоре она переступила порог богатого и знатного дома семейства Сен Мураяма. Двенадцать лет ей, и вот позади детство — надо учиться, чтобы стать настоящей гейшей.
Дом Сен Мураяма воплощал в глазах Окити совсем иной мир — богатства и культуры. Девочка и представить не могла, что за пределами рыбацкого поселка существуют люди, живущие в красоте, беззаботности и достатке. Иногда ей грезилось, что она умерла и попала в потусторонний мир.
Окити привыкла к другому: в ее семье экономили каждый грош и довольствовались самым малым, мясо ели по великим праздникам один-два раза в год; не по себе ей в этом царстве ослепительной роскоши…
Усадьбой управляла госпожа Сен Мураяма, возлюбленная сёгуна Мукаи, правителя Кавадзу. Никогда Окити не видела столь блистательной, царственной дамы; ей понятно, почему влиятельный и могущественный человек — сёгун так увлечен госпожой Мураяма.
Почти сразу Окити обнаружила, что ей безумно нравятся уроки танцев и игры на трехструнной лютне — их давала грозного вида дама с почерневшими зубами. Другие ученицы осторожно шептались: некогда была она редкостной красавицей и одной из самых знаменитых гейш… Окити же внушала ужас. Лучше не думать о том, для чего их так усердно и тщательно обучают и скольких важных мужчин ей придется увеселять и ублажать; не смотреть на других гейш — они густо пудрились белой пудрой, наносили на лицо толстый слой грима и глупо хихикали, когда мужчины игриво их щипали.
* * *
На следующий год юную Окити отправили на «практическую подготовку», и теперь каждую ночь она сидела среди гейш и наблюдала, как они работают. Этот странный, порочный мир безжалостно поглощал ее чистоту и целомудрие.
— Самое главное, — говорила Рейко, начинающая, но уже успешная гейша, — это выпить саке. Вот когда я чуть-чуть навеселе, тогда-то и выполняю свои обязанности — ты знаешь, о чем речь, — лучше всего.
Окити всю передернуло от лукавого взгляда, которым ее одарила Рейко. Саму ее облачали здесь в невиданные кимоно тончайшей работы; наряжаясь в шелк с дивным узором и затейливой вышивкой, будущая гейша благоговейно гладила изящные оби — пояса с роскошным золотым шитьем: чтобы его выполнить, тратились долгие часы кропотливой работы.
В замешательстве от переполнявших ее противоречивых ощущений, Окити часто испытывала чувство вины от того, что пользовалась всеми благами новой жизни. «Танцы, пение, музыка и, конечно же, наряды, — писала она своей подруге Наоко. — Я и не знала, что жизнь бывает такой роскошной».
Больше всего любила она уроки речи, где их учили говорить на классическом, чеканном диалекте Эдо; тогда чувствовала себя настоящей дамой, а не дочерью корабельного плотника из Симоды. И каждую ночь, лежа в своей похожей на келью комнатке, неизменно погружалась в раздумья — как сложится дальше ее жизнь. В глубине души очень романтичная, мечтала о любви и детях, хотя и не знала, что ей не суждено их родить.
— Дети! — твердила она в ночной тиши. — Их у меня будет трое, быть может, четверо.
Но все чаще ее одолевали вопросы один неприятнее другого: что происходит с гейшами, когда они немного состарятся; берет ли их кто-нибудь замуж?
* * *
Полгода спустя решили, что Окити прошла полный курс обучения на гейшу и ее пора выпускать в свет. При очень светлой от природы коже ей нет нужды сильно пудриться белой пудрой, за которой гейши скрывали лица, а порой и души. Однако толстый слой грима пришлось накладывать, как и другим девушкам. На первом «выходе» ей предстояло помогать более опытной гейше развлекать общество благородных самураев, бывших у них проездом из соседней префектуры. Они добродушно с ней флиртовали и заигрывали.
— А-а, это новая ге-ейша! — протянул один из них, обычно суровый и надменный самурай, размякший от саке.
Окити, как ее и учили, то и дело подливала ему в чашку. Он годился ей в дедушки, и она внутренне содрогнулась, когда он пальцами знатока провел по ее нежным, юным рукам. «Помни, что говорила Рейко! — внушала она себе. — Сердце гейши всегда должно быть скрыто, как и ее лицо». Принудила себя застенчиво опустить глаза и рассмеяться негромким, мелодичным, заученным смехом; притворилась театральной актрисой, всего лишь исполняющей на сцене свою роль. Так легче применять все преподанные ей тончайшие уловки соблазна и кокетства — бескровное оружие настоящей гейши.
А ведь Окити обожала играть, жизнь свою как гейши воспринимала как огромную личную драму, вот и достигла потрясающего успеха: из робкой, застенчивой тринадцатилетней девочки становилась восходящей звездой в мире гейш.
Очень скоро она начала терять уважение к мужчинам, убедившись, что даже самые знатные и могущественные из них делались игрушками в руках гейш. Но наутро, когда действие саке, которым их столь усердно потчевали, испарялось, они вновь превращались в надменных, высокомерных и отсылали гейш, а те с поклонами, смиренно пятились прочь. Ночь за ночью она наблюдала эту завораживающую игру со сменой ролей.
Иногда поздней ночью или ранним утром, когда последние знатные посетители покидали эти стены в разной степени опьянения, Окити садилась к маленькому зеркальцу и подолгу смотрелась в него. То, что она видела, совсем ей не нравилось. Юная девочка из Симоды, со свежим личиком и живым взглядом, исчезла навсегда. Ее место заняла густо накрашенная капризная молодая дама, с ломаными, жеманными манерами… Иногда ее охватывали ужас и смятение при мысли о том, кем она стала — игрушкой для богатых и знатных мужчин, постоянных гостей заведения. Что же станется с игрушкой, когда она сломается и ее выбросят прочь? Об этом страшно даже подумать…
О книге Рея Кимуры «Бабочка на ветру»