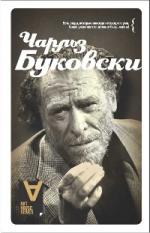Отрывок из книги
Всю жизнь Лу́ка Кампелли мечтал умереть в окружении своих обожаемых книг; поздним октябрьским вечером это его желание исполнилось.
Разумеется, подобного рода мысли практически никогда не озвучиваются, даже наедине с самим собою они не так уж часто формулируются, однако у тех, кто хоть раз видел Луку за прилавком его букинистического магазинчика, подобная мечта не вызвала бы удивления — по-другому с ним просто и быть не могло. Маленький итальянец уверенно и плавно передвигался в полном книг тесном зале, как будто был в собственной гостиной, и ни секунды не раздумывал, безошибочно направляя посетителя к полке или витрине, где находилась интересовавшая того книга. Уже после нескольких минут разговора собеседнику становилось ясно, что любовь Луки к литературе больше похожа на страсть. При этом абсолютно не имело значения, о чем именно шла речь — популярном чтиве в бумажном переплете или же первом издании кого-то из античных авторов. Такая широта кругозора свидетельствовала, сколь долгие годы проведены им наедине с самыми разнообразными книгами. Фигурка Луки настолько естественно вписывалась в интерьер его букинистической лавки, что казалась неотъемлемой ее частью; у посетителя здесь сразу же возникало ощущение умиротворения и даже некоего благоговения.
Нынешний октябрьский вечер оказался непохожим на прочие: помимо того, что он стал последним вечером в жизни Луки, хозяин вернулся в свою букинистическую лавку после целой недели отсутствия. Стремясь как можно скорее попасть из аэропорта к себе на Вестербро*, он взял такси, доставившее его в Копенгаген к самым дверям магазина. Во время всей поездки Лука от нетерпения сидел как на иголках, а когда машина наконец остановилась, поспешно расплатился и даже не стал дожидаться сдачи, так что чаевые таксисту перепали более чем щедрые. В благодарность тот выгрузил из багажника два чемодана Луки и, поставив их на тротуаре у ног старика, уехал.
* Вестербро — улица в Копенгагене.
Нельзя было сказать, что с потушенными огнями заведение выглядело гостеприимно, однако при виде желтой надписи на витрине — «Libri di Luca»** — лицо хозяина озарила счастливая улыбка. Протащив свои чемоданы те несколько метров, что отделяли край тротуара от крыльца, пожилой букинист с трудом взгромоздил их на нижнюю ступеньку. Пытаясь отыскать во внутреннем кармане связку ключей, Лука чувствовал, как пронзительный осенний ветер с неистовой силой треплет полы его плаща.
** «Книги от Луки» (итал.).
Колокольчик над входом издал мелодичную приветственную трель, приглашая хозяина внутрь. Спасаясь от ветра, Лука волоком перетянул чемоданы через порог на темнобордовое ковровое покрытие, устилавшее пол магазина, и поспешно запер за собой входную дверь. Разогнув натруженную спину, он несколько мгновений постоял с закрытыми глазами, блаженно вдыхая знакомый запах пожелтевших бумаг и старинной кожи. Лишь когда смолкли последние звуки колокольчика, он наконец открыл глаза и зажег люстру. Что, впрочем, было вовсе необязательно. За те более чем пятьдесят лет, что он мерил шагами помещения своего заведения, он мог бы без малейших проблем ориентироваться тут даже в темноте. Тем не менее он один за другим опустил рукоятки тумблеров, расположенных на щитке за дверью, включая подсветку всех книжных шкафов в зале и витрин с книгами, расположенных на верхней галерее.
Пройдя за прилавок, Лука снял плащ, нагнулся и извлек из нижнего ящика бутылку и рюмку. Плеснув себе порядочную порцию коньяку, он вышел на середину торгового зала и принялся который раз осматривать свое хозяйство. Блаженно улыбаясь от того удовольствия, которое приносило ему это занятие в сочетании с изрядным глотком ароматной золотистой жидкости, он пару раз кивнул каким-то своим мыслям и глубоко вздохнул.
Затем, по-прежнему с рюмкой в руке, он стал прогуливаться между стеллажей, внимательно разглядывая стоящие на них ряды книг. Будь на его месте кто-нибудь другой, он бы не обратил внимания на происшедшие здесь за истекшую неделю незначительные изменения. Другой — но только не Лука. Его глаза подмечали и отсутствие изданий, которые были проданы либо обменены на другие, и новые тома, появившиеся среди заполнявших полки старых знакомых, и передвинутые на новое место либо перемешанные стопки литературной продукции. В ходе своей инспекции Лука любовно выравнивал корешки книг, заметив малейший непорядок, заботливо менял их местами. При этом он время от времени отставлял свою рюмку, чтобы вынуть с полки издание, которого прежде не видел. С любопытством перелистывая страницы, он внимательно изучал типографский шрифт и на ощупь пытался определить структуру бумаги. В заключение осмотра он прикрывал глаза и подносил книгу к носу, наслаждаясь ее особым ароматом так, как если бы это было какое-то старинное вино. И наконец, еще раз внимательно рассмотрев обложку и переплет, осторожно помещал том на его прежнее место, сопровождая это действие либо недоуменным пожатием плеч, либо удовлетворенным кивком. Как бы там ни было, но кивал он в процессе этого своего обхода гораздо чаще, из чего можно было заключить, что действия ассистента за время отсутствия хозяина букинистической лавки получили полное одобрение со стороны последнего.
Ассистента звали Иверсен. Он находился здесь уже так давно, что мог бы, наверное, по праву считаться скорее партнером, нежели наемным работником. Однако, хотя Иверсен и был влюблен в свое дело не меньше, чем сам Лука, он никогда не пытался завести речь о том, чтобы стать его компаньоном. Букинистический магазин достался Луке по наследству от его отца Армана и всегда считался фамильным предприятием семейства Кампелли.
С тех пор как Арман передал свою лавку Луке, там произошло не так уж много изменений. Самым значительным из них было появление галереи. Она ярусом более полутора метров шириной тянулась по внутреннему периметру магазина на высоте второго этажа. Здешние завсегдатаи сразу же окрестили новое сооружение «небесами», ибо именно здесь под надежной защитой застекленных витрин хранились самые ценные и редкие издания.
Перед тем как подняться наверх, Лука вернулся к прилавку, чтобы налить себе еще коньяка. Затем прошел вглубь магазина, где была расположена винтовая лестница, ведущая на галерею. Когда он поставил ногу на первую из ненадежных ступенек, лестница угрожающе зашаталась, однако старый букинист бесстрашно продолжил свое опасное восхождение и вскоре был уже на самом верху. Повернувшись, он окинул взглядом свои владения. С некоторой натяжкой можно было принять стеллажи внизу за причудливо устроенный лабиринт аккуратно подстриженных кустов. Тем не менее Лука отлично здесь ориентировался и сразу же отыскал глазами стоящие у двери два своих чемодана.
Изборожденное морщинами лицо старика внезапно посерьезнело, в карих глазах появилось отстраненное выражение, будто перед ними была не панорама торгового зала, а какие-то далекие пейзажи. В задумчивости Лука поднес рюмку к носу, понюхал коньяк, сделал небольшой глоток и перевел взгляд со столь не вписывающихся в строгий интерьер двух инородных тел на книжные витрины, коими была уставлена галерея.
Благодаря мягкой подсветке, хранящиеся в витринах тома выглядели весьма романтично. Да и расставлены они были живописно, так чтобы посетитель мог оценить достоинства каждой из книг: одни раскрыты на страницах с красочными иллюстрациями к содержавшимся в них фантастическим историям, другие, наоборот, закрыты и повернуты таким образом, чтобы лишний раз продемонстрировать искусство полиграфиста либо мастера, изготовившего кожаный переплет.
Придерживаясь одной рукой за перила, а другой плавно покачивая рюмку, так чтобы содержимое ее слегка колыхалось по кругу, омывая стеклянные стенки, Лука медленно двинулся вдоль галереи, который раз ощупывая взглядом свое богатство. Среди шедевров, собранных здесь, на втором этаже, как правило, изменения случались нечасто. Мало у кого было достаточно средств, чтобы приобрести какую-нибудь из выставленных здесь книг, а если таковой все же находился, то покупка всегда была целенаправленной, чтобы возместить некий пробел в личной коллекции, и потому редко составляла более одного или двух изданий сразу.
Пополнялся магазин книгами почти исключительно за счет покупок выморочного имущества и — реже — отдельных изданий на специальных книжных аукционах.
Поэтому, увидев на полке незнакомую книгу, Лука застыл. Слегка нахмурившись, он поставил рюмку на перила и наклонился к стеклу, чтобы лучше рассмотреть роскошное издание с золоченым обрезом страниц, заключенное в черный кожаный переплет с золотым тиснением. Когда Лука прочел заглавие и имя автора, глаза его округлились от радостного изумления. Это было переработанное издание «Operette morali» Джакомо Леопарди*** в превосходном состоянии и, по-видимому, на языке оригинала — итальянском, родном языке Луки.
*** Леопарди, Джакомо
Лука с заметным волнением опустился перед витриной на колени и открыл стекло. Достав из кармана рубашки очки, он дрожащими руками водрузил их на нос, после чего осторожно, будто боясь спугнуть свою добычу, наклонился и, наконец, обеими руками взялся за книгу. Крепко сжимая трофей, он аккуратно извлек его из шкафа и принялся внимательно осматривать со всех сторон. Внезапно лоб Луки прочертили глубокие морщины; он нахмурился и рывком встал на ноги, настороженно озираясь по сторонам, словно опасаясь, что кто-то скрытно следит за ним и видит в данный момент эту его чудесную находку. Так никого и не увидев, он вновь обратился к книге, которую по-прежнему сжимал в руках, и бережно ее раскрыл.
Изучив титульный лист, он обнаружил, что это первое издание, что, с учетом времени выпуска — это был 1827 год, — вполне оправдывало появление книги здесь, на «небесах». Лука провел пальцем по странице, с наслаждением ощутив плотную структуру бумаги, а затем поднес том к носу и понюхал его. Слегка пряный запах, исходивший от книги, отчасти напомнил ему аромат лаврового листа.
По-прежнему бережно и осторожно переворачивая страницу за страницей, он продолжал изучать книгу, пока не дошел до оттиска гравюры на меди, на которой изображена была облаченная в рясу смерть с косой в руках. Иллюстрация была выполнена мастерски, и сколько Лука ни всматривался, он так и не сумел обнаружить на ней не малейшего изъяна. Довольно сложная техника оттиска гравюр на меди была весьма распространена в девятнадцатом столетии и отличалась от самых лучших образцов оттисков гравюр на дереве гораздо большей степенью четкости и изящества. Оттиск изображения на бумаге получался в два приема, ибо типографская краска проникала в углубления на медной пластине; сам же текст книг набирался литерами, которые отливались из свинца и были выпуклыми.
Лука одну за другой переворачивал страницы книги и с восхищением рассматривал прочие содержащиеся в ней оттиски медных гравюр. Дойдя до последней страницы, он снова нахмурился. Обычно здесь он или Иверсен всегда помещали ценник величиной с визитку с указанием цены и названием магазина, однако на этот раз ценник отсутствовал. Луку удивляло, что Иверсен решился на покупку столь дорогой книги, предварительно с ним не посоветовавшись. А то, что он выставил книгу на продажу без указания цены, было и вовсе не похоже на этого педанта.
Лука вновь настороженно обвел глазами все помещение, будто ожидая, что сейчас откуда-нибудь появятся члены некоего комитета по организации торжественной встречи, поприветствуют его и объяснят все таинственные нестыковки. Однако лишь очень немногие знали о его отъезде и возвращении, и им никогда бы и в голову не пришло использовать это в качестве предлога для празднования.
Лука пожал плечами, открыл наудачу первую попавшуюся страницу и начал читать вслух. Постепенно озабоченное выражение исчезло с его лица, уступив место радости от чтения на родном языке. Постепенно голос его окреп и повысился, слова гулко отдавались в заполненных книгами лабиринтах букинистического магазина. Прошло уже немало времени с тех пор, как Лука последний раз читал на родном языке, так что ему потребовалось несколько страниц, чтобы полностью преодолеть акцент и попасть в ритм текста. Тем не менее, вне всякого сомнения, он испытывал истинное удовольствие: глаза его сияли от счастья, а звучавшие в голосе восторженные ноты составляли резкий контраст меланхолическому содержанию читаемого им трактата.
Все это длилось недолго. Внезапно восторг на лице Луки сменился изумлением; он сделал пару шагов назад и наткнулся спиной на книжную витрину. В широко раскрытых от удивления глазах появилось выражение ужаса; костяшки пальцев, по-прежнему судорожно сжимавших раскрытую книгу, побелели от напряжения. Тело его дернулось вперед; волоча ноги и двигаясь, как механическая кукла, Лука приблизился к перилам галереи. Слепо наткнувшись на балюстраду, он опрокинул стоящую на ней рюмку с коньяком, которая полетела вниз. Устилавшее пол магазина мягкое ковровое покрытие приглушило звон разбившегося стекла.
Голос Луки становился все тише и глуше, ритм практически исчез; старый букинист едва выдавливал из себя слова. По лбу его струился пот, лицо побагровело от напряжения. Несколько капелек пота скатились со лба, скользнули по переносице и, сорвавшись с кончика носа, упали на книгу. Плотная бумага моментально с жадностью впитала их — так пересохшее русло реки впитывает дождевые капли.
Глаза Луки, почти полностью вышедшие из орбит, казалось, были прикованы к тексту. Он смотрел в книгу, не мигая, за исключением тех моментов, когда под ресницы затекал пот. Зрачки неотрывно бегали по строкам страницы, и как Лука ни пытался, он не мог даже повернуть головы, чтобы оторваться от книги, которую по-прежнему сжимал в руках, и перестать читать. Тело его сотрясала крупная дрожь, лицо болезненно исказилось: на нем застыла безобразная гримаса, из-за которой благообразный пожилой букинист выглядел не то психом, не то эпилептиком во время очередного припадка.
Несмотря на столь явные физические признаки душевного расстройства, голос Луки по-прежнему заполнял все помещение букинистической лавки; правда, теперь он читал сбивчиво, делая время от времени неоправданные долгие паузы, которые внезапно сменялись безудержным потоком слов. От прежнего четкого ритма декламации не осталось и следа: фразы внезапно обрывались или же, наоборот, сливались — в полном противоречии со всеми правилами грамматики. По мере того как скорость чтения возрастала, ударения Лука делал все более и более произвольно. И хотя отдельные слова еще были узнаваемы, произношение, как и вся речь Луки, изменилось, стало неясным, трудным для восприятия, срывающиеся с его губ предложения казались лишенными всякого смысла. Порой, когда опустевшие легкие настоятельно требовали нового глотка воздуха, торопливое бормотание прерывалось похожими на всхлипы вздохами. Сделав со свистом очередной вдох, Лука продолжал прерванное чтение в еще более быстром темпе; его декламация напоминала стремительное течение водного потока, временами преодолевающего на своем пути некие препятствия.
Крупная дрожь так сильно сотрясала тело Луки, что деревянные перила галереи, на которые он тяжело опирался, громко скрипели. Старик обливался по.
том, кое-где он проступал сквозь одежду, а ковровое покрытие у ног Луки было все испещрено мокрыми пятнами, которые оставляли срывающиеся со лба капли.
Неожиданно поток слов разом смолк, и дрожь прекратилась. Взгляд Луки был по-прежнему устремлен в книгу, однако выражение лица совершенно изменилось: вместо панического ужаса на нем теперь ясно читались спокойствие и умиротворенность. Старый букинист как-то вдруг обмяк и едва не повис на перилах, постепенно все больше перегибаясь через них; книга выскользнула из влажных рук и, шелестя страницами, упала на пол магазина. Под весом тела Луки перила жалобно треснули, а затем с ужасным грохотом целая секция балюстрады рухнула вниз, усыпая все заведение разлетающимися во все стороны мелкими и крупными обломками. На мгновение безжизненное тело Луки неподвижно застыло на краю галереи, потом, повинуясь силе тяжести, наклонилось и полетело вниз. Во время падения безвольно раскинутые в стороны руки и ноги Луки задели полки и стеллажи, увлекая их за собой.
Тело Луки рухнуло с глухим стуком в узкий проход между стеллажами, где сразу же оказалось погребенным под грудой книг и обломков, над которыми взметнулось облако пыли.