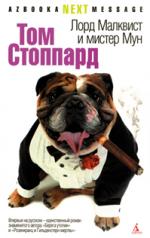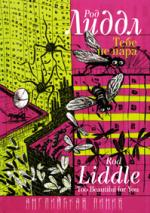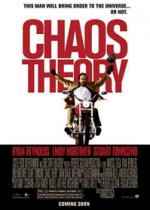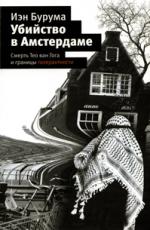Вот уже 20 лет он показывает, где выход: надо сделать шаг за ворота, переступить границу, выйти за пределы тюрьмы, в которой родился. Но читатель этого не слышит.
Ждали роман, получили сборник, больше всего напоминающий «ДПП (нн)»: одна большая повесть, четыре рассказа. Хор критиков звучит в унисон: «Исписался, повторяется, ничего нового». Спорить с этими господами — занятие пустое: ничего нового нет прежде всего в их собственных суждениях. Такие критические оценки сопровождали все шедевры русских классиков, а самоповторов полным-полно в «Войне и мире» и «Братьях Карамазовых». Кстати, «повторяется» говорили и о каждом из предыдущих сочинений Пелевина — о романах, которые сейчас те же критики превозносят, попрекая ими «исписавшегося» автора «П5». Пора бы понять, что ПВО — из тех писателей, которые всю жизнь варьируют несколько тем, сводящихся к одному инварианту, и что это вовсе не плохо. А то, что от него обычно ждут — точный диагноз сегодняшнего состояния умов — заключено в маленьких различиях между его постоянными мотивами, в крошечных нюансах. Попробуем их найти.
П1. «Зал поющих кариатид».
Сатира об овеществлении человека. Героиня, пройдя большой конкурс, устраивается на работу статуей в подземный «дом толерантности», расположенный на глубине 300 метров под Рублевкой. Подпирает потолок, услаждает клиентов пением и — по их желанию — оказывает более осязаемые услуги. Для сохранения неподвижности кариатид колют веществом, взятым из нервной системы жука-богомола. Эфэсбэшные доктора не предусмотрели только одного: от этих уколов девушка может почувствовать себя самкой богомола. Дальнейшие события в жизни насекомых легко предсказать. Самка богомола, самец олигарха, половой акт. Что будет в финале? Ага.
Социальный диагноз. Во-первых, «проститутки сейчас все, даже воздух. Раз он радиоволны через себя пропускает». Все граждане России без исключения продают свое время, свою подвижность и свою душу. Во-вторых — back in the USSR: больше всего повесть напоминает «Омон Ра». Все та же судьба винтика машины (здесь — машины удовольствий). Все та же риторика идеологов: «Главное, вы должны помнить, что, несмотря на внешнюю… двусмысленность, скажем так, вашего труда, он так же важен, как вахта матросов подводного крейсера, который несет ядерный щит страны», — внушает «девчатам» современный Урчагин, сильно смахивающий на Суркова. Все та же готовность к трудовому подвигу. Помните в «Омоне Ра» героических егерей, которые наряжались медведями, чтобы на них охотились члены Политбюро? Егеря в нерабочее время «изучали повадки и голоса диких обитателей леса и повышали свое мастерство». Теперь кариатиды на досуге штудируют книгу «Пение в неудобных позициях»: повышают свое мастерство, чтобы сохранить конкурентоспособность. Так кто и что повторяется — автор или социум? Пелевин говорил как-то в интервью: «У меня есть подозрение, что на уровне сути в России вообще ничего никогда не меняется. Происходит нечто другое — к вам в гости постоянно приходит один и тот же мелкий бес, который наряжается то комиссаром, то коммивояжером, то бандитом, то эфэсбэшником».
Вывод из повести: Советский Союз плюс проституция — это и есть духовная суть современной РФ. Вы не звери, господа, вы вещи.
П2. «Кормление крокодила Хуфу».
Притча о загробной жизни. На том свете нас поджидает не Господь милосердный, а подлый глухонемой фокусник. После того как он вдоволь поглумится над душами, их ждет полное исчезновение малоэстетичным и болезненным способом. Почти то же было в прямом источнике «Хуфу» — рассказе «Фокус-группа» (кроме него, в основе притчи — юмореска Стивена Ликока и египетский миф). «Почти то же» относится к проблеме выбора. Кажется (именно что «кажется»), что сегодня у человека возможностей чуть больше, чем пять лет назад. С нынешним фокусником можно попробовать правильно себя повести: выразить благодарность за показ фокусов (текущей «реальности»), — тогда, может быть, он вас и крокодилу не скормит. В общем, обращаться с ним лучше всего так же, как с властью в предыдущем тексте.
Метафизический диагноз: Робкая надежда на милость судьи, которая тлеет во многих душах.
Вывод из рассказа: очень страшно, страшнее любого отчаяния.
П3. «Некромент».
Политический триллер. Генерал ГАИ заживо сжигает склонных к голубизне милиционеров и набивает их пеплом «лежачих полицейских» на дорогах. Почему и зачем? Ну, может быть, он никого и не сжигал, просто оболгали покойника: генерал ведь был из числа тех, кто лез в политику (у Пелевина в норе всегда есть запасной выход: ничего этого не было). Но скорее всего, все-таки сжигал — по идейным соображениям. Он вырос в эпоху, когда духовный вакуум в головах заполняли мусором оккультизма и потому впоследствии легко поддался влиянию волхва-евразийца Дупина. А как волхвовали, какие руны выкладывали по Москве резиновыми гробницами гаишников — то один Дупин знает. Соль новеллы — в том, что эту историю никто не заметил, когда она просочилась в СМИ. Любой ужас («„Лежачие полицейские“ сделаны из человеческого праха!») теряется в желтенькой новостной ленте, непрерывно транслирующей ужасы.
Психологический диагноз: полная стертость восприятия.
Теоретический вывод: не дай Бог, чтобы наша власть поверила в какую-нибудь Идею. Не дай Бог…
Практический вывод: сбросьте скорость перед «лежачим полицейским». Ну, и помолчите немного, когда его переезжаете.
П4. «Пространство Фридмана».
Научный трактат на тему «деньги липнут к деньгам». У Пелевина этот парадокс объясняется сжатием и утяжелением сознания человека, у которого завелись большие суммы. Аналогия «деньги — гравитационные массы» прослеживается вплоть до гравитационного коллапса: участник списка «Форбса» есть черная дыра, и о том, что происходит в его мозгу, мы ничего знать не можем. Однако передовая наука взяла эту преграду. Вживленные в мозг экспериментатора-«баблонавта» чипы показывают, что перед внутренним взором миллиардера всегда стоит одна и та же неподвижная картинка: тюремный коридор, который ведет прямиком в ад.
Когнитивный диагноз: набрав много денег, человек тем или иным образом исчезает, сохраняя свою внешнюю оболочку. Интуитивно закон кажется верным: каждый видел его проявления для сравнительно небольших сумм среди своих знакомых.
Вывод: выхода там нет.
П5. «Ассасин».
Суфийская легенда. XIII век, Персия, замок «тени Всевышнего» Алаудина, который подбирает мальчиков-сирот и воспитывает из них профессиональных убийц. За каждое убийство героя ждет вознаграждение — грубая имитация рая с гуриями и хашишем. В конце концов молодой ассасин Али решает уйти оттуда: «Профессия у меня есть», — размышляет он, — «инструменты с собой. А рай… Ну кто бы мог подумать, что те самые люди, которые обещают привести нас туда, и есть слуги зла, которые прячут ведущую туда дорогу…».
Трансисторический диагноз и вывод: реинкарнационное обследование могло бы показать, что ассасин Али переродился в космонавта Омона Кривомазова или кариатиду Лену, а Алаудин — в полковника Урчагина, философа Дупина или в персонажа первой повести сборника, похожего на г-на Якеменко. Власть, манипулирующая сознанием, во все века одна и та же. Конец книги смыкается с ее началом.
Каждая новелла дивно выстроена по композиции и в то же время аукается со всеми другими. В сатире есть притча (человек — это то, что надо преодолеть, чтобы стать самкой богомола), а в политическом триллере — сатира (а милиционер, что, не проститутка?). Общая атмосфера сборника, система ее лейтмотивов говорит о том, как Пелевин видит современность: живые трупы и мертвые души, человек как вещь, манипулятивная власть и удушливая риторика, воздуха нет, воздуха…
Ну, а выход?
Да вот уже 20 лет Пелевин показывает, где выход: надо сделать шаг за ворота, переступить границу, выйти за пределы тюрьмы, в которой родился. Но читатель этого не слышит. Он ждет другого: вот придет рыжий, будет шутки шутить. Потом пролистывает книжку и недовольно морщится: шутки чего-то не того. (Тут, кстати, на автора жаловаться грех: какие у народа мифы — такие у Пелевина и шутки). Или говорит: «Все старо, исписался». Такую читательскую реакцию можно рассматривать и как форму самозащиты. Если бы тот, кто бубнит, что автор повторяется, смог осознать, о чем всю жизнь пишет Пелевин, то он закричал бы от ужаса и продолжал бы истошно, нечленораздельно, непрерывно вопить до самой смерти, — как и происходит в раннем рассказе «Вести из Непала», мотивы которого тоже повторяются в «П5».
Андрей Степанов