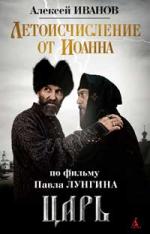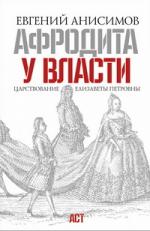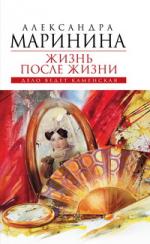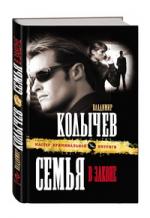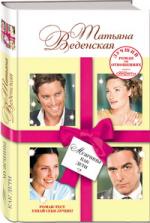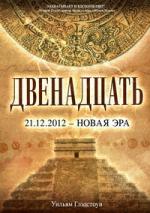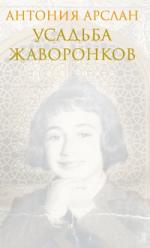Отрывок из романа
О книге Александры Марининой «Жизнь после жизни»
Газета «Томилинский курьер» от 17 октября 2009 года
СТРАСТИ ПО УСАДЬБЕ
Уже три недели жители нашего города не могут спать спокойно: в Томилине поселился ужас, неизвестный маньяк убивает немолодых женщин, посещающих клуб «Золотой век». Случайно ли это? И что стоит за убийствами двух невинных жертв, связанных стоящей на окраине города старинной усадьбой? Обеих погибших женщин объединяло то, что они были членами клуба «Золотой век», открытого два года назад московским олигархом Андреем Бегорским в отреставрированной на его же средства усадьбе. Клуб этот почти сразу завоевал популярность среди томилинских пенсионеров, которые говорят о нем не иначе как с любовью и теплотой, однако выяснилось, что не все там так радостно и гладко, как кажется на первый взгляд.
Мы провели журналистское расследование, открывшее нам немало страшных тайн и проливающее свет на загадки, оказавшиеся не по зубам нашей доблестной милиции.
Вернемся на два с половиной столетия назад и обратимся к истории. Всем мало-мальски сведущим в истории известен, конечно, князь Александр Алексеевич Вяземский, один из ближайших помощников и последователей Екатерины Второй. А вот его дальний родственник князь Андрей Иванович Вяземский известен куда меньше. При Екатерине он был действительным тайным советником, нижегородским и пензенским генерал-губернатором, а при императоре Павле стал сенатором. Но наше внимание должно быть приковано не к его политическим заслугам, а к истории его второго брака.
Второй женой князя Андрея стала в 1786 году ирландка Евгения О’Рейли. Князь познакомился с ней во время путешествия за границу, отбил у мужа и привез в Россию. Бракоразводный процесс Евгении был долгим и мучительным, но в конце концов влюбленные соединились и сочетались законным браком. Они любили друг друга и были счасливы, но родственники Андрея Ивановича этот брак не одобрили и его молодую жену не приняли. Супруги Вяземские стали подыскивать уединенный уголок, где они могли бы спрятаться от пересудов и гнева своего окружения. Вот тогда-то князь Андрей и купил усадьбу Никольское-Томилино, которая сегодня стоит на окраине нашего города.
Но Вяземские сюда так и не переехали. Князь привез новоиспеченную супругу в имение, но уже через несколько часов Евгения сказала, что здесь ей не по себе. Она даже не захотела остаться в усадьбе переночевать, сказала, что ей страшно, что в воздухе витает нечто неопределенное, что ее пугает, и она ни за что не хотела бы здесь жить. Никакие уговоры князя не помогали, супруги вернулись домой, а через месяц Андрей Иванович нашел новое место — Остафьево, в семи верстах от города Подольска. Вяземские стали хозяевами Остафьева более чем на 100 лет, а усадьба Никольское-Томилино была продана графу Михаилу Федоровичу Румянцеву.
В середине 50-х годов прошлого века территория имения стала частью вновь построенного города Томилина, и никто не знает, почему так сложилось, что красивую усадьбу на окраине города стали называть усадьбой Вяземского, который был ее хозяином всего чуть дольше месяца и не прожил в ней ни одного дня. Но факт остается фактом: усадьба Румянцевых при советской власти именовалась усадьбой Вяземских и носит это название до сих пор. Однако именно с родом Румянцевых, владевших Никольским-Томилиным вплоть до революции 1917 года, и связаны страшные старинные тайны, которые могут пролить свет на тайны сегодняшние.
Итак, у графа Михаила Федоровича была дочь Ольга, красавица, образованная и умная девица, не знавшая отбоя от женихов. Сердце ее было отдано Алексею Лобанову, за которого Ольга Михайловна и вышла замуж в 1808 году. Брак был на редкость счастливым, полным любви и взаимного доверия. К тому моменту, когда молодой граф Лобанов уходил на войну с Наполеоном, Ольга родила Алексею двоих детей. Перед расставанием граф Алексей подарил любимой жене серьги, дорогие и очень красивые, со словами: «Эта пара серег олицетворяет нас с тобой. В них заключена наша с тобой жизнь. Ежели одну потеряешь или сломаешь, вторую не выбрасывай, храни ее, как хранила бы свою и мою жизнь, как хранила бы нашу любовь.»
Прошло несколько месяцев, Ольга Михайловна носила подаренные мужем серьги каждый день, даже на ночь не всегда снимала. И вдруг оказалось, что одна сережка потеряна. И на другой день пришло извести о гибели графа Алексея Лобанова. С той поры Ольга Румянцева-Лобанова носила одну серьгу, вдевала ее в левое ухо, ближе к сердцу. Она долго не снимала траур, горюя по любимому мужу и отцу своих детей, и никакие уговоры матери не носить одну серьгу, потому что это против правил, ее не убеждали.
Через полтора года после гибели графа Алексея за Ольгой Михайловной начал настойчиво ухаживать сын владельца расположенного по соседству имения, Петр Большаков. Петр был известен на всю округу своим буйным нравом, невоздержанностью в застолье, склонностью к дебошам и к веселью в обществе цыган или заезжих актрис. Репутация у него была ужасная, и молодая красавица-вдова сторонилась соседа и старалась его избегать. Однако Большаков-младший не отступал, преследовал Ольгу, не давал ей прохода, постоянно наезжал с визитами и всячески демонстрировал свое расположение. В конце концов, дело дошло до объяснения, Большаков признался в своих чувствах и стал требовать ответа. Был он в тот день изрядно нетрезв и вел себя агрессивно. Ольга старалась сгладить неловкость и деликатно объяснить Петру, что не разделяет его любви и собирается хранить верность погибшему мужу до самой смерти. Она даже рассказала ему, в надежде смягчить кавалера, о подаренных мужем серьгах и о том, как одна из них потерялась как раз накануне получения известия о его смерти. Большаков же от этого рассказа еще более разгорячился, слова Ольги разозлили его, пробудили бешеную ревность, да и вино, выпитое без меры, сделало свое коварное дело. Он протянул руку и в ярости вырвал серьгу из уха молодой женщины, а затем схватил нож и нанес несколько ударов по ее лицу.
Спустя два дня Петр Большаков был арестован и препровожден в тюрьму. Врач сделал для Ольги все, что смог, однако с того момента все ее прекрасное лицо оказалось изуродованным безобразными шрамами. Когда Ольга посмотрела на себя в зеркало, она пришла в ужас и швырнула зеркало на пол. Осколки разлетелись по всей опочивальне. Ольга потребовала, чтобы во всем доме больше не осталось ни одного зеркала. Она не хотела видеть свое некогда красивое, а отныне обезображенное лицо. Требование молодой хозяйки было исполнено, зеркала сняли и сложили в каморке.
Через некоторое время пользовавший Румянцевых доктор стал замечать в Ольге начальные признаки надвигающегося безумия. Она то становилась задумчивой, все молчала, ни с кем не разговаривала, а то вдруг начинала хохотать, веселиться, затевать шумные игры с детьми, потом снова впадала в печаль и неподвижность. Однажды в холодный зимний вечер Ольга Михайловна в приступе безумия начала бить стекла в окнах и кричать, что они, как зеркала, отражают ее уродство, которое она не хочет видеть. На крик сбежались домочадцы, попытались утихомирить Ольгу, но она принялась рвать на себе волосы и одежду и приговаривать, что все против нее сговорились, даже самовар отражает ее лицо, и все на нее смотрят и видят ее ужасные шрамы. Несчастную удалось связать и через какое-то время успокоить, но рассудок к ней так и не вернулся.
Душевные болезни с той поры стали преследовать потомков Румянцевых, проявляясь через одно-два поколения. Но самым странным было то, что Ольга Михайловна Румянцева-Лобанова оказалась последней действительно красивой женщиной в этом роду. Уже ее дочь, а также все последующие девочки в роду Румянцевых-Лобановых рождались отчаянно некрасивыми. Благодаря немалому состоянию все они рано или поздно выходили замуж и рожали детей, однако ни одна из них не знала истинно любящего мужчину. Всех их брали замуж по расчету.
Но вот в 1898 году, спустя более восьмидесяти лет после трагедии, постигшей графиню Ольгу, оставшаяся от нее сережка была извлечена из шкатулки, в которой бережно хранилась все эти годы, и вдета в ушко Анны Румянцевой-Лобановой. Анна, как и многие ее предки по женской линии, привлекательной внешностью не отличалась, но любви хотела подлинной, на деньгах и расчете не замешанной. В память о несчастной Ольге Михайловне, которую муж любил страстно и преданно, Анна отнесла сережку к ювелиру, заказала ей пару и стала носить. Женихи у нее к тому времени были, однако все они гнались за состоянием, о чем Анна, конечно же, знала.
Вскоре сыскался молодой человек, в которого Анна влюбилась без памяти и, что самое главное, в искренность чувств которого она всей душой поверила. Родители были против: молодой человек был отнюдь не родовит, из мещан, и не сказать чтоб богат, даже напротив того. Анна твердо стояла на своем и говорила, что выйдет за него во что бы то ни стало, даже если ее лишат и наследства, и приданого, что для их любви нет преград и ничто им не помешает стать счастливыми. Слова ее оказались пророческими, отец, узнав, что Анна и ее жених тайно обвенчались, лишил непокорную дочь приданого и наследства и оставил без копейки. В тот же миг молодой супруг из нежного и любящего превратился в злобного ожесточенного мужлана. Анна пыталась уверить его в том, что их любовь выше меркантильных интересов и финансовых обстоятельств, что они станут работать и будут жить скромно, но счастливо. Муж в ответ схватил ее за руку и потащил к зеркалу. «Какая любовь? — кричал он с пеной на губах. — О какой любви ты говоришь? Ты посмотри на себя! Неужели ты думаешь, что такую, как ты, можно всем сердцем полюбить? Да тобой только детей пугать! Ты только в страшном сне можешь присниться! Меня воротит от одного твоего вида! Только ради денег твоего папаши я готов был тебя терпеть! А без этих денег ты мне не нужна. Если ты хочешь, чтобы я остался с тобой, иди к отцу, падай в ноги и проси, чтобы он изменил свое решение.» При этих словах Анна схватила хрустальную вазу и изо всех сил запустила в зеркало, в котором отражался ее муж, побелевший от ярости и злобы, и она сама, бледная, с длинным лошадиным лицом, слишком толстыми губами и маленькими блеклыми глазками. В эту секунду она поняла, что самыми красивыми в этом отражении являются серьги в ее ушах. Зеркало от удара разбилось, осколки посыпались на пол. Анна подняла руки, с силой вырвала серьги из мочек ушей и швырнула украшения в угол.
С того дня она слегла, а спустя месяц утопилась в реке, на берегу которой стояла усадьба.
Родная же сестра Анны благополучно вышла замуж, принеся мужу огромное приданое, и родила ему двух дочерей и трех сыновей, один из которых оказался впоследствии помешанным… Родовое проклятие Румянцевых-Лобановых продолжало жить.
В 1917 году обитатели имения Никольское-Томилино эмигрировали в Европу. Но все ли они уехали? Современники утверждали, что не все. И сегодня есть серьезные основания полагать, что потомки обремененного проклятием рода до сих пор живут на нашей земле, которая в последние полвека именуется городом Томилином. Живут, порождая через два-три поколения душевнобольных.
А теперь вернемся к загадочным убийствам, совершенным в нашем городе. Обе жертвы регулярно посещали усадьбу, которую потомки Румянцевых-Лобановых, вероятно, считают своей собственностью, незаконно отнятой у них большевиками. У обеих жертв вырвана серьга из уха. И в обоих случаях на трупах обнаружено разбитое зеркало.
Это ни о чем вам не говорит, уважаемый читатель?
Наталья Малец
Глава 1
В служебном кабинете Родислава Евгеньевича Романова было сильно накурено, и Бегорский, едва открыв дверь, невольно поморщился: сам он никогда не курил и густой дым переносил с трудом.
— Родька, ну когда ты перестанешь своими руками себя гробить? У тебя тут дышать нечем, — недовольно произнес он.
— В наши с тобой годы уже поздно меняться, — отшутился Родислав Евгеньевич, импозантный и барственно-вальяжный мужчина.
Им обоим было по шестьдесят шесть, и они знали друг друга и дружили с раннего детства, однако были совсем разными, и фразу про «наши с тобой годы» Бегорский немедленно воспринял в штыки. Если Романов полагал, что самое в главное в жизни им уже сделано и теперь настало время почивать на лаврах и пожинать плоды праведных трудов, то Андрей Сергеевич Бегорский считал себя достаточно молодым для того, чтобы совершенно не переносить застоя и рваться вперед, к новому и еще не опробованному.
Бегорский был владельцем крупного холдинга, Романов — его другом и заместителем, главная задача которого состояла в том, чтобы «решать вопросы». Так было постановлено с самого начала, когда Андрей Сергеевич много лет назад позвал к себе на работу успешного офицера милиции из Министерства внутренних дел: сам Бегорский в «решении вопросов» был не силен, договариваться с людьми не умел в силу прямоты и отсутствия гибкости, а также не обладал широким кругом нужных знакомств. Все эти качества как раз и были сильной стороной Родислава Романова, который сразу согласился стать его заместителем еще в те времена, когда Бегорский владел только одним заводом, выпускавшим технологическое оборудование для пищевой промышленности. Теперь же оба были сказочно богатыми людьми, но если Родислав Евгеньевич тратил деньги на собственный комфорт и удовольствия, то Андрей Сергеевич вкладывал их в новые проекты, в том числе и не приносящие никакой прибыли, а то и откровенно благотворительные. Выбирая направления инвестирования, он руководствовался не соображениями доходности, а исключительно категориями «мне это интересно» или «мне это скучно».
Клуб «Золотой век» Бегорский придумал несколько лет назад. Придумал, нашел место, где можно опробовать новую идею, купил и отреставрировал старинную усадьбу в городе Томилине и начал эксперимент. И вот теперь этот эксперимент, пошедший так удачно с самых первых месяцев, оказался под угрозой.
— Родька, найди мне толкового частного сыщика.
Родислав Евгеньевич распахнул настежь широкое окно, впуская в кабинет мощную струю ледяного январского воздуха, и демонстративно закурил.
— Что ты еще надумал? — насмешливо спросил он. — Зачем тебе понадобился частный детектив?
— Ну, я неточно выразился, — поправился Бегорский. — Не обязательно частный детектив. У тебя же осталось много друзей в милиции, найди толкового сыщика, которому можно поручить частное расследование. Оплата, как ты понимаешь, будет очень достойной, я никаких денег не пожалею. Я хочу, чтобы с томилинскими делами, наконец, разобрались. Мой клуб закачался, среди его членов разброд и шатания, постоянно слышатся разговоры о томилинском маньяке, который убивает пенсионеров, посещающих усадьбу. Семь членов клуба перестали приходить из-за этого, они поверили и испугались. Да что члены клуба! У меня там уже три человека из персонала уволились!
— Как три? — удивился Романов. — Ты же говорил, что двое.
— Сегодня утром позвонила Вера и сказала, что бухгалтер написала заявление об уходе. Я не могу больше сидеть сложа руки, Родька, я должен что-то предпринять.
— Но ведь в Томилине есть своя милиция, они там ищут убийцу, — попытался возразить Родислав Евгеньевич. — Ищут и найдут рано или поздно, я в этом уверен.
— Так в том-то и дело, что рано или поздно. Для меня их «поздно» — это уже катастрофа, у меня клуб вот-вот развалится, все члены разбегутся вместе с персоналом. Для меня поздно уже сейчас, я жалею, что раньше ничего не предпринял. Родька, я хочу, чтобы в Томилин поехал грамотный знающий сыщик, который поможет местным операм.
— Так не положено, — улыбнулся Романов. — Никакие частные лица не допускаются к оперативно-розыскной и следственной работе.
— Ты мне будешь рассказывать, что положено, а что не положено! — фыркнул Бегорский. — Так, как положено, я и сам могу сделать. А ты у меня работаешь для того, чтобы организовывать то, что не положено. Позвони начальнику горотдела внутренних дел, а еще лучше — поезжай туда сам и лично договорись, пусть дадут нашему человеку возможность работать. И главное — найди такого человека. За деньгами я не постою, ты меня знаешь.
В принципе ничего невозможного в задании Бегорского не было, начальник Томилинского ГОВД был кое-чем обязан Родиславу Романову, который интенсивно общался с ним в тот период, когда только велись переговоры о приобретении Бегорским старинной усадьбы и земли под ней. Романов тогда здорово помог милицейскому начальнику, решил некоторые его проблемы в Москве, и теперь вполне можно было обратиться к нему с такой пустячной просьбой, выполнение которой и усилий-то никаких не потребует. Конечно, сама затея Андрея выглядела в глазах Романова совершенно идиотской, но он всегда помнил, что своим нынешним благосостоянием обязан старому другу, и считал своим долгом решать все его проблемы, даже те, которые, по мнению Родислава Евгеньевича, были высосаны из пальца.
Ну что ж, с томилинским начальством он договорится и толкового сыскаря, готового в январе уйти в отпуск, тоже найдет. Не проблема.
***
За окном тихо падал мягкий медленный снег, и от этого было уютно и спокойно. Как хорошо, что теперь выходные — это выходные, и можно спать, не прислушиваясь сквозь сон к телефону, и не тревожиться, что вот-вот позвонят и прикажут выезжать, потому что где-то кто-то кого-то убил. Можно блаженно вытянуться под одеялом, повернуться на другой бок и снова задремать, а можно дотянуться до пульта, включить телевизор и что-нибудь посмотреть, не вставая с постели. И это не счастливая случайность свободного от преступлений и розыскной работы выходного дня, а закономерность, которую ничто не может нарушить. Теперь Настя Каменская сама хозяйка своему времени.
Эти радостные мысли посещали ее каждое утро, когда она просыпалась. Они зарождались в еще спящем мозгу и приносили несколько мгновений эйфории, но как только голова стряхивала с себя остатки сна, на Настю наваливалась тоска.
Уже месяц, как она на пенсии. Да-да, она, привыкшая считать себя молодой и не особенно опытной девчонкой, оказывается, выслужила двадцать семь с лишним лет, к которым прибавили половину срока обучения на юридическом факультете университета, так что получилось без нескольких месяцев тридцать лет безупречной службы. Но это не самое главное. Главное — в июне 2010 года ей исполнится пятьдесят, она — полковник милиции, и для того, чтобы продолжать служить, ей нужно будет писать рапорт с просьбой продлить срок службы. Хорошо, если рапорт удовлетворят. А если нет? Настя представила себе, какое унижение ей придется испытать, читая отказную визу на собственном рапорте. Ей официально заявят: «Вы больше не нужны, вы выработали свой ресурс, и вам теперь нет места среди нас, уйдите и уступите дорогу молодым.»
При одной мысли об этом Насте Каменской делалось дурно. Она решила не ждать рокового рубежа и уйти раньше, по собственному желанию. Начальник не уговаривал остаться, да и работа с ним особо сладким медом не казалась, прежний начальник — молодой Большаков с умными глазами — давно был переведен с повышением, и на его место пришел обычный средний служака, глубоко убежденный в том, что курица — не птица, а баба — не человек.
Настя уволилась. Вышла в отставку. Получила пенсионное удостоверение. И стала радостно предвкушать, как теперь будет много спать, читать, смотреть телевизор, как будет ухаживать за мужем, варить ему супы и жарить котлеты, стирать, гладить и убираться в квартире. Однако ничего этого не случилось.
Выспалась она за три дня. Читать не хотелось. По телевизору смотреть нечего, одни ток-шоу какого-то кухонного разлива, больше напоминающие базар-вокзал, да сериалы, которые идут уже так давно, что разобраться в запутанном сюжете невозможно. Попытки стать добросовестной домохозяйкой бесславно провалились, потому что Настя, не имея ни опыта, ни навыка, делала все бестолково, неловко и долго, и Лешка терял терпение, отсылал жену «на диван отдохнуть» и доделывал все сам. Ему нужно работать, ему нужен компьютер и тишина, и сидящая дома бездельница-жена ему просто-напросто мешала. Разойтись по разным углам было непросто, квартира-то однокомнатная, и чтобы не мешать мужу, Настя забивалась с книжкой в руках на кухню, а Алексей чувствовал себя неловко из-за того, что она сидит на кухне и скучает. Он старался ее развеселить, предлагал вместе посмотреть кино, или сходить погулять, или съездить в гости к Настиным родителям или ее брату, и Настя понимала, что он готов жертвовать работой, только бы ей было хорошо. И от этого делалось еще тоскливее и горше. Она никому не нужна. Она не нужна на Петровке, откуда ее с облегчением спровадили, освободив полковничью должность для более молодого офицера, она не нужна дома, потому что мешает Леше работать. Она — старая и ни на что не годная уработавшаяся кляча.
Настя слонялась по квартире, глотая слезы, все валилось из рук, книги не радовали, безделье угнетало, но в то же время и делать ничего не хотелось, настроение все время было плохим. Опомнилась она только тогда, когда вдруг поняла, что муж стал больше времени проводить в Жуковском, где находился его институт, и все чаще оставался ночевать у живущих там же родителей. Она поняла, что ничего не хочет, кроме той работы, которую делала четверть века и которую так сильно любила. Да она и не умеет ничего другого.
И она позвонила Владиславу Стасову, главе частной детективной конторы, специализирующейся, как выражался сам Стасов, на помощи в обеспечении судебных процессов. Помощь эта выражалась в том, что по заданиям адвокатов, ведущих как уголовные, так и гражданские дела, люди Стасова выискивали свидетелей и доказательства, которые могли бы коренным образом изменить, казалось бы, очевидное и заранее прогнозируемое решение суда или хотя бы заронить сомнение в аргументах противной стороны.
Стасов ужасно обрадовался ее звонку.
— Долго ты телилась, — весело загрохотал он в трубку, — я тебя уже месяц жду. Как ты рапорт написала на увольнение, так и начал ждать. Дождался, стало быть?
— Дождался, — вздохнула Настя. — Возьмешь меня к себе?
— А то! Ты еще спрашиваешь! Я тебе самый лучший насест в своем курятнике выделю, рядом с твоим любимчиком Мишкой Доценко. Будешь с ним ворковать в свободное от работы время.
Михаил Доценко когда-то работал с Настей в одном отделе, и работал хорошо, был одним из лучших оперов, но когда женился и обзавелся ребенком, ему пришлось снять погоны — надо было думать о том, как содержать семью. Теперь он уже несколько лет работал у Стасова и был совершенно доволен жизнью.
— Владик, а ты уверен, что я справлюсь? — осторожно спросила Настя. — Я ведь все больше по убийствам работала, а у вас там другой профиль. Знаешь, я чего боюсь? Ты сейчас меня возьмешь, и очень скоро выяснится, что я ни на что не гожусь, а выгнать меня ты по старой дружбе не сможешь и будешь молча терпеть.
— Не боись, старуха, — оптимистично заявил Стасов, — у нас работа хоть и скучноватая, зато на девяносто пять процентов завязана на информацию, а ведь работа с информацией — это твой конек. И чтобы примирить тебя с горькой действительностью, скажу честно, что доходы у нас весьма и весьма пристойные, так что с голоду не помрешь. Давай, бери ноги в руки и приезжай, напишешь заявление, отнесем кадровичке, покажу тебе твой стол, и приступай хоть завтра, хоть сегодня вечером.
Вид конторы Стасова сильно смутил Настю. За долгие годы работы на Петровке она привыкла к огромному зданию в самом центре Москвы, высоким потолкам, широким лестницам, она привыкла к ощущению могущества, которое давало и само здание, и принадлежность к системе, которая стояла у Насти за спиной. Детективное же агентство Владислава Стасова располагалось в нескольких комнатушках — двух объединенных квартирах на первом этаже обычной многоэтажки где-то в Перово. Да, все было отремонтировано по евростандарту, и офисная мебель куплена явно не в самом дешевом магазине, но все равно это был жилой дом, и окна выходили во двор, по которому носились мальчишки и неспешно прогуливались мамочки с малышами в колясках, и все было обычно, как-то по-домашнему, и от этого казалось несерьезным, ненастоящим, игрушечным. На Настю навалилась вторая волна тоски и подавленности. Теперь она годится только для такой скучной, ненастоящей работы, и сама она отныне — никто, и звать ее никак, потому что нет в руках волшебного удостоверения и той силы, которая стоит за спиной.
Но она все равно приступила к работе и старалась изо всех сил, чтобы Владик Стасов не пожалел о том, что взял ее.
Купить книгу на Озоне