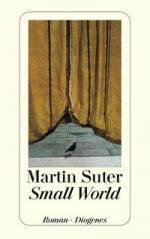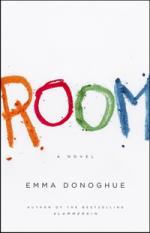Отрывок из романа
О книге Мартина Сутера «Small World, или Я не забыл»
Когда Конрад Ланг вернулся, пламенем было
объято все, кроме дров в камине.
На Корфу он жил примерно в сорока километрах к северу от Керкиры на вилле Кохов, которая
представляла собой многоярусный комплекс из
комнат, террас, садов и бассейнов, уступами сбегавших к песчаной бухте. На ее крошечный пляж попасть можно было только с моря или по канатной
дороге сверху.
Если говорить точнее, Конрад Ланг жил не на
самой вилле, а в сторожке привратника — сырой
и холодной каменной пристройке в тени пиниевой
рощи, скрывавшей дорогу, ведущую к вилле. Конрад не был здесь гостем — он исполнял обязанности
управляющего: за пропитание, жилье и одноразово
выплачиваемое время от времени вознаграждение
он следил, чтобы вилла по первому требованию была готова принять членов семьи и их гостей, и платил жалованье прислуге и по счетам рабочим, круглый год поддерживавшим виллу в хорошем состоянии,— соль и влага доставляли здесь много хлопот.
Заботы о маслинах, миндале, инжире, апельсиновых деревьях, а также небольшой отаре овец лежали на арендаторе.
В зимние месяцы, когда было холодно, лил дождь
и штормило, Конраду практически делать было нечего, разве что съездить разок в день в Кассиопи,
чтобы встретиться там кое с кем из своих дружков
по несчастью, торчавших зимой, как и он, на острове: старым англичанином — торговцем антиквариатом, немкой — владелицей слегка утратившего
свой былой шик бутика, пожилым художником из
Австрии и западношвейцарской парой, так же как
и он приглядывавшей за чьей-то виллой. Они болтали, сидя в одном из тех немногих ресторанчиков,
что не закрылись с окончанием сезона, и попивали
винцо, забывая порой меру.
Остаток дня уходил на то, чтобы спастись от сырости и холода, пронизывающих до мозга костей.
Вилла Кохов, как и многие другие летние дома-террасы на Корфу, была мало приспособлена к зиме.
В домике привратника даже камина не было, только два электрообогревателя, но он не мог их включить одновременно — пробки вышибало.
Поэтому случалось так, что в особенно холодные
дни или ночи он перебирался в гостиную одного из
нижних ярусов виллы. Ему нравилось там — стоя
перед сплошным огромным окном, он ощущал себя капитаном на командном мостике роскошного
лайнера: под ним — бирюзово-голубой бассейн, перед глазами — одна безмятежная гладь моря. А за
спиной уютное тепло потрескивающего камина и
исправно работающий телефон. В домике для привратника раньше обитала прислуга из нижнего
яруса, и поэтому все телефонные звонки можно
было переводить оттуда сюда, будто находишься
на своем рабочем месте. Вилла с каскадом террас,
спален и гостевых салонов оставалась для Конрада табу по распоряжению Эльвиры Зенн.
Стоял февраль. Всю вторую половину дня ураганный восточный ветер мотал и трепал верхушки
пальм и нагонял на солнце ошметки серых облаков.
Конрад, прихватив парочку фортепьянных концертов в записи, решил укрыться в нижней гостиной.
Он погрузил на канатку дрова и канистру бензина
и поехал вниз.
Бензин понадобился, чтобы разжечь камин. Две
недели назад он заказал дрова из вырубленных и
пущенных на топливо миндальных деревьев — их
древесина горела долго и давала много жару, если
дрова были сухие. Но те, что привезли ему, оказались сырыми. И заставить их гореть другого способа не было. Не очень, конечно, элегантно, зато очень
эффективно. Конрад проделал это уже десятки раз.
Он сложил поленья горкой, облил их бензином
и поднес спичку. Затем поднялся на канатке, чтобы
забрать из своей маленькой кухоньки две бутылки
вина, полбутылки узо, маслины, хлеб и сыр.
На обратном пути ему повстречался арендатор,
непременно хотевший показать ему пятно на наружной стене, где селитра разъела штукатурку.
Когда же Конрад наконец-то снова поехал вниз,
навстречу повеяло запахом дыма. Он приписал это
ветру, возможно, хотя и непонятно под каким углом, задувавшему с моря в камин, и не придал этому значения.
Кабина почти уже приблизилась к нижнему ярусу, и тут он увидел, что терраса объята пламенем —
горело все, кроме дров в камине. Случилось одно
из тех несчастий, которые происходят, когда мысли заняты другим: он положил дрова в камин, а
поджег стопку тех, что лежали рядом. Языки пламени перекинулись в его отсутствие на индонезийскую, плетенную из ротанга мебель, а оттуда на
икаты на стене.
Возможно, пожар еще удалось бы загасить, если
бы в тот самый момент, когда Конрад выбирался из
кабины, не взорвалась оставленная открытой канистра с бензином. И тогда Конрад сделал единственно разумную вещь: нажал на кнопку и поехал
назад. Пока кабина медленно ползла вверх, шахта
быстро заполнялась едким дымом. Между двумя
верхними ярусами кабина закапризничала, потом
дернулась еще пару раз и окончательно замерла,
зависнув в воздухе.
Конрад Ланг, прижав свитер ко рту, всматривался в дым, почерневший у него на глазах и с каждой
минутой становившийся все гуще, так что вскоре
уже ничего нельзя было различить. В панике он лихорадочно дергал за ручку двери кабины, наконец
каким-то образом открыл ее, задержал дыхание и
пополз на четвереньках по ступенькам рядом с канаткой. Уже через несколько метров он добрался
до верха и, тяжело дыша и хрипло кашляя, кинулся искать спасения на открытом месте.
Интерьер виллы Кохов на Корфу был перед самым пожаром полностью обновлен голландской
дизайнершей. Эта женщина нашпиговала ее индонезийскими и марокканскими диковинами, экзотическими тканями и всякой этнографической чепухой. Весь этот кич мгновенно вспыхнул и горел
теперь, как солома.
Ветер гнал огонь по шахте канатной дороги и
забрасывал его на террасы всех других ярусов, а оттуда — в спальни и смежные с ними комнаты и салоны.
Когда прибыли пожарные, огонь в доме уже поубавился и грозил перекинуться на пальмы и бугенвиллеи, а с них на пиниевую рощу. Пожарные
ограничились тем, что не позволили ветру и огню
уничтожить пинии и расположенную рядом плантацию оливковых. Как на грех, дождей, несмотря
на время года, почти не было.
Конрад спрятался с бутылкой узо в домике привратника. Только когда королевская пиния перед
окном с треском вспыхнула, как свеча, взметнув в
небо пучок огня, он, шатаясь, выбрался наружу и
стал наблюдать издалека, как огонь пожирает белый домик привратника со всеми его потрохами.
Через два дня прибыл Шёллер. По пожарищу его
водил Апостолос Иоаннис, глава греческой дочерней фирмы Кохов «Кох энжинииринг», Шёллер ковырял мыском ботинка то тут, то там в спекшемся
хламе и мусоре. Блокнотик он тут же убрал — вилла выгорела дотла.
Шёллер был личным ассистентом Эльвиры
Зенн. Тощий аккуратный человек лет пятидесяти
пяти. Никаких официальных постов он не занимал,
его имя напрасно было бы искать в реестре торговых фирм, но именно он был правой рукой Эльвиры, и в этом качестве его побаивалось все правление концерна.
До сих пор Конрад Ланг маскировал свой страх
перед Шёллером, держась с ним высокомерно, как
человек, превосходящий другого своим происхождением. И хотя указания исходили от Шёллера,
Конраду, принимавшему их, всегда удавалось сделать вид, будто они — результат проведенных им
ранее доверительных бесед с Эльвирой. И даже если Шёллер точно знал, что все контакты между
Эльвирой Зенн и Конрадом Лангом идут только через него, лично он все равно не мог простить этому
заносчивому старику, что гранд-дама из высших
кругов швейцарской финансовой аристократии
вечно дергает ради него за ниточки, постоянно пристраивая его то в своей огромной империи, то у заграничных знакомых компаньоном, управляющим
или просто мальчиком на побегушках. Только из-за того, что этот старик часть своей юности провел
вместе с ее пасынком Томасом Кохом, она чувствовала себя обязанной не дать ему погибнуть, однако строго держала его при этом на дистанции.
Ланг был одной из самых тягостных обуз в списке обязанностей Шёллера, и тот надеялся, что пожара на Корфу наконец-то хватит, чтобы окончательно развязаться с этим никчемным стариком.
Больше часа Конрад Ланг в оцепенении простоял при отсветах пламени среди множества суматошных людей, тушивших пожар. Он оживал, только
чтобы сделать очередной глоток из бутылки или
втянуть голову в плечи, когда пожарный самолет
с грохотом проносился низко над пиниями, сбрасывая очередной заряд воды. В какой-то момент подошел с двумя мужчинами арендатор — те хотели
расспросить его о случившемся. Заметив, что Конрад Ланг не в состоянии дать показания, они отвезли его в Кассиопи, где он провел ночь в камере полицейского участка.
На следующее утро во время допроса он не смог
объяснить, как возник пожар. И при этом нисколько не врал.
Память о том, с чего все началось, стала помаленьку возвращаться к нему только днем. И тогда
он уже с возмущением отклонил все обвинения в
свой адрес, отчаянно настаивая на своем. Возможно,
он даже сумел бы выйти сухим из воды, если бы
арендатор в своих свидетельских показаниях не заявил, что видел Конрада Ланга во второй половине дня на пути к нижнему ярусу с канистрой бензина в руках.
Вследствие этого Ланга до выяснения обстоятельств дела по подозрению в преднамеренном поджоге перевели в Главное полицейское управление
в Керкире. Там он и находился, когда Шёллер, смыв
с себя сажу в номере международного отеля «Хилтон-на-Корфу» и переодевшись, достал из минибара тоник.
Через час Конрада Ланга вывели из камеры и
доставили в кабинет с голыми холодными стенами,
где его поджидали ассистент Эльвиры и полицейский чиновник. К этому моменту он уже более двух
суток провел под стражей и даже думать забыл о
своем высокомерии. Всегда стремившийся в любой
ситуации выглядеть корректно — тщательно одетым и чисто выбритым,— он предстал сейчас перед
ними в вымазанных сажей вельветовых брюках, запачканных ботинках, грязной рубашке, мятом галстуке и желтом до пожара кашемировом свитере,
которым зажимал рот, чтобы не задохнуться. Его
коротко подстриженные усики трудно было различить на заросшем щетиной лице, седые волосы свисали космами, а мешки под глазами набухли и стали
еще темнее, чем обычно. Он дергался, его пробирала нервная дрожь, и дело было не столько в возбуждении, сколько прежде всего в том, что за эти долгие
часы у него во рту не было ни капли алкоголя. Лангу было чуть больше шестидесяти трех, но сейчас
он выглядел на все семьдесят пять. Шёллер сделал
вид, что не видит его протянутой руки.
Конрад Ланг сел и стал ждать, когда Шёллер что-нибудь скажет. Но Шёллер молчал и только качал
головой. В ответ Ланг беспомощно пожал плечами,
Шёллер опять лишь покачал головой.
— Ну, в чем дело? — не выдержал наконец Конрад.
Шёллер по-прежнему качал головой.
— Дрова из миндаля были сырые. И никак не
загорались. Это несчастный случай.
Шёллер скрестил руки и ждал.
— Вы даже не представляете, как здесь бывает
холодно зимой.
Шёллер взглянул в окно. Ясный солнечный день
был уже на исходе.
— Такое здесь случается редко.
Вот теперь Шёллер кивнул.
Ланг повернулся к полицейскому чиновнику —
тот немного знал английский.
— Скажите ему, что такой день, как сегодня,
весьма необычен для этого времени года.
Полицейский пожал плечами. Шёллер посмотрел на часы.
— Скажите им, что никакой я не поджигатель.
Иначе они и дальше будут меня тут держать.
Шёллер встал.
— Скажите им, что я старый друг дома.
Шёллер посмотрел на Конрада Ланга сверху
вниз и опять покачал головой.
— Вы объяснили Эльвире, что произошел несчастный случай?
— Госпоже Зенн я буду докладывать завтра.
Шёллер направился к двери.
— И что вы ей скажете?
— Посоветую заявить о правонарушении с вашей стороны.
— Это же несчастный случай,— смущенно пробормотал Конрад Ланг еще раз, глядя, как Шёллер
покидает помещение.
На следующий день Шёллер улетел тем единственным рейсом, который еще оставался после закрытия сезона и связывал аэропорт Иоаннис Каподистрия с Афинами. Ему не пришлось там долго ждать подходящего рейса на Цюрих, и в тот же
вечер он предстал перед Эльвирой Зенн в ее рабочем кабинете на «Выделе» — так Кохи называли
«резиденцию старухи»: ее личное бунгало из стекла,
стали и крупнопористого бетона, выстроенное для
нее в парке родовой виллы «Рододендрон» знаменитым испанским архитектором. Парк был разбит
на пологом склоне и занимал площадь около девятнадцати тысяч квадратных метров, множество невидимых дорожек петляли по нему среди бесчисленных видов рододендроновых кустов, азалий и
старых могучих деревьев. Окна кабинета, как и
остальных комнат, выходили на юго-запад, открывая великолепный вид на озеро, гряду холмов на
другом его берегу, а в ясные дни даже на цепь Альпийских гор.
В девятнадцать лет Эльвира Зенн поступила
нянькой к Вильгельму Коху — овдовевшему основателю концерна. Его жена умерла сразу после рождения их единственного ребенка. Вскоре Эльвира
вышла за хозяина замуж, а через два года, после его
ранней смерти, вышла еще раз, на сей раз за исполнительного директора концерна — Эдгара Зенна.
Это был старательный человек, сумевший добиться, чтобы заводы Коха, не отличавшиеся особыми
инновациями, но слывшие в машиностроении за
солидное предприятие, смогли набрать в военные
годы силу и достигнуть расцвета. Он наладил производство запчастей для германских, английских,
французских и американских машин наряду с моторами и прочими двигателями. После войны он
использовал этот опыт и начал производить значительную часть аналогичной продукции уже по лицензиям. Прибыль времен «экономического чуда»
он упорно вкладывал в недвижимость, вовремя продавал ее, накапливая таким образом капитал для
расширения ассортимента производимой продукции. Благодаря этому заводы Коха выжили в период экономического спада. Не обошлось, конечно,
без потерь, но тем не менее дела шли хорошо.
Правда, во все времена поговаривали, что его
ловкой рукой управляет еще более ловкая рука его
жены. Когда Эдгар Зенн в 1965 году умер в шестьдесят лет от инфаркта, а предприятие продолжало
как ни в чем не бывало процветать и дальше, многие увидели в этом прямое подтверждение былым
догадкам. Сегодня заводы Коха представляли собой хорошо отлаженный смешанный концерн — немного машинного производства, немного текстильной промышленности, немного электроники, химии, энергетики. Даже немного биотехники.
Десять лет назад, когда Эльвира вдруг объявила, что пора уступать дорогу молодым, она перебралась в бунгало, за которым закрепилось насмешливое прозвище «Выдел». Но бразды правления,
переданные ею тогда, согласно сообщениям прессы,
успевшему уже достигнуть пятидесятитрехлетнего
возраста пасынку, она все еще крепко держала в
своих руках. Она, правда, исключила себя из членов
Совета правления, но рекомендации, принятые на
заседаниях, регулярно проводимых у нее на «Выделе», носили куда более обязательный характер, чем
все то, что было решено верхушкой концерна. Такое положение дел она хотела сохранить, пока окончательно не созреет для дела сын Томаса Урс и не
возьмет на себя целиком и полностью эту роль. Сам
же Томас всегда мечтал только о том, чтобы пропустить эту страницу своей жизни. И причиной тому был его характер.
Весть о крупном материальном ущербе на Корфу
Эльвира Зенн восприняла, как Шёллер и ожидал,
с невозмутимым спокойствием. Она была там один-единственный раз в своей жизни — больше двадцати лет назад.
— Какое это произведет на всех впечатление,
если я засажу его в тюрьму?
— Вам не придется это делать. Этим займется
правосудие. Поджог и в Греции является преступлением, по которому, независимо от действий потерпевшего, возбуждается уголовное дело.
— Конрад Ланг никакой не поджигатель. Он
просто стареет.
— Если вам угодно, чтобы дело рассматривалось
как неумышленный поджог по неосторожности,
нам придется дать свидетельские показания в его
пользу.
— И что вы потом с ним сделаете?
— Суд обяжет его выплатить денежный штраф.
В том случае, если он сможет его заплатить, ему не
придется отправляться в тюрьму.
— Мне незачем спрашивать, что бы вы сделали
на моем месте?
— Нет.
Эльвира думала. Мысль о том, чтобы упрятать
Конрада Ланга за решетку на расстоянии полутора тысяч километров к югу отсюда, была ей не совсем неприятна.
— Как выглядят греческие тюрьмы?
— Иоаннис уверяет, что за пару драхм там можно устроиться вполне сносно.
Эльвира Зенн улыбнулась. Она уже старая женщина, хотя по ней этого не скажешь. За свою жизнь
она предприняла немало, затратив достаточно времени, энергии и денег, чтобы не выглядеть старухой. Когда ей перевалило за сорок, она стала регулярно прибегать к небольшому косметическому
ремонту, прежде всего лица. Это дало свой результат — начав, может, несколько преждевременно, она
зато долгие годы выглядела очень молодо, и теперь
ей, семидесятивосьмилетней, в наиболее удачные
для нее дни иногда нельзя было дать и шестидесяти. Причина крылась не только в деньгах и пластических операциях — природа тоже не поскупилась
на нее, взять хотя бы это круглое кукольное личико, а когда подошло время, ей не понадобилось, как
многим другим женщинам, выбирать: лицо или
стройная фигура? Все та же природа помогла ей
сохранить свои формы. И на здоровье она не жаловалась, не считая диабета («старческий диабет», как
негалантно выразился ее домашний врач), из-за чего она вот уже несколько лет два раза в день должна
была делать себе с помощью шприца, больше похожего на авторучку, инъекции инсулина. Она строго
придерживалась диеты, ежедневно плавала, делала
массаж и чистила лимфу, ложась дважды в год в
клинику на острове Иснья под Неаполем, старалась не злиться и не нервничать, что не всегда давалось ей легко.
Шёллер не сдавался — он вел игру, не выпуская
инициативы из рук.
— Вас ни в чем нельзя упрекнуть, принимая во
внимание, чтовы для него сделали. После этого случая вам уже никуда не удастся его пристроить. Или
вы и сейчас готовы за него поручиться?
— Но тогда все кругом начнут говорить, что я
отправила его в тюрьму.
— Напротив. Будут только ставить вам в заслугу, что вы не потребовали от него через суд возмещения убытков. Никто не ожидает от вас, что вы
станете вытаскивать из тюрьмы того, кто сжег вам
виллу стоимостью в пять миллионов.
— Пять миллионов?
— Страховая сумма чуть меньше четырех.
— Сколько она нам стоила?
— Примерно два. Да плюс еще около полутора,
которые вложил в нее за последний год господин
Кох.
— В голландскую дизайнершу?
Шёллер кивнул.
— Так дешево нам уже никогда не удастся от него отделаться.
— Что я должна предпринять?
— А вот это самое приятное — ничего!
— Тогда я так и поступлю.
Эльвира надела очки и занялась документом, лежавшим перед ней на бюро. Шёллер поднялся.
— А вот Томасу,— произнесла она, не поднимая
головы,— я хочу сказать, тыкать Томасу в нос, напирая на обстоятельства дела, вовсе не обязательно.
— От меня господин Кох ничего не узнает.
Но Шёллер еще не успел дойти до двери, как раздался стук, и уже в следующий миг в кабинете появился Томас Кох.
— Кони спалил Корфу.— Он не заметил взгляда,
которым Эльвира обменялась с Шёллером.
— Только что позвонила Трикс Ван Дайк. На
вилле как после бомбежки.— Он ухмыльнулся.—
Она была там со съемочной группой из «The World
of Interiors». Они хотели сделать материал на первую полосу и дать его под крупным заголовком. Но
не нашли там вообще никаких интерьеров. Трикс
говорит, что убьет Кони. Она сказала это таким тоном, что я ей верю.
Томас Кох был лысый, не считая венчика черных
волос на затылке, вспыхивавших неестественным
светом, когда солнце, найдя прореху в облаках, ненадолго заглядывало в кабинет. Его лицо казалось
слишком маленьким для столь крупной мясистой
головы даже теперь — когда на нем сияла такая
широкая ухмылка.
— Мне кажется, Шёллер, вам надо слетать на
Корфу и посмотреть, в чем там дело. Уладьте все
формальности и держите от меня подальше, ради
всего святого, эту Ван Дайк.— Кох направился к
двери.— Ах да! И вызволите Кони из тюрьмы. Объясните им, что никакой он не поджигатель, а всего
лишь старый пьяница.
Когда Томас Кох закрывал за собой дверь, они
еще слышали, как он хихикал:
— The World of Interiors!
Через три недели Конрад Ланг и Шёллер увиделись снова. Апостолос Иоаннис внес по поручению
владельцев сгоревшей виллы залог и снабдил Конрада Ланга временными документами, а также всем
необходимым из одежды, карманными деньгами и
билетами второго класса на пароход и на поезд.
Море было неспокойно, и Конрад Ланг восемь
часов добирался на самоходном пароме до Бриндизи, а потом еще три часа околачивался на вокзале.
Когда на следующий день он точно в четверть шестого прибыл по адресу, названному ему Иоаннисом, уже стемнело.
По Танненштрассе, 134, находился многоквартирный дом, но ни единой елки на этой улице с
оживленным движением не было. И к тому же это
оказался рабочий квартал. Конрад Ланг в нерешительности стоял перед подъездом. На записке этаж
указан не был. Он стал изучать фамилии на табличках — черных и аккуратненько вставленных в алюминиевые рамочки. Рядом со звонком в квартиру
на четвертом этаже он увидел выгравированное
имя: Конрад Ланг — и нажал на кнопку. Раздался
звук зуммера — входная дверь открылась. Он поднялся по лестнице — наверху в дверях квартиры
его ждал Шёллер.
— Добро пожаловать домой,— сказал он ехидно.
Ланг провел в дороге тридцать три часа. И выглядел почти так же плохо, как и во время их последней встречи в полицейском управлении в Керкире.
Шёллер показал ему маленькую двухкомнатную квартирку, обставленную совсем дешевой, простой мебелью. В кухонных шкафах было все самое
необходимое из посуды. Нашлась и пара сковородок, и кое-что из еды. В спальне в шкафу лежали
постельное белье, махровые полотенца и халат, в
гостиной стоял телевизор. Все было новое, полы
покрыты паласом, и стены покрашены заново. Как
квартира для туристов, которую еще ни разу не
сдавали, подумал Конрад Ланг. Если бы еще без
этого трамвайного визга да автомобильных гудков.
Он опустился в кресло с откидывающейся спинкой, стоявшее перед телевизором.
— Условия договоренности следующие,— сказал Шёллер, сел рядом на маленькую тахту и положил перед собой на низкий столик лист бумаги.—
Расходы по квартире берет на себя госпожа Зенн.
Если вам захочется добавить что-то из мебели, составьте список. Я уполномочен пойти вам в разумных пределах навстречу. Страховка, больничная
касса, зубной врач вам гарантируются. Одежда тоже. Одна из моих сотрудниц придет к вам завтра
утром и будет сопровождать вас по магазинам, давая нужные советы,— они будут касаться в первую
очередь финансовой стороны дела. Предоставляемые вам возможности ограниченны.— Шёллер перевернул листок.— Напротив дома есть кафе «Дельфин» с уютным чайным залом — там вы можете
завтракать. Для других трапез предусмотрен «Голубой крест» — вполне приемлемый безалкогольный
ресторан в четырех трамвайных остановках отсюда. Вам он знаком?
Конрад Ланг отрицательно покачал головой.
— В обоих заведениях у вас открытый счет, оплачивать его будет госпожа Зенн. Для расходов вне
рамок этого соглашения в вашем распоряжении
карманные деньги в размере трехсот франков в неделю, которые вы будете получать каждый понедельник у шефа филиала Кредитного банка на Розенплац. Он получил также указание не давать вам
авансов. Госпожа Зенн просила меня сказать вам,
что она не ждет и не требует от вас никаких ответных услуг. Разве что кроме той, что вы будете аккуратно обращаться с огнем,— это моя личная просьба, и я охотно присоединяю ее ко всему вышесказанному.
Шёллер пододвинул бумаги в сторону Конрада
Ланга и вынул из внутреннего кармана шариковую ручку.
— Внимательно прочтите и подпишите оба экземпляра.
Ланг взял ручку и подписал. Он слишком устал,
чтобы еще читать это. Шёллер забрал копию, поднялся и направился к выходу. Уже в дверях он оглянулся и вернулся назад, будучи не в силах отказать
себе в удовольствии:
— Была бы моя воля, вы бы остались на Корфу.
Госпожа Зенн чрезмерно великодушна к вам.
Ответа не последовало — Конрад Ланг заснул
прямо в кресле.