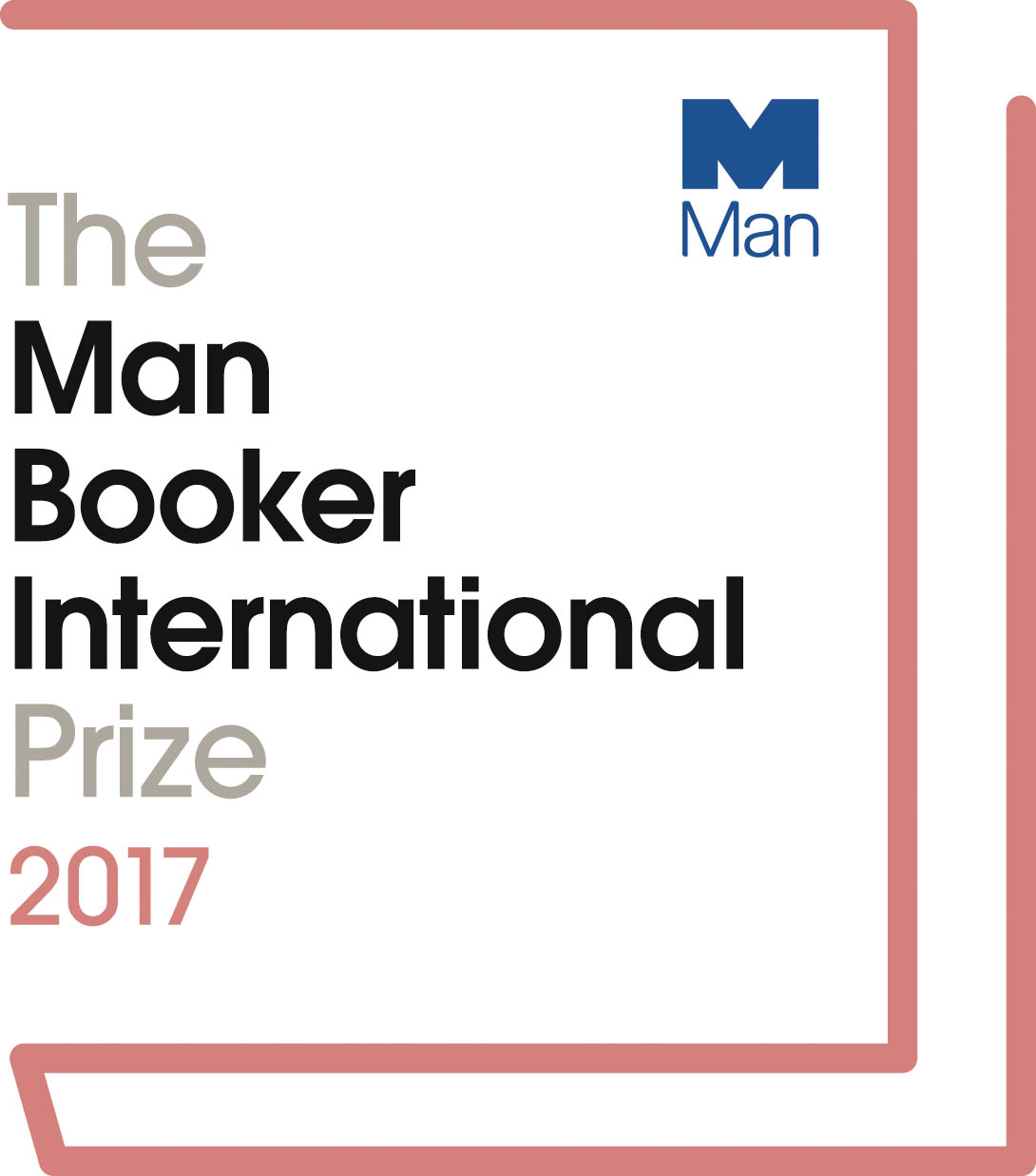- Эрик Хобсбаум. Разломанное время / Пер. с англ. Н. Охотина. — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017. — 384 с.
Известный британский историк, автор таких работ, как «Эпоха революций: Европа 1789–1848», «Эпоха капитала: Европа 1848–1875» и «Век империй: Европа 1875–1914», Эрик Хобсбаум в своей новой книге «Разломанное время» анализирует разные течения в искусстве и точно определяет связь между ними и ключевыми моментами истории XX века.
Глава 18
Искусство и революция
Между европейским культурным и художественным авангардом (термин стал использоваться примерно с 1880 года) и крайнелевыми партиями XIX и XX веков нет непременной логической связи, хотя и авангард, и партии представляли себя носителями «прогресса» и «современности» и были транснациональны в своих масштабах и амбициях. В 1880–1890-х годах новые социал-демократы (в основном марксисты) и левые радикалы сочувственно относились к авангардным художественным течениям: натуралистам, символистам, Движению искусств и ремесел и даже к постимпрессионистам. В свою очередь, симпатия авангардных художников к защитникам бедных и притесняемых подталкивала их к социальной и даже политической позиции. Это относилось даже к таким состоявшимся фигурам, как сэр Губерт Геркомер («Забастовка», 1890) или Илья Репин («17 октября 1905 года»). Русские художники-мирискусники, вероятно, представляли из себя сходную фазу авангарда вплоть до отъезда Дягилева на Запад. Знаменитый портретист Серов в 1905–1907 годах также демонстрировал отчетливую политическую позицию.
В предвоенное десятилетие расцвет нового и радикально-провокативного авангарда в Париже, Мюнхене и столицах империи Габсбургов провел водораздел между политическим и художественным. К этому же водоразделу позже присоединилось уникальное сообщество русских художниц. Под разнообразными и пересекающимися ярлыками — кубисты, футуристы, кубофутуристы, супрематисты и т. д. — эти радикальные инноваторы с революционными взглядами на искусство, ищущие вдохновения в космосе и мистике, уже не интересовались левой политикой и почти не поддерживали с ней контактов. После 1910 года даже молодой большевистский поэт и драматург Владимир Маяковский на время отошел от политики. Если авангардисты читали в то время философские книги, то это был не Маркс, а Ницше, чьи политические воззрения были скорее в пользу элит и «сверхлюдей», чем народных масс. Только один художник, назначенный на ответственный пост новым советским правительством, был членом партии социалистической направленности: бундовец Давид Штеренберг (1881–1938).
С другой стороны, и социалисты не слишком доверяли непонятным изобретениям нового авангарда, поскольку считали главной задачей нести искусство — под которым, как правило, понималась высокая культура образованной буржуазии — в трудящиеся массы. В лучшем случае некоторые социалистические лидеры, такие как, к примеру, журналист и большевик Анатолий Луначарский, не будучи убежденными сторонниками нового искусства, оказывались достаточно чувствительны к современным интеллектуальным и культурным течениям и понимали, что аполитичные и даже антиполитичные революционеры от искусства могут иметь определенное воздействие на будущее.
В 1917–1922 годах центрально- и восточноевропейский авангард, которому предстояло превратиться в единую плотную трансграничную паутину, массово перешел на революционно-левые позиции. Вероятно, это стало большей неожиданностью в Германии, чем в России, на этом «Титанике», пассажиры которого осознавали приближение айсберга революции. В России, в отличие от Германии и Габсбургской империи, синдром отторжения прошедшей войны играл незначительную роль. Два ключевых авангардиста — поэт Владимир Маяковский и художник Казимир Малевич — делали в 1914 году популярные патриотические плакаты. Их вдохновляла и политизировала сама революция, так же как это происходило в Германии и Венгрии. Она же принесла им международную известность, благо- даря которой Россия считалась центром модернизма вплоть до 1930-х годов.
Революция дала новому русскому авангарду уникальную власть и влияние под благосклонным присмотром наркома просвещения Анатолия Луначарского. Только желание режима сохранить наследие и институты высокой культуры удерживало авангардистов (особенно футуристов) от полного уничтожения старой культуры (Большой театр лишь чудом не был закрыт в 1921 году). Мало кто из художников был так предан Советам («Нельзя ли найти надежных антифутуристов?» — спрашивал Ленин). Шагал, Малевич и Лисицкий возглавили художественные школы, архитектор Владимир Татлин и театральный режиссер Всеволод Мейерхольд — отделы Наркомпроса. Прошлого больше не существовало. Искусство и общество предстояло создавать заново. Все казалось возможным. Мечты о жизни, неот- делимой от искусства, о публике, неотделимой от творца, — или отделимых, но объединяемых революцией, — теперь могли хоть каждый день воплощать на улицах, на площадях мужчины и женщины, которые сами становились творцами, как демонстрировало советское кино, поначалу настороженно относившееся к профессиональным актерам. Авангардный писатель и критик Осип Брик сформулировал это так: «Каждый должен стать художником. Все может стать искусством».
Футуристы, кого бы ни объединял этот общий термин, а позже конструктивисты (Татлин, Родченко, Попова, Степанова, Лисицкий, Наум Габо, Певзнер) крайне последовательно шли к этой цели. Именно они обеспечили русскому авангарду мощнейшее влияние на весь остальной мир — в том числе через кино (Дзига Вертов и Эйзенштейн), театр (Мейерхольд) и архитектурные идеи Татлина. Русский авангард играл ведущую роль в тесно переплетенных русско-немецких культурных движениях, имевших важнейшее значение в современном искусстве периода между Октябрьской революцией и холодной войной.
Наследие этих радикальных взглядов до сих пор входит в арсенал базовых приемов, используемых в киномонтаже, книжной верстке, фотографии и дизайне. Невозможно не восхищаться этими достижениями: татлинским проектом Памятника III Интернационалу, красным клином Эль Лисицкого, монтажом и фотографиями Родченко, «Броненосцем „Потемкиным»» Эйзенштейна.
От их работ первых лет революции мало что сохранилось. Не было построено ни одного здания. Ленин, будучи прагматиком, признавал пропагандистский потенциал кино, но экономическая блокада практически не пропускала кинопленку на советскую территорию во время гражданской войны; студенты нового ВГИКа, основанного в Москве в 1919 году, под руководством Льва Кулешова оттачивали мастерство монтажа, кромсая и склеивая сохранившиеся ленты. Один из первых декретов марта 1918 года предусматривал снесение памятников старого режима и замену их на статуи революционных и прогрессивных фигур со всего света, для воодушевления неграмотных. Около сорока памятников было воздвигнуто в Москве и Петрограде, но сделанные на скорую руку, в основном из гипса, они простояли недолго. Возможно, и к лучшему.
Авангардисты с энтузиазмом погрузились в уличное искусство, малюя лозунги и изображения на стенах и площадях, железнодорожных станциях и «летящих вперед паровозах», а также обеспечивая убранство на революционных праздниках. Это искусство было временным по самой своей природе, но все равно порой не доживало до своего естественного конца: один раз дизайн, придуманный в Ви- тебске Марком Шагалом, был признан недостаточно политическим, в другой — Ленин воспротивился покраске деревьев у Кремля в голубой цвет плохо смываемой краской. Мало что из этого сохранилось, кроме нескольких фотографий и поразительных эскизов для ораторских трибун, киосков, церемониальных инсталляций и т.п., включая проект знаменитой татлинской Башни Коминтерна. Единственными творческими проектами, которые удалось полностью реализовать во время Гражданской войны, стали театральные постановки, но сценические действия сами по себе эфемерны, хотя декорации некоторых постановок остались целы.
С окончанием Гражданской войны и наступлением рыночного нэпа в 1921–1928 годах стало куда больше воз- можностей для реализации проектов новых художников, и авангард смог сделать шаг от утопии к практике, хотя и ценой все большей раздробленности. Ортодоксальные коммунисты настаивали на полностью рабочем Пролеткульте и нападали на авангард. Внутри самого авангарда представители чистейшего революционного искусства, такие как Наум Габо и Антуан Певзнер, осуждали «продуктивистов», стремившихся к прикладному искусству, промышленному дизайну и к отказу от мольберта. Это привело к дальнейшим личным и профессиональным конфликтам, как те, что привели к изгнанию Шагала и Кандинского из Витебского художественного училища и замене их там на Малевича.
Связи между Советской Россией и Западом — в основ- ном через Германию — множились, и в течение нескольких лет авангардисты свободно перемещались между Европой и Россией. Некоторые из них (Кандинский, Шагал, Юлиус Экстер) остались на Западе, примкнув к эмигрантам ранней волны, собравшимся вокруг Дягилева, таким как Гончарова и Ларионов. В целом наиболее долгосрочные творче- ские достижения русского авангарда состоялись в середине 1920-х годов — особо стоит отметить первые триумфы нового русского «монтажного» кинематографа, «Кино-глаз» Дзиги Вертова и «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзен- штейна, фотопортреты Родченко и некоторые нереализованные архитектурные проекты.
До конца 1920-х на авангард не было серьезных нападок, хотя партия и не одобряла его, — в том числе потому, что его привлекательность для «народных масс» была, бесспорно, слишком незначительной. На стороне авангарда находились не только Луначарский с его широким кругозором, глава Наркомпроса с 1917 по 1929 год, и культурные лидеры большевиков Троцкий и Бухарин, но и стремление советского режима задобрить нужных «буржуазных специалистов», образованную, но в основном оппозиционную интеллигенцию, которая была главным потребителем искусства, включая авангард. В период между 1929 и 1935 годами Сталин, предоставив ей приемлемые материальные условия, принудил ее к полному подчинению власти. Эта безжалостная культурная революция означала конец авангарда образца 1917 года — соцреализм стал обязательным для всех. Штеренберг и Малевич замолчали; Татлин, лишенный возможности выставляться, ушел в театр; Лисицкий и Родченко нашли пристанище в иллюстрированном журнале «СССР на стройке»; Дзига Вертов закончил как монтажер кинохроники. Хотя в большинстве своем авангардисты пережили эпоху сталинских репрессий (в отличие от старых большевиков, подаривших им этот шанс), их произведения, погребенные в российских музеях и частных собраниях, казалось, были навсегда забыты.
Но несмотря на это, мы по сей день живем в визуальном мире, который в значительной степени создан ими в первое десятилетие после революции.
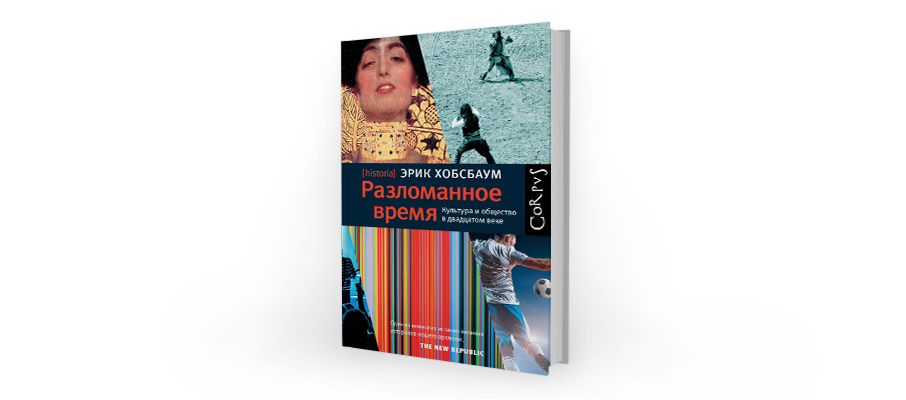
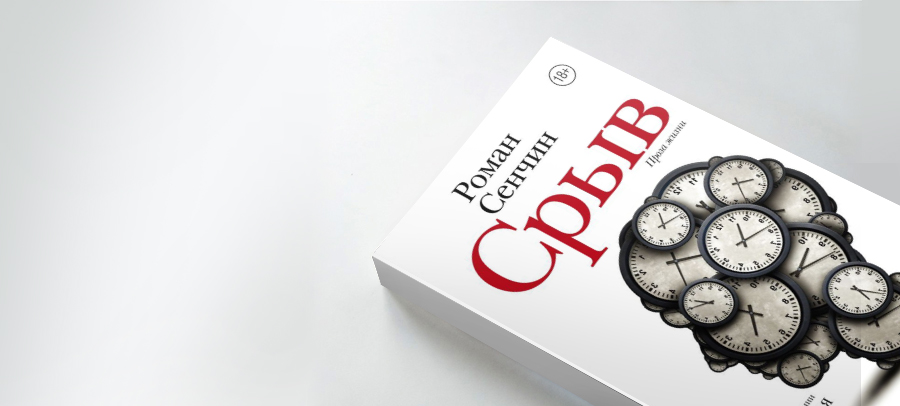

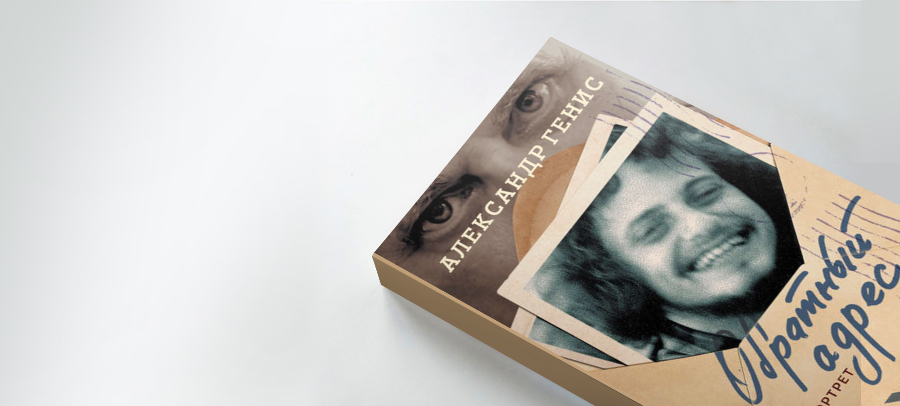
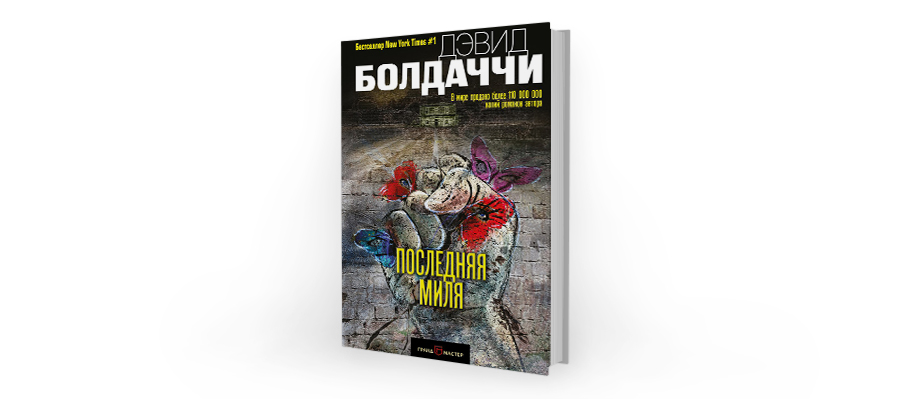

 В рамках школы начнут работать два курса: один из них даст основополагающие знания в области реставрации книг и переплетного дела, а второй научит основам старославянской каллиграфии и практическому почерковедению XVIII—XIX веков. На презентации мастер-класс проведет известный реставратор и историк Дмитрий Фост.
В рамках школы начнут работать два курса: один из них даст основополагающие знания в области реставрации книг и переплетного дела, а второй научит основам старославянской каллиграфии и практическому почерковедению XVIII—XIX веков. На презентации мастер-класс проведет известный реставратор и историк Дмитрий Фост. В рамках фестиваля пройдут чтения современной зарубежной прозы в исполнении актеров петербургских театров, встречи с переводчиками и издателями. Книги, представленные в программе этого года, — номинанты проекта «Читающий Петербург — 2017: выбираем лучшего зарубежного автора». Полная программа доступна на
В рамках фестиваля пройдут чтения современной зарубежной прозы в исполнении актеров петербургских театров, встречи с переводчиками и издателями. Книги, представленные в программе этого года, — номинанты проекта «Читающий Петербург — 2017: выбираем лучшего зарубежного автора». Полная программа доступна на  «Текст» — первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора известной трилогии «Метро 2033/2034/2035». «»Текст» — скорее психологический триллер. Но в нем есть и драма, и криминальная интрига, и надрывные отношения между детьми и родителями и между мужчинами и женщинами, и неразрешенные противоречия между живыми и мертвыми», — говорит о новой работе сам автор.
«Текст» — первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора известной трилогии «Метро 2033/2034/2035». «»Текст» — скорее психологический триллер. Но в нем есть и драма, и криминальная интрига, и надрывные отношения между детьми и родителями и между мужчинами и женщинами, и неразрешенные противоречия между живыми и мертвыми», — говорит о новой работе сам автор. Автор «Алых парусов» Александр Грин прославился как «переводчик с неизвестного» — настолько странен и необычен был его язык. В чем на самом деле дар Грина? Нет ли в его «сказках» истинно мистических откровений? Об этом и многом другом расскажет писатель и переводчик Надежда Муравьева.
Автор «Алых парусов» Александр Грин прославился как «переводчик с неизвестного» — настолько странен и необычен был его язык. В чем на самом деле дар Грина? Нет ли в его «сказках» истинно мистических откровений? Об этом и многом другом расскажет писатель и переводчик Надежда Муравьева. Генри Миллера называли сексуальным маньяком, порнографом, скандалистом, графоманом. Защитники нравственности объявили ему войну — а битники считали своим кумиром. О том, кем на самом деле был писатель, расскажет Андрей Аствацатуров. Лекция проходит в рамках курса «Шедевры американской прозы ХХ века».
Генри Миллера называли сексуальным маньяком, порнографом, скандалистом, графоманом. Защитники нравственности объявили ему войну — а битники считали своим кумиром. О том, кем на самом деле был писатель, расскажет Андрей Аствацатуров. Лекция проходит в рамках курса «Шедевры американской прозы ХХ века». Режиссер Рома Либеров и телеведущий Владимир Раевский продолжают цикл «От Автора» встречей с поэтом, лауреатом премии Андрея Белого Сергеем Стратановским. Он прочтет свои избранные стихотворения и расскажет об истории их написания.
Режиссер Рома Либеров и телеведущий Владимир Раевский продолжают цикл «От Автора» встречей с поэтом, лауреатом премии Андрея Белого Сергеем Стратановским. Он прочтет свои избранные стихотворения и расскажет об истории их написания. Рубеж XIX — XX веков ознаменован сильнейшим духовным кризисом в России и Европе. Модернизм демонстративно противопоставил себя реалистической литературе. В произведениях этих лет беспрецедентно высок интерес к тайному, еретическому, запретному. Образ Дьявола становится популярным в искусстве. Каковы причины эстетизации зла декадентами? Об этом расскажет лектор Никита Тимофеев.
Рубеж XIX — XX веков ознаменован сильнейшим духовным кризисом в России и Европе. Модернизм демонстративно противопоставил себя реалистической литературе. В произведениях этих лет беспрецедентно высок интерес к тайному, еретическому, запретному. Образ Дьявола становится популярным в искусстве. Каковы причины эстетизации зла декадентами? Об этом расскажет лектор Никита Тимофеев. Geek Picnic — крупнейший международный научно-популярный фестиваль, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. В программе 2017 года – лекция исследователя саунд-арта и медиапозии Сабины Миналто, художника Сергея Филатова, искусствоведа Натальи Фукс, музыканта Игоря Старшинова и многих других. Специальный сюрприз организаторов — приезд знаменитого популяризатора науки Ричарда Докинза.
Geek Picnic — крупнейший международный научно-популярный фестиваль, посвящённый современным технологиям, науке и творчеству. В программе 2017 года – лекция исследователя саунд-арта и медиапозии Сабины Миналто, художника Сергея Филатова, искусствоведа Натальи Фукс, музыканта Игоря Старшинова и многих других. Специальный сюрприз организаторов — приезд знаменитого популяризатора науки Ричарда Докинза. Перед поэзией символиста Валерия Брюсова распахнулись дали времен и пространства Вселенной: неслучайно, когда человечество впервые проникло в космос, написанные полвека назад стихи Брюсова оказались наиболее близки чувствам и мыслям, обуревавшим человечество. На встрече эти стихи прозвучат под звездным небом Петербургского Планетария — многократно усиленные акустикой его купола.
Перед поэзией символиста Валерия Брюсова распахнулись дали времен и пространства Вселенной: неслучайно, когда человечество впервые проникло в космос, написанные полвека назад стихи Брюсова оказались наиболее близки чувствам и мыслям, обуревавшим человечество. На встрече эти стихи прозвучат под звездным небом Петербургского Планетария — многократно усиленные акустикой его купола. Вот уже 25 лет как загадочный датчанин Питер Хёг подарил нам возможность смотреть на снег глазами Смиллы Ясперсен. Исследователь современной культуры Мария Могилевич предлагает посмотреть на тот самый Копенгаген, по улицам которого ходила фрёкен Смилла: это не только милый центр города, но и суровые Северная и Южная гавань, «Белое сечение», тюрьма, Гренландское кладбище и масса других мест, которые вы бы никогда не посетили как турист.
Вот уже 25 лет как загадочный датчанин Питер Хёг подарил нам возможность смотреть на снег глазами Смиллы Ясперсен. Исследователь современной культуры Мария Могилевич предлагает посмотреть на тот самый Копенгаген, по улицам которого ходила фрёкен Смилла: это не только милый центр города, но и суровые Северная и Южная гавань, «Белое сечение», тюрьма, Гренландское кладбище и масса других мест, которые вы бы никогда не посетили как турист. «Москва — Петушки» — из тех книг, что затягивают в водоворот причудливых образов и фантастических событий. Участники встречи узнают, почему автор написал поэму, а не роман, в чем связь книги с произведениями Гоголя и почему вместо всей советской литературы, достаточно прочесть лишь поэму Венички Ерофеева. Лекцию читает литературовед Артем Новиченков.
«Москва — Петушки» — из тех книг, что затягивают в водоворот причудливых образов и фантастических событий. Участники встречи узнают, почему автор написал поэму, а не роман, в чем связь книги с произведениями Гоголя и почему вместо всей советской литературы, достаточно прочесть лишь поэму Венички Ерофеева. Лекцию читает литературовед Артем Новиченков. Александр Ильянен — петербургский прозаик и поэт, лауреат премии Андрея Белого и финалист премии «НОС». Проза Ильянена — дневниковая, фрагментарная, «мозаичная» — важнейший эксперимент последних десятилетий. На встрече прочтет фрагменты из своих романов и ответит на вопросы читателей.
Александр Ильянен — петербургский прозаик и поэт, лауреат премии Андрея Белого и финалист премии «НОС». Проза Ильянена — дневниковая, фрагментарная, «мозаичная» — важнейший эксперимент последних десятилетий. На встрече прочтет фрагменты из своих романов и ответит на вопросы читателей. Социолог Михаил Соколов расскажет о том, как менялись литературные предпочтения разных социальных слоев, — опираясь на данные о восьмидесяти тысячах читателей петербургских библиотек. Участники встречи поговорят о том, является ли вкус границей между элитой и не-элитой, а также о том, как экономические кризисы отражаются на престиже высокой культуры.
Социолог Михаил Соколов расскажет о том, как менялись литературные предпочтения разных социальных слоев, — опираясь на данные о восьмидесяти тысячах читателей петербургских библиотек. Участники встречи поговорят о том, является ли вкус границей между элитой и не-элитой, а также о том, как экономические кризисы отражаются на престиже высокой культуры. Один из самых парадоксальных и неоднозначных писателей современности Андрей Рубанов проведет встречу с читателями, на которой расскажет, почему злободневность — не цель литературы и как писатель может встать на защиту родины — то есть своего языка.
Один из самых парадоксальных и неоднозначных писателей современности Андрей Рубанов проведет встречу с читателями, на которой расскажет, почему злободневность — не цель литературы и как писатель может встать на защиту родины — то есть своего языка. Филолог и писатель Елена Калашникова поможет участникам встречи — детям от 8 до 12 лет — передать свои впечатления от встречи в удобной форме: устно, через рисунок или в движении, спонтанном танце. Во второй части встречи каждый создает собственную сказку с иллюстрациями, читает ее или рассказывает и показывает главное в нескольких движениях. Встреча проводится в рамках цикла «Такие разные сказки».
Филолог и писатель Елена Калашникова поможет участникам встречи — детям от 8 до 12 лет — передать свои впечатления от встречи в удобной форме: устно, через рисунок или в движении, спонтанном танце. Во второй части встречи каждый создает собственную сказку с иллюстрациями, читает ее или рассказывает и показывает главное в нескольких движениях. Встреча проводится в рамках цикла «Такие разные сказки». Прозаик, публицист и телеведущая представит сборник «В Питере жить» – настоящий петербургский текст от знаменитых людей города на Неве – и расскажет о творческих планах. Специальный гость встречи – издатель Елена Шубина.
Прозаик, публицист и телеведущая представит сборник «В Питере жить» – настоящий петербургский текст от знаменитых людей города на Неве – и расскажет о творческих планах. Специальный гость встречи – издатель Елена Шубина. 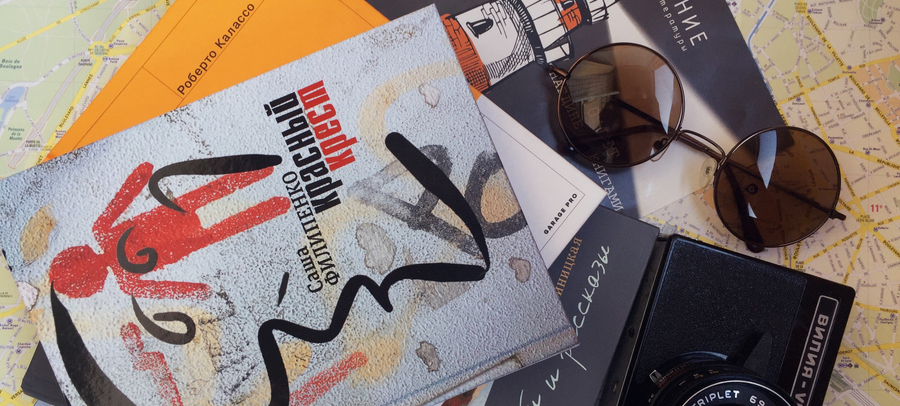

 Сборник повестей и рассказов Софии Синицкой в этом году вошел в длинный список «Нацбеста». Несколько текстов из него (в том числе и рекомендуемый к прочтению «Ганнибал Квашнин») ранее публиковались отдельно. Произведения Синицкой исконно-русские, в первую очередь потому, что их герои — эдакие классические юродивые. Несмотря на очевидную национальную принадлежность, пространство и география текстов почти необъятны: такие разные герои живут рядом на страницах небольших историй и так легко перемещаются из одного места в другое, что кажется, будто весь мир книги помещается на спине сказочной чудо-рыбы. Персонажи Синицкой естественны и живут больше по наитию и оттого, кажется, все у них и получается. И есть во всем этом какая-то абсурдная, но очень утешительная правда жизни. Герои несомненно автобиографичны — ведь мало кто способен видеть мир так, как это делает автор. Еще один удивительный факт — иллюстрации к изданию Синицкой сделаны ее дочерью-подростком Марианной.
Сборник повестей и рассказов Софии Синицкой в этом году вошел в длинный список «Нацбеста». Несколько текстов из него (в том числе и рекомендуемый к прочтению «Ганнибал Квашнин») ранее публиковались отдельно. Произведения Синицкой исконно-русские, в первую очередь потому, что их герои — эдакие классические юродивые. Несмотря на очевидную национальную принадлежность, пространство и география текстов почти необъятны: такие разные герои живут рядом на страницах небольших историй и так легко перемещаются из одного места в другое, что кажется, будто весь мир книги помещается на спине сказочной чудо-рыбы. Персонажи Синицкой естественны и живут больше по наитию и оттого, кажется, все у них и получается. И есть во всем этом какая-то абсурдная, но очень утешительная правда жизни. Герои несомненно автобиографичны — ведь мало кто способен видеть мир так, как это делает автор. Еще один удивительный факт — иллюстрации к изданию Синицкой сделаны ее дочерью-подростком Марианной. Книга за авторством итальянского прозаика и переводчика — сборник эссе об издательском деле с углублением в его историю. Здесь и философские размышления о книгоиздании как литературном жанре, и воспоминания о встречах с известными издателями, и рассказ о собственном детище автора. Заинтересованные найдут в «Искусстве…» несколько весьма полезных рекомендаций, например воспринимать каждую изданную книгу как самодостаточную. При этом Калассо сравнивает издателя с писателем, замечая, что все эти уникальные книги складываются для него в одну. И потому ориентироваться в этом необъятном книжном море нужно, прежде всего, полагаясь на интуицию. Тем, кто книготорговлей не занимается, «Искусство издателя» приоткроет двери в мир, живущий на самом деле жизнью очень закрытой при всей его кажущейся близости.
Книга за авторством итальянского прозаика и переводчика — сборник эссе об издательском деле с углублением в его историю. Здесь и философские размышления о книгоиздании как литературном жанре, и воспоминания о встречах с известными издателями, и рассказ о собственном детище автора. Заинтересованные найдут в «Искусстве…» несколько весьма полезных рекомендаций, например воспринимать каждую изданную книгу как самодостаточную. При этом Калассо сравнивает издателя с писателем, замечая, что все эти уникальные книги складываются для него в одну. И потому ориентироваться в этом необъятном книжном море нужно, прежде всего, полагаясь на интуицию. Тем, кто книготорговлей не занимается, «Искусство издателя» приоткроет двери в мир, живущий на самом деле жизнью очень закрытой при всей его кажущейся близости. Жан Старобинский — известный швейцарский психоаналитик и филолог, специалист по творчеству Руссо и Дидро. До того как заняться филологией, автор защитил докторскую диссертацию по медицине — она и стала первой частью книги. «Чернила меланхолии» — своего рода история борьбы с депрессивным состоянием в различных культурах и рассказ о способах его изображения в искусстве. Это исследование одновременно социологическое и литературоведческое. С уверенностью можно сказать, что один из своих главных научных интересов — проблему меланхолии — автор изучил всеми доступными ему методами. В современной обстановке повышенного внимания к нервным расстройствам научно-популярный экскурс в историю вопроса будет отнюдь не лишним, а возможно, даже поможет взять на заметку несколько нетривиальных способов лечения: например, участие в театрализованных представлениях или созерцание произведений искусства и архитектуры. Отдых на море тоже по праву может занять свое место в этом списке.
Жан Старобинский — известный швейцарский психоаналитик и филолог, специалист по творчеству Руссо и Дидро. До того как заняться филологией, автор защитил докторскую диссертацию по медицине — она и стала первой частью книги. «Чернила меланхолии» — своего рода история борьбы с депрессивным состоянием в различных культурах и рассказ о способах его изображения в искусстве. Это исследование одновременно социологическое и литературоведческое. С уверенностью можно сказать, что один из своих главных научных интересов — проблему меланхолии — автор изучил всеми доступными ему методами. В современной обстановке повышенного внимания к нервным расстройствам научно-популярный экскурс в историю вопроса будет отнюдь не лишним, а возможно, даже поможет взять на заметку несколько нетривиальных способов лечения: например, участие в театрализованных представлениях или созерцание произведений искусства и архитектуры. Отдых на море тоже по праву может занять свое место в этом списке. Джамбаттиста Базиле — неаполитанский поэт и сказочник, живший в XVI–XVII веках. «Сказка сказок» — первый подобный сборник в истории европейского фольклора. Некоторые сказки, обработанные Шарлем Перро и братьями Гримм, стали позднее классическими («Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах» и другие). Пусть подзаголовок не вводит вас в заблуждение, эти истории вряд ли стоит читать детям: здесь и частотное употребление бранной лексики, и раблезианское описание физиологических подробностей. Зачем тогда, спрашивается, читать такие сказки? А затем, что главное их достоинство — вписанность в современную автору реальность, составленную из множества мелких деталей. Читатель осознает, что даже в сказке мир остается таким, каков он есть, порой весьма неприглядным, но и в нем есть место благородству, доброте и радости. Если после прочтения останется время, можно посмотреть красочную экранизацию книги 2015 года — «Страшные сказки» режиссера Маттео Гарроне с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем.
Джамбаттиста Базиле — неаполитанский поэт и сказочник, живший в XVI–XVII веках. «Сказка сказок» — первый подобный сборник в истории европейского фольклора. Некоторые сказки, обработанные Шарлем Перро и братьями Гримм, стали позднее классическими («Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах» и другие). Пусть подзаголовок не вводит вас в заблуждение, эти истории вряд ли стоит читать детям: здесь и частотное употребление бранной лексики, и раблезианское описание физиологических подробностей. Зачем тогда, спрашивается, читать такие сказки? А затем, что главное их достоинство — вписанность в современную автору реальность, составленную из множества мелких деталей. Читатель осознает, что даже в сказке мир остается таким, каков он есть, порой весьма неприглядным, но и в нем есть место благородству, доброте и радости. Если после прочтения останется время, можно посмотреть красочную экранизацию книги 2015 года — «Страшные сказки» режиссера Маттео Гарроне с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем.
 Теория эволюции человека называется антропогенезом. Именно ей и посвящена книга биолога и популяризатора науки Станислава Дробышевского. По названиям томов — «Обезьяны и все-все-все» и «Люди» сразу становится понятно, кто в них главные герои. Прелесть научпопа в том, что он написан для неопытных читателей. Автору этой книги очень быстро удается ввести неподготовленных в курс дела и во многом благодаря легкому и метафорическому языку постоянно поддерживать интерес к чтению. Особенно заумные места можно пропускать, тогда даже останется время, чтобы поспать. Или, если будет не оторваться, дочитывать во время пересадок. Сергей Кумыш в статье на Posta Magazine по объему и увлекательности сравнил «Достающее звено» с «Властелином колец», отведя в книге Дробышевского не последнее место хоббитам, — весьма высокая оценка художественных достоинств книги.
Теория эволюции человека называется антропогенезом. Именно ей и посвящена книга биолога и популяризатора науки Станислава Дробышевского. По названиям томов — «Обезьяны и все-все-все» и «Люди» сразу становится понятно, кто в них главные герои. Прелесть научпопа в том, что он написан для неопытных читателей. Автору этой книги очень быстро удается ввести неподготовленных в курс дела и во многом благодаря легкому и метафорическому языку постоянно поддерживать интерес к чтению. Особенно заумные места можно пропускать, тогда даже останется время, чтобы поспать. Или, если будет не оторваться, дочитывать во время пересадок. Сергей Кумыш в статье на Posta Magazine по объему и увлекательности сравнил «Достающее звено» с «Властелином колец», отведя в книге Дробышевского не последнее место хоббитам, — весьма высокая оценка художественных достоинств книги. Геймана называют самым известным сказочником современности. Его последняя книга, переведенная на русский язык, в оригинале называется Norse Mythology, что по-русски звучит как «Древнескандинавская мифология». Надо сказать, что в ней автор достаточно точно следует за положенным в основу оригиналом, сюжеты которого интересны сами по себе. Переводное название — очевидный маркетинговый ход, недвусмысленно отсылающий к одной из самых известных книг Геймана, которая сейчас приобрела еще большую популярность в связи с долгожданным выходом эффектного одноименного сериала (который тоже можно посмотреть в пути, если вас, конечно, потенциально не смущает возможность увидеть кровавый дождь). «Американские боги» — коктейль из различных мифологий (как древних, так и современных), американской культуры и фэнтези. Захватывающий сюжет и точно выделенные проблемы нашего общества — лишь некоторые из достоинств книги.
Геймана называют самым известным сказочником современности. Его последняя книга, переведенная на русский язык, в оригинале называется Norse Mythology, что по-русски звучит как «Древнескандинавская мифология». Надо сказать, что в ней автор достаточно точно следует за положенным в основу оригиналом, сюжеты которого интересны сами по себе. Переводное название — очевидный маркетинговый ход, недвусмысленно отсылающий к одной из самых известных книг Геймана, которая сейчас приобрела еще большую популярность в связи с долгожданным выходом эффектного одноименного сериала (который тоже можно посмотреть в пути, если вас, конечно, потенциально не смущает возможность увидеть кровавый дождь). «Американские боги» — коктейль из различных мифологий (как древних, так и современных), американской культуры и фэнтези. Захватывающий сюжет и точно выделенные проблемы нашего общества — лишь некоторые из достоинств книги.
 Если название сборника не отпугнет вас в лихорадке сборов, то наградой будет знакомство с очень легким и ироничным повествованием, в котором привычные проблемы разрешаются на фоне грузинских реалий. Героиня одноименной повести, вошедшей в состав сборника, Лика живет в городе Б. — вероятно, Батуми, — работает в редакции газеты, встречает самых разных людей и иногда попадает в переделки — смешные не нарочито, а скорее из-за своего жизнеподобия. Каждый рассказ в книге посвящен герою в поисках счастья — только рецепт его не для всех одинаков. Ну а центральная, в хорошем смысле напоминающая наивные журнальные истории, повесть напомнит о том, что самолеты и существуют-то только для того, чтобы доставить нас туда, где мы будем счастливы. Говоря проще — помочь нам, как и Лике, вернуться домой.
Если название сборника не отпугнет вас в лихорадке сборов, то наградой будет знакомство с очень легким и ироничным повествованием, в котором привычные проблемы разрешаются на фоне грузинских реалий. Героиня одноименной повести, вошедшей в состав сборника, Лика живет в городе Б. — вероятно, Батуми, — работает в редакции газеты, встречает самых разных людей и иногда попадает в переделки — смешные не нарочито, а скорее из-за своего жизнеподобия. Каждый рассказ в книге посвящен герою в поисках счастья — только рецепт его не для всех одинаков. Ну а центральная, в хорошем смысле напоминающая наивные журнальные истории, повесть напомнит о том, что самолеты и существуют-то только для того, чтобы доставить нас туда, где мы будем счастливы. Говоря проще — помочь нам, как и Лике, вернуться домой. Ричарда Фейнмана можно благоговейно называть «человеком Возрождения» — ведь удавались ему не только физика и разгадывание головоломок, но и живопись, музыка, химия, язык майя и очень долго перечислять, что еще. А можно для ясности назвать его самым обаятельным персонажем среди ученых — героем бесконечно интересной байки, которую он сам же о себе и рассказал. В этой книге собраны серьезные, но окрашенные особой авторской интонацией лекции о Вселенной, об этике науки, о медицине, об НЛО и даже о воспитании детей. Название очень подходит разноцветью тем, собранных воедино — не как рассказ о Винни-Пухе, но скорее как кубик Рубика, любимая загадка великого любителя головоломок.
Ричарда Фейнмана можно благоговейно называть «человеком Возрождения» — ведь удавались ему не только физика и разгадывание головоломок, но и живопись, музыка, химия, язык майя и очень долго перечислять, что еще. А можно для ясности назвать его самым обаятельным персонажем среди ученых — героем бесконечно интересной байки, которую он сам же о себе и рассказал. В этой книге собраны серьезные, но окрашенные особой авторской интонацией лекции о Вселенной, об этике науки, о медицине, об НЛО и даже о воспитании детей. Название очень подходит разноцветью тем, собранных воедино — не как рассказ о Винни-Пухе, но скорее как кубик Рубика, любимая загадка великого любителя головоломок.
 На самом деле новая книга живого классика построена на торжестве случайностей, сцепленных легкостью — пусть не бытия, но сюжета и стиля. Здесь она не только вполне выносима, но и становится фундаментом, позволяющим не развалиться многоголосому и довольно алогичному действию. Один герой случайно заговаривает с другим, тот почти случайно притворяется смертельно больным, кто-то случайно спасается от смерти, а кто-то нечаянно находит любовь. За таким комком незначительных событий скрывается что-то масштабное — настолько, что не подлежит прямому описанию и скрыто от глаз примерно так же, как Сталин, прогуливающийся в книге по Люксембургскому саду. Абсурдность нарастает, сюжет расплывается, легкость превращается в тяжесть — тем интереснее находить нечто, угадывающееся между строк.
На самом деле новая книга живого классика построена на торжестве случайностей, сцепленных легкостью — пусть не бытия, но сюжета и стиля. Здесь она не только вполне выносима, но и становится фундаментом, позволяющим не развалиться многоголосому и довольно алогичному действию. Один герой случайно заговаривает с другим, тот почти случайно притворяется смертельно больным, кто-то случайно спасается от смерти, а кто-то нечаянно находит любовь. За таким комком незначительных событий скрывается что-то масштабное — настолько, что не подлежит прямому описанию и скрыто от глаз примерно так же, как Сталин, прогуливающийся в книге по Люксембургскому саду. Абсурдность нарастает, сюжет расплывается, легкость превращается в тяжесть — тем интереснее находить нечто, угадывающееся между строк. Сколько бутафорской крови уходит на один фильм Тарантино? Как, по мнению голливудских режиссеров, одевается дьявол? Что такое формула Джудда Апатоу? Можно ли составить кинокарту нашествия зомби? Журналист Карен Кризанович не поленилась и сосчитала в популярном кинематографе все, что можно и нельзя, а потом перевела свои наблюдения в яркие графики, таблицы и карты. Читателю остается только рассматривать, удивляться и выбирать фильм на вечер. Авторский квест для киноманов прилагается.
Сколько бутафорской крови уходит на один фильм Тарантино? Как, по мнению голливудских режиссеров, одевается дьявол? Что такое формула Джудда Апатоу? Можно ли составить кинокарту нашествия зомби? Журналист Карен Кризанович не поленилась и сосчитала в популярном кинематографе все, что можно и нельзя, а потом перевела свои наблюдения в яркие графики, таблицы и карты. Читателю остается только рассматривать, удивляться и выбирать фильм на вечер. Авторский квест для киноманов прилагается.
 Обладатель уникальных воспоминаний − американский славист и основатель издательства «Ардис», в котором были выпущены на русском языке произведения Андрея Белого, Владимира Набокова, Иосифа Бродского и многих других русских писателей, лишенных возможности публиковаться на родине. Под одной обложкой находятся две книги: «Литературные вдовы России» и «Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском», их автор умер, не успев отредактировать первую и закончить вторую. Их собирает вместе теперь уже вдова мемуариста, она же пишет предисловие, тон которого причудливо перекликается с первой частью книги. «Без купюр» − воспоминания, пропитанные уважением и любовью к своим героиням и героям. Здесь нет возвышенных фраз и преклонения, только уютные бытовые детали и интересные факты из жизни известных литературных деятелей, которых автор своими рассказами сумел сделать ближе к читателю, примерно так же, как когда публиковал их тексты, что могли никогда не выйти в свет.
Обладатель уникальных воспоминаний − американский славист и основатель издательства «Ардис», в котором были выпущены на русском языке произведения Андрея Белого, Владимира Набокова, Иосифа Бродского и многих других русских писателей, лишенных возможности публиковаться на родине. Под одной обложкой находятся две книги: «Литературные вдовы России» и «Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском», их автор умер, не успев отредактировать первую и закончить вторую. Их собирает вместе теперь уже вдова мемуариста, она же пишет предисловие, тон которого причудливо перекликается с первой частью книги. «Без купюр» − воспоминания, пропитанные уважением и любовью к своим героиням и героям. Здесь нет возвышенных фраз и преклонения, только уютные бытовые детали и интересные факты из жизни известных литературных деятелей, которых автор своими рассказами сумел сделать ближе к читателю, примерно так же, как когда публиковал их тексты, что могли никогда не выйти в свет. Белорусский прозаик, лауреат «Русской премии» Саша Филипенко обрел популярность сразу после выхода своего первого произведения. Поймав читателя на крючок двумя последующими книгами, мастер ассоциативного монтажа вернулся с новым произведением — романом «Красный крест». На самом деле автор рассказывает истории обычных людей, сделав фоном для них уникальные документы Международного комитета Красного Креста — переписку гуманитарных организаций с советским правительством о судьбе военнопленных. Главная героиня − женщина, рожденная в Лондоне, а воспитанная в СССР. Она успела поработать в МИДе, а после Великой Победы пережить ад, оказавшись запертой в сталинских лагерях. Татьяна делится своей историей с соседом Сашей, молодым, но уже успевшим пережить личную трагедию. И оба они смогут найти смысл жить дальше. В небольшом по объему романе нашлось место и для стихов: своеобразная лирическая подложка и перекличка времен — от Петра Вяземского до Бориса Рыжего.
Белорусский прозаик, лауреат «Русской премии» Саша Филипенко обрел популярность сразу после выхода своего первого произведения. Поймав читателя на крючок двумя последующими книгами, мастер ассоциативного монтажа вернулся с новым произведением — романом «Красный крест». На самом деле автор рассказывает истории обычных людей, сделав фоном для них уникальные документы Международного комитета Красного Креста — переписку гуманитарных организаций с советским правительством о судьбе военнопленных. Главная героиня − женщина, рожденная в Лондоне, а воспитанная в СССР. Она успела поработать в МИДе, а после Великой Победы пережить ад, оказавшись запертой в сталинских лагерях. Татьяна делится своей историей с соседом Сашей, молодым, но уже успевшим пережить личную трагедию. И оба они смогут найти смысл жить дальше. В небольшом по объему романе нашлось место и для стихов: своеобразная лирическая подложка и перекличка времен — от Петра Вяземского до Бориса Рыжего. Том Нилон − историк и специалист по рукописным и первопечатным книгам. Стоит только открыть «Битвы за еду», и сразу становится понятно, что к еде исследователь относится с тем же трепетом, с каким до этого изучал сотни антикварных кулинарных трудов. В этой книге можно получить ответы на самые неожиданные вопросы. Например, как лимонад спас Париж от чумы? Почему разведение карпов могло бы избавить мир от Крестовых походов? И почему, чтобы создать известный рецепт чили, нужно было столкнуться с каннибализмом? Нилон демонстрирует неразрывную связь кулинарии и всемирного хода времени: гвоздичные войны, открытие континентов в поисках новых специй, спасение нескольких сотен жизней благодаря одному простому рецепту. Будучи прекрасным рассказчиком, он дает понять, что изучать историю вовсе не скучно, особенно если приправить ее коричневым соусом, который, кстати говоря, оказал влияние на поэзию Байрона. Прежде чем приниматься за чтение — проверьте, хорошо ли вас будут кормить в самолете.
Том Нилон − историк и специалист по рукописным и первопечатным книгам. Стоит только открыть «Битвы за еду», и сразу становится понятно, что к еде исследователь относится с тем же трепетом, с каким до этого изучал сотни антикварных кулинарных трудов. В этой книге можно получить ответы на самые неожиданные вопросы. Например, как лимонад спас Париж от чумы? Почему разведение карпов могло бы избавить мир от Крестовых походов? И почему, чтобы создать известный рецепт чили, нужно было столкнуться с каннибализмом? Нилон демонстрирует неразрывную связь кулинарии и всемирного хода времени: гвоздичные войны, открытие континентов в поисках новых специй, спасение нескольких сотен жизней благодаря одному простому рецепту. Будучи прекрасным рассказчиком, он дает понять, что изучать историю вовсе не скучно, особенно если приправить ее коричневым соусом, который, кстати говоря, оказал влияние на поэзию Байрона. Прежде чем приниматься за чтение — проверьте, хорошо ли вас будут кормить в самолете.