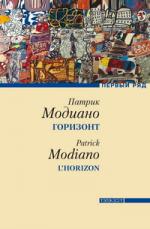- Издательство «Текст», 2012 г.
- Читатель этой интереснейшей книги получает возможность усомниться в справедливости известной фразы, вложенной А. Пушкиным в уста Моцарта: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».
Мы увидим несомненно гениального поэта, самоотверженного борца за свободу Италии и Греции — и самовлюбленного эгоиста, который растлевает юношей, соблазняет единокровную сестру, предается неудержимому распутству и пренебрегает собственной дочерью.
И все это — один человек, великий английский поэт Джордж Гордон Байрон.
Портреты, миниатюры, гравюры и рисунки той эпохи дополняют повествование и позволяют увидеть лица людей, причастных к жизни Байрона.
- Перевод с английского Ксении Атаровой
Лорд Джордж Гордон Байрон, пяти футов и восьми
с половиной дюймов ростом, был обладателем
уродливой правой ноги, каштановых волос, запоминающейся бледности, алебастровых висков, жемчужных
зубов, серых глаз, обрамленных черными
ресницами, и неотразимого обаяния, которое равно
действовало на мужчин и на женщин. Все в нем
было парадоксально: свой в обществе — и белая ворона,
красавец и урод, человек серьезный и насмешник,
транжира и — временами — скряга, обладатель
острого ума и зловредный ребенок, веривший
в чудеса. Написанное им о Роберте Бёрнсе, вполне
подошло бы и для его собственной эпитафии:
«нежность и грубость, мягкость и суровость, сентиментальность
и похотливость, низкое и божественное
— все смешалось в этом вдохновленном свыше
куске глины».
Помимо прочего, Байрон был величайшим поэтом,
но, как он сам напоминает нам, поэзия — это
особый дар, принадлежащий человеку не в большей
степени, чем пифии, покинувшей свой треножник.
Байрон без своего треножника становится
Байроном-Человеком, который, по его собственному
утверждению, не способен существовать без того
или иного предмета любви. С ранних лет он был
обуреваем страстями, они порождали волнение, меланхолию,
предчувствие утраты, уготованной ему
судьбой в «земном раю». Он любил и мужчин, и
женщин; ему нужен был объект любви, кем бы он
ни оказался. Один взгляд на красивое лицо — и Байрон
был готов «строить иль сжигать новую Трою».
Слово «байронический» вплоть до наших дней
предполагает чрезмерность, дьявольские поступки
и бунтарство в отношении и короля, и черни.
Байрон более, чем какой-либо другой стихотворец,
воплощает для нас поэта-бунтаря, одаренного воображением
и презирающего законы Творца, чье
влияние не ведает национальных, религиозных и
географических границ; его очевидные недостатки
искупаются личным обаянием и в конечном счете
героизмом, который, благодаря трагическому финалу,
вознес его судьбу и образ от частного случая
до универсального символа, от индивидуального до
архетипического.
* * *
Обстоятельства его рождения нельзя назвать благоприятными.
В январе 1788 года в Лондоне стояли
трескучие морозы; костры и «морозные ярмарки» на
Темзе растянулись на недели. Суровая погода объяснялась
извержением вулкана в Исландии. Для разрешения
от бремени двадцатидвухлетнюю Кэтрин
Гордон в сопровождении повитухи, сиделки и врача
отправили в Лондон и поместили на Холлис-стрит
в арендованной комнате над магазином. Роды были
тяжелые. Ребенок родился в рубашке, что считалось
добрым знаком и сулило удачу; однако тут же все
всполошились — оказалось, что у младенца изуродована
ступня.
Отец, «Шальной Джек» Байрон, при родах не
присутствовал — вернись он в Англию, его тут же
посадили бы в долговую тюрьму. Мистер Хэнсон,
молодой поверенный, был выписан опекунами Кэтрин
из Абердина для поддержки матери, оказавшейся
одной в Лондоне без своего беглеца-мужа.
Ногу новорожденного притянули к лангетке; нижняя
часть икры была слабая и тонкая — физический
недостаток, который принес муки, насмешки и унижения
будущему молодому лорду, вынужденному по
советам шарлатанов и врачей-ортопедов в течение
многих лет приспосабливаться к ножным протезам,
бандажам и прочим хитроумным приспособлениям.
Выдвигались различные предположения о причине
уродства, включая недостаток кислорода в легких,
но Байрон, всегда готовый осудить свою мать, полагал,
что все дело в ее тщеславии: якобы во время беременности
она носила слишком тугой корсет.
Для Байрона хромая нога станет каиновой печатью,
символом оскопления и позорным клеймом,
отравляющим жизнь.
В ту зиму все мысли обоих родителей занимали
деньги, а вернее, их отсутствие. Шальной Джек
пишет своей сестре Фрэнсис Ли из Франции и жалуется
на крайнюю нужду, а потом добавляет, что
сыну его не суждено ходить: «это невозможно, ведь
у него изуродована нога». Кэтрин же нажимала на
поверенного своих опекунов в Эдинбурге, описывая
стесненные обстоятельства, в которых пребывала, и
добавляя, что двадцати гиней, которые они послали
на роды, недостаточно и что ей нужны еще сто.
Она также надеялась, что ее беспутный и беспечный
муж вновь вернется и отец, мать и дитя смогут
отправиться куда-нибудь в Уэллс или на север Англии,
где заживут скромно и где к ним вернется то
скоротечное счастье, которое они испытали во время
помолвки в Бате всего три года назад. Но эти надежды
не оправдались. Спустя два месяца она вновь
писала поверенному в Эдинбург, уже на грани отчаяния:
«Через две недели, считая с сегодняшнего дня,
я должна буду покинуть этот дом, так что мешкать
уже нельзя, и, если до этого срока деньги не придут,
я не знаю, что мне делать и что со мною станется».
Ребенка окрестили Джорджем Гордоном в честь
его деда по матери в церкви Марилебон, интерьер
которой послужил фоном для картины Хогарта
«Путь повесы». Знатные, но живущие в отдалении
шотландские родственники — герцог Гордон и полковник
Роберт Дафф из Феттерессо, — названные
крестными отцами, на церемонии, к сожалению, отсутствовали.
Кэтрин была потомком сэра Уильяма
Гордона и Анабеллы Стюарт, дочери короля Якова I. Феодальные бароны Гордоны из Гихта держали
в страхе и зависимости весь север Шотландии — рожали
внебрачных детей, насиловали и грабили. Некоторые
закончили жизнь на эшафоте, других убили,
кое-кто сам наложил на себя руки. Дед Кэтрин
бросился в ледяную реку Айтен прямо под стенами
своего замка в Гихте, а ее отца нашли в Батском
канале. Мать Кэтрин, как и две ее сестры, умерла
молодой, и она осталась единственной наследницей
состояния, приносившего тридцать тысяч фунтов
годового дохода и состоявшего из земельных наделов,
доли в правах на ловлю лосося, принадлежащих
Абердинскому банку, и ренты от угольных шахт.
В двадцать лет, как и многие девицы, ожидавшие
наследства, она отправилась в Бат в поисках
мужа. Красотой Кэтрин не блистала. Согласно Томасу
Муру, другу Байрона и его первому, доброжелательному
биографу, она была невысокая, тучная и
«ходила вразвалочку». Довольно скромные умственные
способности не могли уравновесить внешнюю
невзрачность. Кроме того, она отличалась повышенной
впечатлительностью, и, похоже, у нее было
определенное предчувствие, ибо годом раньше в
Шотландии во время представления пьесы «Фатальный
брак», когда знаменитая актриса миссис Сиддонс
воскликнула «О, мой Байрон, мой Байрон!»,
у Кэтрин началась такая истерика, что ее пришлось
вынести из ложи. В Бате она встретила «своего Байрона», Шального Джека, недавно овдовевшего и вконец
разорившегося. До нее он увивался за Амелией,
очаровательной супругой маркиза Кармартена, которая, бросив мужа, убежала с Джеком во Францию,
где ее состояние, как и здоровье, совершенно расстроилось
из-за его мотовства и распутства.
Ухаживание Шального Джека за Кэтрин вскоре
увенчалось успехом. Шотландские родственники,
зная ее пылкий нрав и, возможно, догадываясь, что
будущий муж — прохвост и пройдоха, пытались отговорить
Кэтрин от этого брака. Но Джек вскружил
ей голову, и она осталась непреклонной.
Они обвенчались и вернулись в замок Гихт, где
Джек стал жить на широкую ногу — лошади, гончие,
игра. Размах был таков, что его даже прославили
в балладе. Не прошло и года после женитьбы, как
во время скоротечной поездки в Лондон Джека арестовали
за долги и посадили в Тюрьму королевской
скамьи; единственным человеком в Лондоне, кто
смог Джека оттуда вызволить, оказался его портной.
Вскоре, подобно многим должникам, супруги бежали
во Францию: деньги закончились, замок и почти
все владения были проданы кузену Кэтрин лорду
Абердину; молодая жена потеряла связь с родственниками
и утратила их уважение из-за столь постыдного
падения на дно общества.
Байрон почти не видел отца, однако всю жизнь
оставался пленником ярких и дерзких подвигов своих
предков с отцовской стороны; они родились с оружием
в руках и в доспехах, хвастался он, и прошли
во главе своих воинов от Европы до долин Палестины.
Живой рассказ о кораблекрушении у побережья
Арракана, описанный одним из его предков, стал
источником вдохновения поэта, когда он сочинял
Четвертую песнь «Дон Жуана». В отношении семьи
своей матери Байрон был более нелицеприятен —
он даже утверждал, будто вся плохая кровь в его жилах
унаследована от этих выблядков Банко.
Как рассказывает Томас Мур, Байрон «столкнулся
с разочарованиями на самом пороге жизни»: мать —
взбалмошная и капризная, в смягчающем влиянии
сестры ему было отказано. Мур говорит, что мальчик
был лишен утешений, которые могли бы умерить
высокий накал его чувств и «освободить их от
бурных стремнин и водопадов». Однако те же самые
«стремнины и водопады» характеризуют и предков
Байрона как по мужской, так и по женской линии.
Байроны, упомянутые в «книге судного дня», это
де Бурэны Нормандские, вассалы Вильгельма Завоевателя,
получившие титул и земли в Ноттингемшире,
Дербишире и Ланкашире за доблесть в битвах на
суше и на море. В 1573 году Джон Байрон из колуика
купил за 810 фунтов у Генриха VIII Ньюстедское
аббатство в Ноттингемшире — дом, церковь, монастырь
на трех тысячах акров земли — и лет через
шесть был посвящен в рыцари Елизаветой I. Он переделал
Ньюстед с размахом, по своему вкусу, приспособив
его для светских нужд, даже разместил там
театральную труппу. Ко времени рождения Байрона
его двоюродный дедушка, известный по прозвищу
Злобный Лорд, жил в уединении в Ньюстеде, своем
фамильном гнезде. Когда-то человек буйный, он
под гнетом жизненных невзгод стал затворником.
Построив причудливый замок и каменные укрепления
на озере, по которому плавали игрушечные корабли,
он разыгрывал там морские баталии со своим
доверенным слугой Джо Марри, присвоив тому
звание второго по старшинству командира; о том же
Марри ходил слух, что он научил говорить с собой
живущих за камином сверчков.
В 1765 году в Лондоне, в таверне на Пэлл-Мэлл
состоялась встреча ноттингемширских сквайров и
знати, многие из которых были связаны родственными
узами. Злобный Лорд и его кузен Уильям Чаворт
затеяли спор о том, как лучше подвешивать
дичь; взаимное ожесточение зашло столь далеко, что
мужчины перешли в верхнюю комнату, где при свете
единственной свечи Злобный Лорд проткнул шпагой
живот своего оппонента. После недолгого заключения
в Тауэре за убийство он был помилован его друзьями
пэрами и освобожден после уплаты скромного
штрафа. Злобный Лорд возвратился в Ньюстед
и становился все более несносным; жена покинула
его. Он обрюхатил одну из служанок, которая называла
себя леди Бетти. Его сын и наследник Уильям
должен был жениться также на наследнице, но
вместо этого сбежал со своей двоюродной сестрой.
В отместку Злобный Лорд велел вырубить большую
дубовую рощу, а две тысячи оленей, обитавших в
его лесах, были зарезаны и проданы на мэнсфилдском
рынке за гроши. В последнем приступе мстительности
он заложил свои права на угольные шахты
в Рочдейле, лишив дохода всех будущих наследников.
И все же Байрон гордился благородством своего
происхождения, забывая добавить, что многие из
его родни были скотами и проходимцами, по временам
впадавшими в помешательство и, как выразился
Томас Мур, постоянно страдавшими от «вторжения
в их жизнь финансовых затруднений».
В августе, когда Шальной Джек не вернулся, чтобы
дополнить семейный портрет, кэтрин с маленьким
сыном отправилась в почтовой карете в Абердин,
где ей вновь пришлось снимать комнаты над
магазином. Ее муж появлялся время от времени
лишь для того, чтобы тянуть деньги из женщины,
чей доход теперь уменьшился до 150 фунтов в год.
Отвратительные скандалы, которые сопровождали
его появление и которые, как утверждает Байрон,
он помнил, не оставили у ребенка, по его собственному
выражению, «вкуса к семейной жизни».
В Абердине жизнь матери и ребенка была спартанской
и довольно неспокойной. Кэтрин, склонная
к крайностям, переходила от неуемной любви к
приступам гнева; сын, с его необузданным нравом
платил ей той же монетой. Соседи рассказывали,
что миссис Байрон нередко бранила сына, называла
его «хромуша», а через пять минут утешала поцелуями.
Он со своей стороны развлекался тем, что
во время церковной службы втыкал булавки в пухлые
руки матери. Он не желал подчиняться. В шотландском
пледе сине-зеленых тонов — цвета Гордонов
— Байрон разъезжал на пони с хлыстом в
руках и, если кто-то смеялся над его хромотой, пускал
хлыст в ход и приговаривал: «Не смей так говорить!»
Шальной Джек писал из Франции сестре, которая
была и его любовницей, умоляя ее «приехать
ради Христа», так как у него нет ни крова, ни прислуги,
а питаться приходится объедками. В августе
1791 года в Валансьене он умер от чахотки, продиктовав
двум нотариусам завещание, в котором оставлял
своего трехлетнего сына ответственным за его
долги и расходы на похороны. Кэтрин ухитрилась
их оплатить, заняв более тысячи фунтов под наследство,
которое должна была получить после смерти
своей бабки. Когда она узнала о смерти мужа, ее
вопли были слышны по всей Брод-стрит: глубина
ее скорби «граничила с помрачением рассудка». В
довольно напыщенном письме, адресованном золовке,
к которой она обращалась «моя дорогая сударыня», Ктрин, описав свою безмерную печаль,
попросила прядь волос покойного мужа в память о
том времени, когда она и ее «милый Джонни» любили
друг друга.
В пять с половиной лет Байрон стал настолько неуправляем,
что Кэтрин отдала его в школу в надежде,
что там мальчика приучат к паслушанию. Отчуждение
в семье, скандалы, обращение «хромое отродье»
в устах матери, частые наказания — все это оставило
столь глубокий след в его памяти, что много лет
спустя в драме Байрона «Преображенный урод» мать
называет сына, горбуна Арнольда, демоном и ночным
кошмаром, когда тот молит ее не убивать свое
дитя из ненависти к его отталкивающей внешности.
Благодаря своему наставнику мистеру Бауэрсу
Байрон страстно полюбил историю, особенно историю
Древнего Рима; он упивался описаниями битв и
кораблекрушений, которые потом мысленно разыгрывал
с собственным участием. В шесть лет он переводил
Горация; величественные и мрачные описания
смерти, приходящей без разбора во дворцы и хижины,
возбуждали его испуганное воображение. Ему не
исполнилось и восьми, когда он прочел все книги
Ветхого Завета и нашел, что Новый Завет не сравнится
с ним в выразительности и богатстве описаний.
Когда Байрона зачислили в школу, он подсчитал,
что уже прочел четыре тысячи романов, хотя,
возможно, тут нам следует сделать скидку на мальчишеское
преувеличение. Его любимцами были Сервантес,
Смоллетт и Вальтер Скотт. Но самой сильной
привязанностью Байрона оставалась история; «История
Турции» Ноллеса заронила в нем страстное желание
еще в юности посетить Левант и определила
экзотический фон многих его восточных поэм.
В восьмилетнем возрасте в школе танцев его сразили
прелести Мэри Дафф, и, еще не умея найти
этому название, он ощутил приступы радости и смятение,
сопутствующие влюбленности. Мэри была
одним из тех хрупких, словно сотканных из цветов
радуги созданий с классически правильными чертами
лица, которые и в дальнейшем всегда пленяли
Байрона. Ее сменила Маргарет Паркер, дальняя
родственница, в которую он тоже был безумно влюблен.
Вновь и вновь искал он эту душу-близнеца в
своих кровных родственниках, стремясь ощутить ту
страсть, которая погрузила бы его в «трепетное смятение».