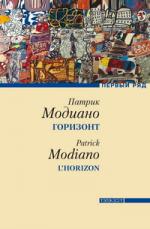Патрик Модиано. Улица Темных Лавок. — СПб.: Азбука, 2014. — 192 с.
У отечественных читателей наконец появилась возможность еще ближе познакомиться с творчеством французского писателя нобелевского лауреата 2014 года Патрика Модиано. Его роман «Улица Темных Лавок» был удостоен Гонкуровской премии и переведен на многие языки. Ги Ролан — такое имя получает пораженный потерей памяти герой от частного детектива, к которому он обратился с просьбой разыскать следы его прошлой жизни. Дальнейшее расследование Ги Ролану придется вести самому, шаг за шагом раскрывая хитросплетения своей необычной судьбы.
II
— Алло! Месье Поль Зонахидзе?
— Он самый.
— Это Ги Ролан… Помните, я…
— Как же, конечно помню! Мы можем увидеться?
— Да, конечно.
— Давайте вечером, ну, скажем, в девять, в баре на
Анатоль-де-ла-Форж… Устроит?
— Договорились.
— Жду вас. Пока.
И он тут же повесил трубку; от волнения у меня по вискам струился пот. Перед тем как набрать номер, я выпил для храбрости рюмку коньяка. Ну почему даже такой пустяк, простой звонок по телефону, стоит мне мучительных усилий и напряжения?
В баре на Анатоль-де-ла-Форж было пусто, он стоял за стойкой, но не в куртке бармена, а в пиджаке.
— Как удачно вышло, — сказал он. — По средам вечером я не работаю.
Подойдя, он положил руку мне на плечо.
— Я много думал о вас.
— Спасибо.
— У меня из головы не выходит ваша история…
Я хотел ему сказать, чтоб он так уж из-за меня не переживал, но не смог выдавить из себя ни слова.
— Теперь мне кажется, что вы иногда появлялись
с человеком, которого я часто видел в то время… Но с кем именно… — Он покачал головой. — Может, вы мне поможете?
— Нет.
— Почему?
— Я ничего не помню, мсье.
Он принял это за шутку и, словно играя со мной в какую-то игру или отгадывая загадку, сказал:
— Ладно. Сам справлюсь. Вы предоставляете мне свободу действий?
— Как скажете…
— Тогда поехали ужинать к моему другу.
Перед тем как выйти, он резким движением отключил электрический счетчик и запер на несколько оборотов массивную деревянную дверь.
Его машина стояла на другой стороне улицы. Черная, новая. Он предупредительно распахнул передо мной дверцу.
— Мой друг держит очень милый ресторанчик, как
раз на границе Виль-д’Авре с Сен-Клу.
— И мы едем в такую даль?
— Да.
С улицы Анатоль-де-ла-Форж мы свернули на аве- ню Гранд-Арме, и мне вдруг захотелось выскочить из машины. Я чувствовал, что не в силах ехать в Виль- д’Авре. Но надо было взять себя в руки.
На всем пути до Порт-Сен-Клу я пытался побороть душивший меня панический страх. Я был едва знаком с этим Зонахидзе. Может, он заманивает меня в ловушку? Но, слушая его, я понемногу успокоился. Он рассказывал мне о различных этапах своей профессиональной жизни. Сначала он работал в русских ночных клубах, потом в «Ланже» — так назывался ресторан в садах у Елисейских Полей, потом в отеле
«Кастилия», на улице Камбон, и во множестве других
заведений, пока наконец не попал в бар на Анатоль-де- ла-Форж. Но куда бы он ни переходил, он всегда рабо- тал вместе с Жаном Эртером — тем самым другом, к которому мы сейчас направлялись. Шутка ли, двадцать лет они шли как бы в одной упряжке. У Эртера тоже хорошая память. Уж вдвоем-то они разгадают мою «загадку».
Зонахидзе ехал очень осторожно, и дорога заняла
у нас почти три четверти часа.
Левую сторону этого строения, похожего на бунгало, скрывали ветви плакучей ивы. Справа росли тесно посаженные кусты. Из глубины просторного, ярко освещенного зала нам навстречу шел человек. Он протянул мне руку:
— Рад познакомиться, месье. Жан Эртер.
Потом повернулся к Зонахидзе:
— Привет, Поль.
Он привел нас в дальний конец зала. Там был накрыт столик на три персоны. В центре столика стояли цветы.
Эртер показал на одну из застекленных дверей:
— Во втором бунгало зал занят. Там свадьба.
— Вы здесь бывали? — спросил Зонахидзе.
— Нет.
— Ну-ка, Жан, покажи ему, какой вид отсюда.
Я последовал за Эртером на веранду, выходившую на пруд. Слева от меня через пруд был перекинут горбатый мостик в китайском стиле, ведущий в то, второе бунгало. За стеклянными дверьми в резком свете двигались пары. Там танцевали. До нас доносились еле уловимые звуки музыки.
— Здесь всего несколько пар, — сказал он. — Боюсь, эта свадьба закончится оргией.
Он пожал плечами.
— Вы должны приехать к нам летом. У нас ужинают на веранде. Это так приятно.
Мы вернулись в ресторан, и Эртер затворил стеклянную дверь.
— Я приготовил вам легкий ужин, без затей.
Он жестом пригласил нас к столу. Они сели рядом, напротив меня.
— Какие вина вы предпочитаете? — спросил Эртер.
— Полагаюсь на вас.
— «Шато-петрюс»?
— Отличная мысль, Жан, — сказал Зонахидзе. Подавал нам молодой человек в белой куртке. Свет бра, висевшего над столиком, бил мне прямо в глаза. Эртер и Зонахидзе оставались в тени, они наверняка посадили меня так нарочно, чтобы легче было разглядывать.
— Ну, Жан?
Эртер принялся за заливное, время от времени бросая на меня пронизывающие взгляды. У него были такие же темные волосы, как у Зонахидзе, и тоже крашеные. Сухая кожа, дряблые щеки и тонкие губы гурмана.
— Да-да… — прошептал он.
Я не переставая моргал — из-за света. Он разлил вино.
— Да-да… Мне кажется, я где-то вас видел.
— Настоящая головоломка, — произнес Зонахидзе. — И месье отказывается помочь нам…
Он, судя по всему, вошел во вкус.
— Но может, вы не хотите больше говорить об этом? Предпочитаете остаться инкогнито?
— Вовсе нет, — улыбнулся я.
Молодой человек подал телятину.
— Чем вы занимаетесь? — спросил Эртер.
— Я проработал восемь лет в частном сыскном агентстве Хютте.
Они ошарашенно уставились на меня.
— Но это наверняка не имеет отношения к моей прошлой жизни. Не принимайте этого в расчет.
— Странно, — заметил Эртер, пристально глядя на
меня, — я бы не смог сказать, сколько вам лет.
— Наверное, из-за усов.
— Не будь у вас усов, — проговорил Зонахидзе, —
мы, может, сразу бы вас узнали.
Он протянул руку и, приставив ладонь к моей верхней губе, чтобы закрыть усы, прищурился, словно портретист перед моделью.
— Чем больше я на вас гляжу, тем больше мне кажется, что вы появлялись в компании тех гуляк… — начал Эртер.
— Но когда? — спросил Зонахидзе.
— Ну… очень давно… Мы уже целую вечность не работаем в ночных заведениях, Поль…
— Думаешь, еще в эпоху «Танагры»?
Эртер не сводил с меня глаз, и взгляд его становился все более напряженным.
— Простите, — сказал он, — вы не могли бы на минутку встать?
Я повиновался. Он оглядел меня с головы до ног, потом с ног до головы.
— Да-да, вы напоминаете мне одного нашего клиента… Тот же рост… Постойте…
Он поднял руку и замер, словно пытался удержать
что-то, стремительно ускользавшее от него…
— Постойте, постойте… Все, я вспомнил, Поль… — Он торжествующе улыбнулся. — Можете сесть.
Эртер ликовал. Он не сомневался, что его сообщение поразит нас. С нарочитой церемонностью он подлил вина нам в бокалы.
— Так вот… Вы всегда приходили с одним человеком… таким же высоким… Может, даже выше… Не вспоминаешь, Поль?
— О каком времени ты говоришь? — спросил Зонахидзе.
— О временах «Танагры», само собой.
— Такой же высокий? — пробормотал себе под нос Зонахидзе. — В «Танагре»?
— Не помнишь? — Эртер пожал плечами.
Теперь пришла очередь Зонахидзе торжествующе улыбаться. Он кивнул:
— Помню…
— Ну?
— Степа.
— Правильно. Степа. Зонахидзе повернулся ко мне:
— Вы знаете Степу?
— Может быть, — сказал я осторожно.
— Ну конечно, — подтвердил Эртер, — вы часто приходили со Степой… я уверен…
— Степа…
Судя по тому, как Зонахидзе его произносил, имя было русское.
— Он всегда заказывал оркестру «Алаверды»… — сказал Эртер. — Это кавказская песня…
— Помните? — спросил Зонахидзе, изо всех сил сжимая мне запястье. — «Алаверды»…
Он начал насвистывать мелодию, и глаза его заблестели. Я тоже вдруг растрогался. Мне казалось, я узнаю эту мелодию.
Тут к Эртеру подошел официант, подававший нам
ужин, и указал в глубину зала.
Там в полумраке за столиком, подперев ладонями голову, одиноко сидела женщина в бледно-голубом платье. О чем она думала?
— Новобрачная.
— Что она тут делает? — спросил Эртер.
— Не знаю, — ответил официант.
— Ты не спросил, может, ей что-нибудь надо?
— Нет-нет, ей ничего не надо.
— А остальным?
— Они заказали еще десять бутылок «Крюга».
Эртер пожал плечами:
— Меня это не касается.
Зонахидзе, не обращая внимания на новобрачную и на их разговор, настойчиво повторял:
— Ну… Степа… Вы помните Степу?
Он был так возбужден, что в конце концов я ответил ему с загадочной улыбкой:
— Да-да. Немного.
Он обернулся к Эртеру и торжественно произнес:
— Он помнит Степу.
— Я так и думал.
Официант, не двигаясь, стоял возле Эртера, и вид у него был растерянный.
— Месье, мне кажется, они займут номера… Что делать?
— Я же говорил, эта свадьба плохо кончится… Ладно, старина, пусть себе… Нас это не касается…
Новобрачная по-прежнему неподвижно сидела за
столиком. Только руки скрестила.
— Интересно, чего она там сидит в одиночестве? — сказал Эртер. — Впрочем, нас это совершенно не касается.
И он махнул рукой, точно отгоняя муху.
— Вернемся к нашим баранам, — сказал он. — Значит, вы подтверждаете, что знали Степу?
— Да, — вздохнул я.
— Стало быть, вы принадлежали к их компании… А отличные были ребята, черт возьми, да, Поль?
— Да уж… Но все исчезли, — подавленно произнес Зонахидзе. — Вот только вы, месье… Я рад, что нам удалось вас… локализовать… Вы были в компании Степы… Поздравляю… Та эпоха куда лучше нашей… а главное — люди были иного сорта, не то что теперь…
— Главное — мы были моложе, — усмехнулся Эртер.
— Когда, в какие годы? — спросил я с бьющимся сердцем.
— Да мы все путаемся в датах, — сказал Зонахидзе. — Во всяком случае, до потопа…
Он внезапно помрачнел.
— Бывают же совпадения… — сказал Эртер.
Он встал, подошел к невысокой стойке в углу и вернулся к нам, листая газету. Потом протянул ее мне, указывая на объявление:
Дочь, сын, внуки, племянники и внучатые племянники, а также друзья — Жорж Сашер и Степа де Джагорьев — с прискорбием извещают о кончине Мари де Резан, воспоследовавшей 25 октября, на девяносто втором году жизни.
Погребение на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа после отпевания в кладбищенской часовне 4 ноября в 16 часов.
Заупокойная служба девятого дня состоится 5 ноября в русской православной церкви: Париж, XVI округ, ул. Клод-Лоррен, 19.
Специальные уведомления рассылаться не будут.
— Так, значит, Степа жив? — спросил Зонахидзе. — Вы с ним видитесь?
— Нет, — сказал я.
— И правильно. Надо жить настоящим. Ну что, Жан, коньячку напоследок?
— Сейчас.
С этой минуты они, казалось, потеряли всякий интерес к Степе и к моему прошлому. Но это уже не имело значения. Я напал хоть на какой-то след.
— Вы не дадите мне эту газету? — спросил я с деланым безразличием.
— Конечно, — сказал Эртер.
Мы чокнулись. Итак, от того, кем я был когда-то, остался лишь смутный силуэт в памяти двух барменов, да и то заслоненный наполовину фигурой некоего Степы де Джагорьева. А об этом Степе они ничего не слышали со времен «потопа», как выразился Зонахидзе.
— Значит, вы частный детектив? — спросил Эртер.
— Уже нет. Мой патрон ушел на покой.
— А вы? Продолжаете этим заниматься?
Не отвечая, я пожал плечами.
— Как бы то ни было, я рад с вами познакомиться. Приходите, вы всегда будете здесь желанным гостем.
Он уже встал и протягивал нам руку.
— Простите меня… Я вас выставляю, мне надо заняться бухгалтерией… А тут еще они… только оргий мне не хватало…
Он кивнул в сторону пруда.
— До свиданья, Жан.
— До свиданья, Поль.
Эртер задумчиво посмотрел на меня. И сказал, растягивая слова:
— Теперь, когда вы встали, у меня в памяти возникает совсем другой человек…
— Кто же? — спросил Зонахидзе.
— Один постоялец из отеля «Кастилия», который всегда возвращался поздно ночью… когда мы там работали…
Зонахидзе, в свою очередь, окинул меня взглядом.
— А что, — заметил он, — может, вы и жили когда-то в «Кастилии»…
Я растерянно улыбнулся.
Зонахидзе взял меня под руку, и мы направились к выходу. В зале стало еще темнее, чем раньше. Новобрачной в бледно-голубом платье за столиком уже не было. Когда мы вышли, с той стороны пруда до нас долетели всплески музыки и смех.
— Прошу вас, — обратился я к Зонахидзе, — если вам не трудно, напомните мне мелодию песни, которую заказывал этот, как его…
— Степа?
— Да.
Он стал насвистывать первые такты. Потом остановился.
— Вы хотите встретиться со Степой?
— Может быть.
Он с силой сжал мне руку:
— Скажите ему, что Зонахидзе часто думает о нем.
Его взгляд задержался на мне.
— Кто знает, может, Жан и прав. Вы были постояльцем отеля «Кастилия»… Постарайтесь вспомнить… отель «Кастилия», улица Камбон…
Я повернулся и открыл дверцу автомобиля. Кто-то съежился на переднем сиденье, прижавшись лбом к стеклу. Я наклонился и узнал новобрачную. Она спала, бледно-голубое платье задралось выше колен.
— Надо как-то от нее избавиться, — сказал Зонахидзе.
Я легонько потряс ее, но она не просыпалась. Тогда
я обхватил ее за талию и с трудом вытащил из машины.
— Не можем же мы бросить ее прямо на землю, — сказал я и, подняв, отнес на руках в ресторан. Голова молодой женщины откинулась на мое плечо, светлые волосы ласкали шею. Пряный аромат духов напоминал мне что-то. Но что?