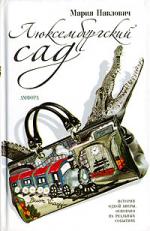- Екатеринбург: У-Фактория, 2005
- переплет, 736 с.
- ISBN 5-9709-0005-2
- 10 000 экз.
Деточка, не учите меня…
А есть собаки.
Они не умеют читать,
ничего не читали, ни одной строчки!
Ни разу по этому поводу у них
не колотилось сердце.
Книгу Александра Володина можно за одно уже название купить.
И все время на виду держать.
Не для других, для себя.
Положить на стол, около компьютера, чтобы взглядом время от времени касаться.
Другой, знаете, молитвы не понадобится.
«С любимыми не расставайтесь».
«С любимыми не расставайтесь».
«С любимыми не расставайтесь».
«С любимыми не расставайтесь».
Ни за какие деньги.
Вообще — ни за что.
А есть коровы,
только и знают, что жуют свою жвачку,
ничего не делают своими руками.
Не смогли бы, даже если бы захотели!
Пустяковый подарочек теленку —
и то не в силах.
Я бы вот как все книги разделил — приблизительно, конечно (просто для опыта, для теоретического эксперимента):
На те, в которых написано, как сделать жизнь хорошей, легкой и успешной.
И на те, в которых написано, как плохую, тяжелую и безуспешную жизнь прожить. Несмотря ни на что.
Первые пишутся дельцами от литературы — для тех, кто читать не умеет.
Вторые — романтиками для мизантропов.
(Где нормальные люди, вы спросите? А где вы их видели — нормальных?)
Первые продаются в книжных киосках, в метро, на вокзалах, вместе с иллюстрированными журналами. В книжных магазинах эти издания выставлены поближе к кассе, в ближнем зале — как будто специально для тех, кто вглубь забираться не любит.
Вторые — в книжных супермаркетах, по которым можно долго по залам ходить и книги перелистывать, и в которых никто не следит за тем, купишь ты все-таки что-нибудь или нет. Да, и еще иногда — в особых таких магазинах, где директору не все равно, что продавать. (Есть такие, только их в Питере мало).
Про первые я думать не буду, я их стараюсь не покупать.
А вот книга Володина — точно ко второй категории относится.
Да что там, есть улитки!
Им за всю свою жизнь
суждено видеть метр земли
максимум…
Я вот сегодня, с утра, думаю, что жизнь печальна. Я правда так думаю, чувствую, даже — вернее сказать — у меня уж как-то слишком многое не складывается; это мои, конечно, личные обстоятельства, но надо же так — чтоб некстати и по глупости, и не исправить уже ничего…
Это я вчера, напрасно…
Но речь-то не обо мне, о книге.
Я не буду цитировать последнюю строфу из этого стихотворения про собак, коров и улиток.
Вы посмотрите сами. (Стр. 698).
P. S. На панихиде по Володину (так называемой «гражданская панихида состоится такого-то, там-то и пр».) было немного людей. Человек триста. Я не был. Потому, что опоздал. То есть я не хотел опаздывать, я думал приехать попозже, когда уже станет спокойней — без этой трагической нервности, которая сопутствует всякому началу… Мне мнилось: «мероприятие» — панихида, и есть другие — близкие к нему люди, а я-то ведь не близок — так, некороткое знакомство (на театральной вечеринке, камерной, неофициальной — в общем, человеческой, но все уже поднабрались к концу и начали нести какую-то амбициозную чушь про суть и смысл, оправдываться и делиться планами, он стоял у стола и глазами искал не опорожненную еще бутылку,— моя жена сказала ему: «Может быть, вам уже хватит, Александр Моисеевич?» Что он ответил? «Деточка, не учите меня пить». Не грубо, скорее грустно, вежливо так),— да: и когда я подъехал к театру, уже было пустым фойе, женщина-капельдинер (билетерша, не знаю, как их теперь называть) запирала тяжелую дверь. «Все уже уехали в Комарово»,— сказала она.