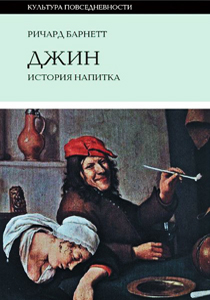- Селеста Инг. Все, чего я не сказала / Перевод с англ. А. Грызуновой. — М.: Фантом Пресс, 2017. — 320 с.
«Лидия мертва. Но они пока не знают…» Так начинается история очередной Лоры Палмер — семейная история ложных надежд и умолчания. С Лидией связывали столько надежд: она станет врачом, а не домохозяйкой, она вырвется из уютного, но душного мирка. Но когда происходит трагедия, канат рвется и все, давние и не очень, секреты оказываются выпущены на волю.
«Все, чего я не сказала» — история о лжи во спасение, которая не перестает быть ложью. О том, как травмированные родители невольно травмируют своих детей. О том, что родители способны сделать со своими детьми из любви и лучших побуждений. И о том, наконец, что порой молчание убивает.
Роман Селесты Инг — одна из самых заметных книг в англоязычной литературе последних двух лет. Дебют, который критики называют не иначе как «ошеломительный», проча молодой писательнице большое будущее.
ОДИН
Подростки, сообщают им полицейские, сплошь и рядом уходят из дома, ни слова не сказав. Очень часто девушки злятся на родителей, а те ни сном ни духом. Нэт наблюдает, как полицейские бродят по сестриной спальне. Думал, будут перьевые метелки и тальк, собаки-ищейки, лупы, но полицейские просто смотрят — на плакаты, прикнопленные над столом, туфли на полу, приоткрытый школьный рюкзак. Тот, что помоложе, кладет руку на круглую розовую крышку духов Лидии, словно младенческую головку ладонью обнимает.
Обычно такие случаи, говорит им полицейский постарше, проясняются сами собой за сутки. Девушки возвращаются.
— Это что значит? — спрашивает Нэт. — Что значит обычно? Это что значит?
Полицейский смотрит поверх бифокальных очков.
— В подавляющем большинстве случаев, — говорит он.
— Восемьдесят процентов? — спрашивает Нэт. — Девяносто? Девяносто пять?
— Нейтан, — говорит Джеймс. — Хватит. Пусть офицер Фиск работает.
Полицейский помоложе записывает в блокнот личные данные: Лидия Элизабет Ли, шестнадцать, в последний раз видели в понедельник, 2 мая, цветастое платье с воротником-хомутом, родители — Джеймс и Мэрилин Ли. Тут Фиск вглядывается в Джеймса — в голове у полицейского всплывает воспоминание.
— Ваша супруга тоже ведь как-то раз пропадала? — спрашивает он. — Я помню это дело. В шестьдесят шестом, если не ошибаюсь.
Загривок Джеймсу окатывает жаром — за ушами словно пот течет. Теперь Джеймс рад, что Мэрилин дежурит у телефона внизу.
— Это было недоразумение, — чопорно отвечает он. — Мы с женой друг друга недопоняли. Семейное дело.
— Ясно.
Фиск тоже вытаскивает блокнот, делает пометку, а Джеймс согнутым пальцем постукивает по углу дочериного стола.
— Еще что-нибудь?
В кухне полицейские листают семейные альбомы, ищут четкий портрет.
— Этот, — говорит Ханна и тычет пальцем.
Снимали прошлым Рождеством. Лидия куксилась, а Нэт пытался ее развеселить, через объектив шантажом выманить улыбку. Не вышло. В кадре Лидия одиноко сидит под елкой, спиной к стене. Само лицо ее — вызов. Взгляд в упор, ни намека на профиль — мол, чего уставился? Нэту не видно границы между голубизной радужек и чернотой зрачков, глаза Лидии — как темные дыры в глянцевой бумаге. Забирая снимки из проявки, он пожалел, что запечатлел этот миг, эту суровость. Но теперь, глядя на фотографию в руке Ханны, не может не признать, что это настоящая Лидия — во всяком случае, вчера такой и была.
— Эту не надо, — говорит Джеймс. — Лицо не то. Люди решат, что она всегда так. Возьмите другую. — Он переворачивает страницы и выковыривает последнюю фотографию: — Вот эта получше.
Ее шестнадцатый день рождения на той неделе. Лидия сидит за столом, растянула в улыбке напомаженные губы, лицо повернуто к камере, но глаза смотрят куда-то за белую рамку. Что там смешного? Нэт не помнит — то ли он ее рассмешил, то ли отец что-то сказал, то ли она смеется про себя неведомо над чем. Она похожа на рекламную фотомодель, неправдоподобно наслаждается жизнью: рот темен и резок, в тонкой руке застыло блюдце, на блюдце торт с блестящей глазурью.
Джеймс подталкивает фотографию через стол полицейским, а тот, что помоложе, прячет снимок в коричневую папку и встает.
— В самый раз, — говорит он. — Сделаем листовку — на случай, если она завтра не вернется. Не волнуйтесь. Наверняка появится.
Изо рта у него летят брызги, и Ханна пальцем стирает слюнную крапинку со страницы альбома.
— Она бы не ушла просто так, — говорит Мэрилин. — А вдруг какой-то псих? Маньяк, похищает девочек? — Ее рука тянется к утренней газете, что так и лежит посреди стола.
— Постарайтесь успокоиться, мэм, — говорит Фиск. — Такого почти не случается. В подавляющем большинстве случаев… — Он косится на Нэта, прокашливается. — Девушки почти всегда возвращаются домой.
Полицейские уходят, а Мэрилин и Джеймс склоняются над листком бумаги. Полицейские посоветовали обзвонить друзей Лидии — вдруг кто-то знает, куда она подевалась. Вдвоем они составляют список. Пэм Сондерс. Дженн Питтмен. Шелли Брайерли. Нэт не вмешивается, хотя с этими девочками Лидия никогда не дружила. Они учатся с ней с детского сада, порой звонят, пронзительно хихикают, и Лидия кричит в трубку: «Я взяла». Иногда по вечерам она часами сидит в окне на лестничной площадке, с телефоном на коленях, зажав трубку плечом. Когда появляются родители, переходит на заговорщицкий шепот и накручивает провод на мизинец, пока они не уйдут. Потому-то они сейчас и пишут эти имена так уверенно.
Однако Нэт видит Лидию в школе — как она сидит в столовой и молчит, пока другие щебечут; как она тихо убирает тетрадь в рюкзак, едва у нее спишут домашку. После школы она идет к автобусу одна и молча подсаживается к Нэту. Как-то раз он не положил трубку, когда Лидия уже взяла, и никаких сплетен не узнал, лишь сестрин голос старательно перечислял задания — прочесть акт I «Отелло», решить нечетные задачи в разделе 5, — а потом в трубке щелкнуло и наступила тишина. Назавтра, когда Лидия висела на телефоне, Нэт взял другую трубку в кухне и услышал лишь тихий гудок. У Лидии никогда не было друзей, но родители не в курсе. Если отец интересуется: «Как дела у Пэм?» — Лидия отвечает: «Ой, прекрасно, в чирлидеры взяли», и Нэт не спорит. Поразительно, как невозмутимо ее лицо, как она врет и не краснеет.
Да только сейчас об этом не расскажешь. Нэт смотрит, как мать пишет имена на обороте старого чека, и когда она спрашивает: — Больше никого не знаете? — Нэт думает про Джека и отвечает «нет».
Всю весну Лидия увивалась за Джеком — или наоборот. Почти каждый день каталась на его «жуке», еле успевала домой к ужину, прикидывалась, будто прямиком из школы пришла. Очень внезапно случилась эта их дружба — никак иначе Нэт ее называть не желает. Джек с матерью с первого класса жили на углу, и когда-то Нэту казалось, что они с Джеком могли бы подружиться. Не сложилось. Джек унизил его перед другими ребятами, посмеялся, когда мать Нэта пропала и Нэту казалось, что она больше не вернется. Кто бы говорил, размышляет сейчас Нэт, — Джек вообще безотцовщина. Когда Вулффы только приехали, все соседи шушукались: мол, Дженет Вулфф разведенка, в больнице ночами пропадает, а Джек растет что трава в поле. В то лето шушукались и о родителях Нэта — но его мать вернулась. А Джекова как была разведенкой, так и осталась. И Джек по-прежнему растет что трава в поле.
А теперь-то что? Вот только на прошлой неделе Нэт ездил по делам, а на обратном пути видел, как Джек выгуливает эту свою псину. Нэт обогнул озеро, уже сворачивал в тупик и тут заметил Джека на тропинке у берега. Его собака скакала впереди к дереву. Долговязый Джек был в застиранной футболке, нечесаные песочные кудри стояли дыбом. Когда Нэт проезжал, Джек, зажав сигарету в углу рта, еле-еле ему кивнул. Пожалуй, не столько поздоровался, сколько узнал. Псина посмотрела Нэту в глаза и непринужденно задрала лапу. И с этим вот Джеком Лидия якшалась всю весну.
Если сейчас об этом заикнуться, родители спросят: «А почему мы впервые об этом слышим?» И придется объяснять, что всякий раз, говоря: «Лидия у подруги, занимается» или «Лидия осталась после уроков подтянуть математику», он имел в виду: «Лидия с Джеком», или «Она катается с Джеком на машине», или «Она с Джеком невесть где». Хуже того: если помянуть Джека, придется признать то, чего признавать неохота. Что Джек вообще есть в жизни Лидии — и уже который месяц.
Мэрилин сидит против Нэта за столом, ищет телефоны в справочнике и читает вслух. Номера набирает Джеймс — размеренно, не спеша крутит диск одним пальцем. С каждым звонком голос у него все растеряннее. Нет? Она ничего не говорила? У нее не было планов? Ага. Я понял. Ну что ж. Спасибо. Нэт разглядывает волокнистый деревянный стол, открытый фотоальбом. От фотографии в альбоме осталась дыра — полиэтиленовое окошко с белой подкладкой. Мать ведет рукой по колонке телефонных номеров, пачкает палец серым. Ханна под столом вытягивает ногу и ступней касается ступни Нэта. Утешает. Нэт не поднимает головы. Закрывает альбом, а мать вычеркивает из списка очередное имя.
Позвонив по последнему номеру, Джеймс кладет трубку. Забирает у Мэрилин листок, вычеркивает Карен Адлер, и «К» распадается двумя аккуратными клиньями. Имя по-прежнему разборчиво. Карен Адлер. Мэрилин не отпускала Лидию гулять по выходным, пока Лидия не доделает уроки, — а к тому времени от воскресенья обычно оставалась всего половина. И тогда Лидия порой встречалась с подругами в торговом центре, упрашивала отца ее подвезти: «Мы в кино пойдем. На „Энни Холл“. Карен хочет посмотреть, прямо умирает». Джеймс вынимал из бумажника десятку, толкал по столу, подразумевая: давай, иди, повеселись. А сейчас вспоминает, что никогда не видел билетных корешков, что воскресными вечерами Лидия всегда ждала его одна. Столько раз он останавливался под лестницей и улыбался, слушая полразговора, долетавшие с площадки: «Ой, вот это точно. А она что?» Но, как сейчас выяснилось, Лидия годами не звонила ни Карен, ни Пэм, ни Дженн. Джеймс вспоминает долгие вечера, когда они думали, что Лидия осталась в школе после уроков. Зияющие провалы — бог знает, где она была, что делала. Оказывается, пока размышлял, заштриховал Карен Адлер до полного небытия.
Он снова крутит телефонный диск:
— Офицера Фиска, будьте любезны. Да, это Джеймс Ли. Мы обзвонили всех, кто с Лидией… — Он осекается. — Всех ее школьных знакомых. Нет, ничего. Хорошо, спасибо. Да, непременно… Пошлют кого-то ее искать, — поясняет он, вешая трубку. — Сказали телефон не занимать — может, она позвонит.
Приходит и проходит час ужина, но еду невозможно даже вообразить. Еда — это для персонажей в кино, это так прелестно, так декоративно — поднести ко рту вилку. Какая-то бессмысленная церемония. Телефон молчит. В полночь Джеймс отправляет детей спать, они не спорят, но он стоит под лестницей, пока оба не разойдутся по комнатам.
— Спорим на двадцать баксов, что ночью Лидия позвонит, — бодро говорит он, слегка переигрывая. Никто не смеется. Телефон по-прежнему помалкивает.
Нэт уходит к себе и закрывает дверь. Его мучают сомнения. Охота отыскать Джека — вот кто наверняка знает, где Лидия. Но родители не спят, из дома не выберешься. Мать и так на пределе — вздрагивает всякий раз, когда врубается и вырубается холодильник. К тому же из окна видно, что у Вулффов темно. И пусто на дорожке, где обычно стоит серо-стальной «фольксваген-жук». Джекова мать, как водится, забыла включить свет на крыльце.
Сосредоточимся: странная была Лидия вчера? Нэт отсутствовал четыре дня — впервые в жизни четыре дня провел сам по себе, в Гарварде — в Гарварде! — куда уедет осенью. В последние дни перед подготовкой к экзаменам («Две недели зубрим и балдеем», — пояснил Энди, у которого Нэт гостил) университет бурлил почти празднично. Все выходные Нэт ошалело бродил по кампусу и глядел во все глаза: каннелюры колонн громадной библиотеки, корпуса красного кирпича над сочной зеленью газонов, сладкий запах мела в аудиториях. Все куда-то спешили — целеустремленно, будто знали, что им уготовано достичь величия. В пятницу Нэт заночевал в спальнике у Энди на полу и проснулся в час ночи, когда Уэс, сосед Энди, явился с подругой. Вспыхнул свет, и Нэт замер, таращась на дверь, где в ослепительной дымке проступали, рука в руке, высокий бородатый парень и девушка. Длинные рыжие волосы обнимали ее лицо волнами.
— Извиняюсь, — сказал Уэс, щелкнул выключателем, и Нэт услышал, как они на цыпочках крадутся через общую гостиную к Уэсу в спальню. Нэт не закрывал глаз, вновь привыкал к темноте и думал: «Вот, значит, каково в колледже».
Теперь Нэт вспоминает вчерашний вечер. Домой он приехал как раз к ужину. Лидия носа не казала из комнаты, и за ужином Нэт спросил, что нового было за эти дни. Она пожала плечами, пялясь в тарелку, на него толком и не взглянув, и Нэт решил, это означает ничего нового. Она хоть поздоровалась? Он не помнит.
У себя на чердаке Ханна свешивается с постели и из-под кровати выуживает книжку. Книга вообще-то Лидии — «Шум и ярость». Курс английского для старших классов. Не для пятиклассников. Ханна слямзила ее из спальни Лидии с месяц назад, а Лидия и не заметила. Две недели Ханна сквозь эту книгу продирается, каждую ночь по чуть-чуть, смакует слова, точно вишневую карамельку за щекой. Но сегодня книга какая-то не такая. Лишь вернувшись на страницу, где остановилась вчера, Ханна понимает. Прежде Лидия тут и там подчеркивала слова, корябала пометки на уроках. «Порядок против хаоса». «Упадок ценностей аристократического Юга». А отсюда и дальше книга нетронута. Ханна перелистывает до конца: ни пометок, ни каракулей, ни малейшая синева не разбавляет черноту. Ханна добралась туда, где остановилась Лидия, и читать дальше что-то не тянет.
Вчера ночью, лежа без сна, Ханна смотрела, как воздушным шаром по небу плавно дрейфует луна. Не видно, как движется, но если отвернуться, а потом посмотреть, заметно, что сдвинулась. Скоро, думала Ханна, луна наколется на силуэт большой ели на заднем дворе. Ждать пришлось долго. Уже почти уснув, Ханна услышала тихий стук и сначала подумала, что луна по правде наткнулась на дерево. Выглянула, но луна исчезла, почти спряталась за тучку. Светящийся будильник показывал два часа ночи.
Ханна тихонько полежала, даже пальцами на ногах не шевеля, послушала. Кажется, стукнула парадная дверь. Ее заклинивает — надо бедром пихнуть, чтоб опустилась защелка. «Воры!» — подумала Ханна. Парадную лужайку перебежала одинокая фигура. Никакие не воры — просто в черноте убегает худая тень. Лидия? В голове вспыхнула картинка: жизнь без сестры. Ханне достанется лучший стул за столом, откуда видны сиреневые заросли во дворе, и большая спальня внизу, по соседству с остальными. За ужином ей первой будут накладывать картошку. С ней будет шутить отец, секретничать брат, мама подарит ей самые ласковые свои улыбки. Потом силуэт выбежал на улицу, исчез, и Ханна уже сомневалась, что и впрямь его видела.
А теперь она смотрит в путаную книжку. Это Лидия была, теперь-то Ханна уверена. Рассказать кому? Мама расстроится, что Ханна вот так взяла и упустила ее любимицу Лидию. А Нэт? Ханна вспоминает, как Нэт сегодня весь вечер супил брови, грыз губу прямо до крови и сам не замечал. Он тоже рассердится. Скажет: «А что ж ты ее не догнала, не привела назад?» Но я же не знала, куда она идет, шепчет Ханна в темноту. Я не знала, что она по правде уходит.




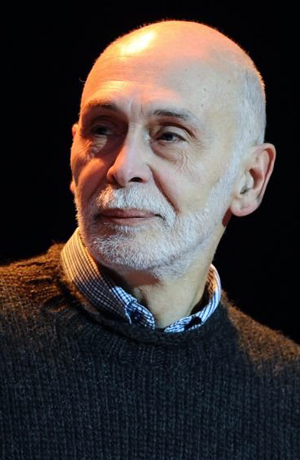

 Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма —
Как скроена книга — от этого зависит немало. На этот раз Антон Долин представил своеобразный творческий микс, в котором приняли участие даже поклонники Джима Джармуша. Фильмы анализируются в обратном хронологическом порядке. Автор начинает анализ с последнего фильма —  Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме.
Все, что написано Туве Янссон для детей и взрослых или взрослых-детей, волшебно в своей простоте и гениально. Новелла «Видеомания», вошедшая в сборник «Честная игра», покажется очень близкой тем, кто двадцать-тридцать лет назад собирал фильмотеку, сортировал ее по странам и режиссерам, отводил для нее специальное место в своей комнате и жизни. Кто накрывал экран телевизора салфеткой и отправлялся спать с мыслями не о прошедшем дне, а о только что просмотренном кинофильме. Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией.
Тонкая книга в аскетичной обложке с названием синего цвета и синими размытыми на фото огоньками заблаговременно отсылает к одному из главных фильмов Кесьлевского «Три цвета: Синий», о котором, в том числе, будет рассказано в отдельной главе. Режиссер посвятит читателя в съемочный процесс своих кинокартин и поведает истории, связанные с ними, начиная с первой (документальной) «Из города Лодзь» и заканчивая последней — знаменитой «цветной» трилогией. Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.
Вернер Херцог — фундаментальный немецкий режиссер, Робинзон в кинематографе, бесстрашный авантюрист и выдумщик. Человек, который впервые попробовал бананы в двенадцать лет, в семнадцать — поговорил по телефону, а в девятнадцать — снял свой первый фильм. Конечно, многие, услышав его имя, говорят: «А, это режиссер, перетащивший пароход через гору в джунглях и подвергший своих актеров гипнозу?..» Конкистадоры, романтики, пилигримы, одержимые безумцы — герои его фильмов — не более выдуманы, чем все его истории о путешествиях и приключениях, отображенные в книге Пола Кронина. Она побуждает к действию — будь то изучение языков или путешествие пешком до соседнего города — и, как минимум, к просмотру большей части фильмов Херцога. Фильмов, в которых грань между документальностью и художественностью почти размыта, а правда и вымысел чудесным образом соединяются в одно.