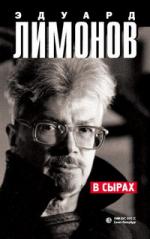- Издательство «Текст», 2012 г.
- Роман современной швейцарской писательницы Ноэль Реваз — о театре и о любви. О любви на сцене и вне ее.
Героиня книги Эфина — страстная поклонница знаменитого театрального актера Т. Когда-то давно он написал ей письмо, оба о нем забыли, а потом вдруг вспомнили, вступили в переписку, стали встречаться. Любопытство влекло их друг к другу, они уставали от общения, злились, радовались, горевали. Так прошла целая жизнь…
- Перевод с французского Елены Клоковой
- Купить книгу на Озоне
Однажды вечером, в четверг, молодая женщина
отправляется в театр. Два человека, два актера
попеременно появляются на сцене. Один —
пузатый, он мошенник. Другой — утонченный
и безмятежный, именитый гражданин. После
спектакля на поклон выходит только один исполнитель,
и она понимает: он играл обе роли.
Он стоит у рампы, молодая женщина сидит в
третьем ряду. Она может пересчитать волоски
на его голове и разглядеть припудренные поры
на коже лица. Она может счесть, что улыбается
он именно ей и смотрит не поверх прожекторов,
а ищет взглядом ее. Кто этот превосходный
актер? Отовсюду звучит имя: Т. Ну конечно,
этот человек — Т. Она не узнает лица. Фигура
тоже совершенно другая. Но фамилия знакомая.
Она уже встречала ее. Было одно письмо.
Она не знает, когда его написали и зачем отослали.
Несколько лет назад этот человек был
молод и темноволос, теперь он поседел и отрастил
животик. Молодой мужчина крепкого
телосложения. Листок бумаги, исписанный его
почерком, он держал его в руках, думал о содержании
письма. Молодая женщина отправляется
в чулан, где хранятся коробки: она не
помнит, что сделала с письмом Т., выбросила
или положила к другим бумагам. Она меняла
квартиры, уезжала, у нее были мужчины. Письмо
может быть в ящике, а ящик — на чердаке,
она поставила его туда, когда начала жить своим
домом. Оно могло быть немым свидетелем
сцен расставания. Или распадаться на атомы,
когда готовился ужин, молчал телефон или
когда хозяйка лежала на кровати или диванчике,
ни о чем не думая.
Актер вышел в фойе. Она не узнает черт его
лица, но это Т., так, во всяком случае, говорят
окружающие, и в программке тоже стоит
это имя. Толпа несет ее к двери, нужно пройти
мимо него. Т. замечает ее, здоровается, теперь
она может поздравить его с успехом. Она отходит
с мыслью о письме и не знает, ответила
тогда или нет. Вернувшись, кладет на бумагу
слова, которые он никогда не прочтет.
Т., пишет она — не «дорогой Т.», потому
что он ей вовсе не дорог, это-то и непонятно,
потому-то она и пишет. Т., пишет она, сегодня
вечером я видела вас на сцене и хочу повторить,
что была потрясена вашей игрой. Не
знаю, хороша была пьеса или нет. Постановка
недурна, оформление спектакля мне понравилось.
Но тонкость вашей игры унесла меня далеко
отсюда. Я побывала в местах, о которых
почти забыла. Пересмотрела долгие часы фильмов
по телевизору. Посетила разные тюрьмы в
Америке, вспомнила лица людей, встреченных
в лифте. Я не упустила ни одного мгновения
вашей игры и оказалась вне времени и пространства.
Вы стали разными людьми. Благодаря
вам я на целый час забыла, что мое имя —
Эфина, что мне скоро исполнится тридцать
два, что я живу в этом городе, в трехкомнатной
квартире окнами на восток, с двумя паучками.
Соседи мои глуховаты и с утра до вечера смотрят
телевизор. По вторникам я выношу мусор.
Люблю поесть с друзьями. Никогда не задергиваю
шторы. Вот что я хотела вам сказать: возможно,
в прошлом я не получила вашего письма.
Не знаю, что тогда подумала, и не знаю,
что произошло. Меня мучит вопрос, получили
вы мой ответ или нет. Помню, как удивлялась
вашему письму, конверт я точно вскрывала, но
смысла послания не уловила. И последнее: не
хочу, чтобы вы восприняли это письмо как еще
одно в ряду множества любовных записок. О
любви между нами речи нет. Наверное, нечто
иное, о чем мы можем поговорить или промолчать.
Лично я предпочту оставить все как
есть. Не исключено, что мы еще встретимся,
в жизни все бывает. Надеюсь, вам больше не
придется выслушивать мои комплименты, глядя
в пол. Ваша улыбка рождает мысли, которые
я не могу выразить словами, но они выводят
меня из себя. Покинув театр, я была вынуждена
остановиться и прислониться к стене, так
что какой-то таксист спросил, не нужна ли мне
помощь. Один мужчина предложил мне купить
дозу. Другой спросил, сколько я беру. Соседи
наблюдали, как я поднимаюсь по лестнице,
они видели, в каком я состоянии, и решили,
что вскорости случится нечто серьезное или
неприятное.
Она дописала письмо и тщательно заклеила
конверт, проверив уголки. Она не знает адреса,
но его можно найти в телефонном справочнике.
Она кладет конверт на стол, где он пролежит
семнадцать месяцев. Потом она сменит
квартиру и при переезде выбросит его.
Вечером после спектакля Т. рассказывает подруге
о встрече с молодой женщиной, которая
когда-то не ответила на его письмо. Или ответила
— у него в голове все путается, он ни черта
не помнит, так что если ответ и был, то давно
испарился. Женщина не слушает. Письмо
было написано в то время, когда они с Т. еще
не общались. В последние дни Т. раздумывает,
не взяться ли за перо. Он не знает ту женщину,
она неинтересная и, скорее, несимпатичная.
Он все-таки пишет письмо.
Мадам, начинает он, но женщина еще молода,
возможно, моложе него, и он меняет «мадам
» на имя, тон выходит слишком фамильярным,
он не знает, что делать, и решает написать
«дорогая Эфина», хотя она ему вовсе не дорога,
да и писать не хочется. Нужно прояснить одну
вещь, и все будет кончено.
Дорогая Эфина, пишет он, мне кажется, нам
следует решить один вопрос, который много
лет оставался невыясненным, хотя мы считали
его закрытым. Прошлым вечером, в театральном
буфете, мы оба это поняли. Вы не станете
отрицать, я почувствовал это по вашему голосу,
по тому, как вы говорили обо всем и ни о
чем. Я был принужден смотреть в пол, чтобы не
выдать смешанных чувств. Я испугался, что вы
заметите, поймете — это зрелище не для таких
женщин, как вы. Такие, как вы, очень хрупки.
Такие, как вы, легко и быстро влюбляются,
а у меня, как вам известно, есть подруга, трое
сыновей, дочь, и я не имею ни малейшего намерения
все начинать сызнова, а главное — и
вы это знаете, — любовь мало меня занимает.
Для вас, как и для меня, не тайна, что мужчин и
женщин способна соединить не только любовь,
спектр того, что может нас связать, необычайно
широк. Так не позволим же романам и фильмам
опростить наши чувства. Вернусь теперь к
пресловутому письму. Да, очевидно, я написал.
Много лет назад я только о том и думал. Помню
место. Помню, какое было освещение и дешевый
стол из ДСП, за которым сидел. День
был ясный, хотя уже наступила осень. Точно
помню, куда ходил, что делал и какая прогулка
неожиданно побудила меня сесть за письменный
стол. В некоторых забавных оборотах,
которые я употребил, повинен пруд. Птицам
и листве деревьев я тоже обязан некоторыми
допущенными в письме глупостями. Но я не
хочу возвращаться к тому, что лежало в подоснове.
Не буду раскрывать значения слов и
смысла сказанного. Не стоит больше об этом
думать. От вас мне тоже ничего не нужно, я
хочу лишь смотреть — как в театре — на вашу
молодую, но уже в морщинках кожу, ваш испуганный
взгляд и круги под глазами, так неумело
загримированные тональным кремом. Ваши
щеки сбивают с толку, волосы плохо убраны, и
вашей любовной жизни отпущено от силы лет
десять—пятнадцать.
Т. на мгновение поднимает голову. Спрашивает
себя, стоит ли продолжать или пора
остановиться. Он хочет порвать письмо, но не
делает этого и забывает листок на кухонном
столе. Утром, за завтраком, его подруга пробегает
текст глазами. Каждый день она читает Т.
отдельные фразы. Называет письмо романом с
продолжением, и они смеются.
Эфина переехала в другой квартал. Если в голову
приходит мысль о Т., она гонит ее прочь, Т.
ничего для нее не значит, совсем ничего. Жизнь
идет своим чередом, внутри Эфины растет маленький
лягушонок, у нее есть мужчина. Солнце
заливает комнату — она выходит окнами на
южную сторону. Эфина идет на работу. Нет,
места для Т. в ее жизни нет. Т. может занимать
одно-единственное место — в театральных программках.
Три-четыре раза в год его имя вдруг
всплывает из небытия, как гриб из-под земли, и
появляется в числе исполнителей. Эфина тщательно
изучает программки, выискивая, где и в
какие дни играет Т. Иногда ей в почтовый ящик
бросают пригласительные билеты с силуэтом Т.
Снимки сделаны во время спектакля, и на них
мало что можно разглядеть, но Эфина узнала
бы его и по спине. Даже по ноге. Она думает,
что опознала бы его по пальцу, но это вряд ли,
кстати, другие женщины в этом городе великолепно
знакомы с его пальцами. Иногда Эфина
встречает в программках фамилии хорошеньких
актрис. Происходящее в гримерках вызывает у
нее презрение. Кто здесь только ни встречается
и чем только ни занимается! Гримерные
подобны пробиркам, в которых идет процесс
брожения. Бульварная газетенка напечатала
на последней странице фотографию актрисы в
одних трусиках, сделанную… на спектакле. Актриса
нежилась в объятиях Т. В рецензии упоминались
некие «смелые» сцены. Скандальные,
сильные сцены. Не для детей. Т. играет в этих
сценах обнаженным. Актриса, кажется, тоже.
Пусть играет, Эфину это раздражает только потому,
что… неизвестно почему.
Т. в это время написал еще письма. Они спрятаны
в шкафу. В коробке с туфлями, которые
Т. не носит, потому, что они ему жмут. Вот под
ними письма и лежат. С сегодняшнего дня Т.
без работы. Он достает коробку и вытаскивает
из-под туфель письмо.
Дорогая Эфина, читает он, Я должен взять
лист бумаги и снова написать на нем эти слова.
Я думал, все сказано, но теперь понимаю, что
за этим письмом, написанным тебе уже и не
помню, сколько лет и поколений назад, должно
последовать множество других страниц. Серьезных,
которые сами собой не распадутся на
слова. Весомых и притягательных. Создающих
заслоны. Я недалек от мысли, что эти страницы
подобны монолитам, которые не разрушить
швейной иголкой. Такие приходится распиливать
пилой. Чтобы с ними справиться, понадобилось
бы возвести леса и приложить больше
усилий, чем ты можешь себе представить. Не
знаю, где ты живешь, и не пытаюсь узнать, потому
что ты ничего не значишь в моей жизни.
Моя жизнь полна, как яйцо. Моя жизнь бьет
через край. У меня на иждивении четверо детей,
требовательная подруга, другие женщины —
их нужно удовлетворять, а я ничего о них не
помню, не говоря уж о счете в банке, который
требуется пополнять каждый месяц. В моей
жизни не найдется даже крошечного зазора для
тебя, Эфина, хотя ты гибкая, талия у тебя тонкая,
а руки могут сложиться в шестнадцать раз.
Я пишу это, хотя ни в чем, конечно, не уверен,
просто думаю о твоем бесцветном имени
и сочиняю наобум. Забавно, что мы не можем
поговорить и я снова вынужден писать тебе.
Медленный и старомодный способ общения.
Нужно уничтожить всю бумагу. Приходится
временно складировать письма, впрочем, зачем
их хранить, если нет времени перечесть? Я все
время возвращаюсь к тому первому письму. Однажды
я был в театре, и в голове у меня вдруг
все прояснилось — прямо у тебя на глазах. Что
такого настоятельно важного произошло, что
заставило меня написать тебе? Я просил тебя
о милости, я умолял, но ты не вняла и оттолкнула
меня. Глина, из которой нас сотворили,
должно быть, залепила тебе веки. Но теперь ты
меня видишь. Да, я меняю обличье, но это мое
ремесло, сама знаешь. У меня черные блестящие
глаза. Я меняю их по собственному усмотрению,
они могут быть круглыми, маленькими,
узкими. Бывали мои глаза и голубыми. Я
могу, если захочу, выглядеть коренастым или
худосочным, а в обыденной жизни я крупный
крепкий мужчина. У меня есть склонность к
полноте, и я борюсь с ней, гуляя по парку. У
меня густые коротко стриженные волосы. По
утрам я брею щеки. Не ношу очков. Не курю,
пью мало. Хожу бесшумно. Размер обуви у
меня — 42,5. Мой рот умеет принимать любую
форму, мои губы меняют цвет, как хамелеоны.
Говорят, что я наделен неким магнетизмом.
Все это для того, чтобы ты понимала, что я существую
и почти не изменился.
Т. переворачивает страницу и выбирает другой
отрывок: само собой разумеется, я говорю
сегодня о давно пережитом. Повторюсь: сегодня
ты близка мне не больше женщин, встреченных
на улице, если окликнуть: «Эфина» —
пятьдесят обернутся.
Прошли месяцы, и из живота Эфины на свет
появился младенчик. Эфина очень занята. Нет,
она не думает о Т. Она не думает о Т., когда
кормит грудью малыша. Она не думает о Т.,
когда возит своего первенца на прогулку в колясочке.
Она не думает о Т. Она думает только
о ребенке. Она купает и пеленает свое чадо.
Она делает ему морковный сок. Она думает
только о сыне и о том, как выглядели бы дети,
рожденные от Т. Она спрашивает себя, мог бы
отрастивший брюхо Т. сделать ребенка еще
красивее, с еще большим количеством ямочек,
сладкого, как мед, не плачущего по ночам и
чуть реже писающегося. Эфина воображает, что
дети от Т. — те же леденцы, из которых потом
получаются маленькие мальчики. Крикливые
подростки. Плечистые мужчины, как сам Т.
Почему Т. облысел? Он и вправду лысый или
бреет голову для театра? У него действительно
толстый живот или режиссер заставил его отъ-
едаться на пирожных, чтобы соответствовать
облику каких-то литературных персонажей?
Эфина берет собаку масти «засахаренный
каштан». Они гуляют в лесу. Поначалу пес ведет
себя буйно, но постепенно начинает меняться.
Взрослеет. Наблюдать за ним — сплошное удовольствие.
Его спина отливает серебром. У него
изящная повадка, когда он бежит, все четыре
лапы касаются земли мягко и пружинисто. Пес
забегает в кусты и тут же возвращается. Шерсть
у него чистая и блестящая. Он легко трусит
впереди Эфины. Поворачивает голову, поднимает
морду и смотрит на хозяйку.
Эфина переезжает на другой конец города.
Она ставит на стол прибор — для себя. Не хочет,
чтобы мужчина усложнял ее жизнь своей
ленью. Она предпочитает играть соло. Ребенок,
само собой, не в счет. Эфина ходит по театрам
и, прежде чем взять билет, тщательно проверяет состав исполнителей: если Т. участвует, она
игнорирует спектакль. Это досадная помеха,
поскольку Т. играет много и Эфина пропускает
кучу пьес. Т. сейчас в том возрасте и физической
форме, которые режиссеры считают
оптимальными. Иногда Эфина вдруг пугается,
что может встретить его на улице. Это вполне
вероятно: город, конечно, большой, но встречи
случаются. Впрочем, Эфина не узнает Т.,
даже если столкнется с ним. Она разглядывает
мужчин, когда едет в автобусе. Мужчины тоже
не нее смотрят и чувствуют себя обязанными
спросить: «Мы, случайно, не знакомы?».
Через какое-то время подруги приглашают Эфину
в театр. Она не разглядывает программку, но,
словно предчувствуя неизбежное, от волнения
щебечет в машине, как первопричастница. И Т.
выходит на сцену. Он строен, у него густая шевелюра
— или это парик, и не видно живота, —
может, он носит корсет. Эфина не слушает. Она
сосредотачивается на дыхании Т. На том, как
смыкаются губы, как дергается кадык и шевелятся
толстые проворные пальцы. Она спрашивает
себя, быстро ли у него отрастает щетина
и в котором часу он бреется. Есть ли у него
электрическая бритва? Какого цвета его ванная?
Спектакль заканчивается, и подруги идут
в бар выпить. Актеры по одному, как крысы,
покидают свои гримерки. Эфина могла бы уйти.
Поехать на автобусе. Сослаться на мигрень, на
боли в желудке. Но ей хочется увидеть Т. Она
говорит себе, что по прошествии стольких лет,
множества лет, череды лет можно себе позволить
взглянуть на Т. Он ее даже не помнит, а
она им не интересуется. После всех этих лет.