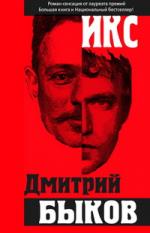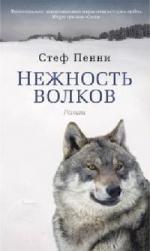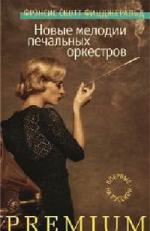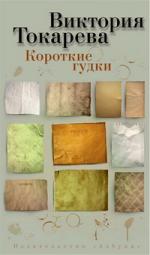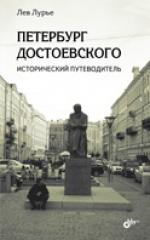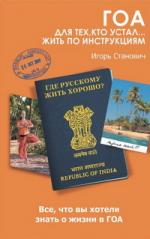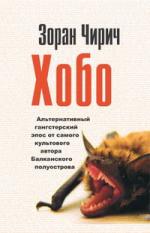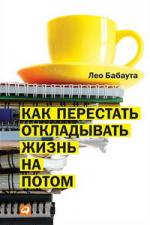- Издательство «Эксмо», 2012 г.
- История прокатывается по живым людям, как каток. Как огромное страшное колесо, кого-то оставляя целым, а кого-то разрывая надвое. Человек «до» слома эпохи и он же «после» слома — один ли это человек, или рождается непредсказуемый кентавр, способный на геройство и подлость одновременно?
В новом романе Дмитрия Быкова «ИКС» рассказана потрясающая история великого советского писателя, потерявшего половину своей личности на пути к славе. Быков вскрывает поистине дантовские круги ада, спрятанные в одной душе, и даже находит волшебную формулу бессмертия… - Купить электронную книгу на Литресе
12 октября 1925 года, Ростов
Рукопись пришла на его имя в газету «Молот», где Шелестов печатал фельетоны и
главы будущего «Марева степного», с запиской: так и так, мне кажется, что вы сможете
лучше других закончить эту повесть. Почерк был незнакомый — что в записке, что в
повести. И Шелестов кинул бы рукопись в корзину, как много раз уже кидал, — ему писали
почему-то главным образом сумасшедшие, словно чуяли тайное родство. Он знал за собой
странности — удивительно было, откуда они-то знали? Разве в запятых, в строе речи что-
нибудь прорывалось… Но первую страницу добросовестно прочел — может, из тайной
надежды, знакомой каждому автору, что вот явился второй. Тяжело быть единственным
гением, шутил про него Пименов, главред «Молота», — а что ж, и вправду тяжело. За
первой прочел вторую, а там и всю главу, и так зачитался, что не сдал в срок фельетона
про комсомольца Бугрова, которого в Буканове приняли за ревизора.
Не сказать, чтоб было очень хорошо. Не Лермонтов, которого Шелестов в тайной
внутренней иерархии ставил повыше Пырялова, но что-то было в этих «Порогах», чего
ему именно сейчас и не хватало. Словно знал, но забыл, умел, но утратил. То ли в ритме
было дело, плавном, нескором, точном, то ли в словесном подборе — Шелестов впервые
тут понял, что такое это самое слово на месте, про которое им все уши прожужжал на
рабфаке длинноносый, нудный Баренцев. Как на крючке, повисала на конце каждой главы
единственно точная фраза. Сложное было чувство: Шелестов словно шел по канату, и
каждый шажок грозил оборваться в пропасть — вот не то скажет, слишком общо или мимо,
но автор не обманул его ни разу. Это была первая книга про недавнее время,
действительно хорошо написанная. Он сам бы так писал, если б мог. И в «Мареве», он
знал, есть уже куски, которых не стыдно, — но «Марево» писал еще начинающий, а тут
виден был опыт. Человек знал столицы, знал помещичью и генеральскую жизнь, повоевал
на Отечественной, которая звалась теперь Империалистическая, и покрутился в донском
пекле девятнадцатого года, про которое, впрочем, писал смутно. Оно и понятно — он был
на той стороне, а на той стороне где ж видеть всю картину? У Шелестова самого имелись
по этой части, правду сказать, пробелы, он после ранения не все помнил, потому что
память людская милосердна и стирает лишнее. Но даже если они в мае месяце и
допустили некоторого лишку, когда чистили Вешенскую после мягкотелых инзенцев, не на
этом надо было сосредоточиться. Не на этом. Правильный взгляд диктует нам забирать
шире, с учетом всей исторической правоты, которую Шелестов уже знал, а безвестный
автор знать не мог.
Неделю Шелестов читал, неделю думал, за отсутствием обратного адреса ничего
разъяснить не смог, на почте ничего не сказали, кроме того, что штемпель
новозыбковский, а это он знал и без почты. Шанс был — дважды не предложат: тот самый
охват, которого так недоставало ему в «Мареве», и анонимно, без автора, лежит бесхозно,
не пропадать же добру! Главное — руки чесались писать: он знал, как сделать эту вещь, где
сократить, где, напротив, дописать для развития, потому что автору только и не хватало
верного взгляда. Ему все мешали сомнения, встревала лишняя жалость — иногда будто
глаза отводил, а надо было кровавее, этого Шелестов насмотрелся. И, подумавши,
отправился он к Славскому, главреду — Славский был человек партийный и сверх того
образованный: так и так, наличествует рукопись, но в нынешнем виде печатать нельзя, а в
усовершенствованном — можно. Он боялся, что Славский захочет прочесть и ему тоже
понравится, а там, глядишь, и тиснет как свою. Но Славский был совсем не писатель, у
него этих амбиций не имелось. Читать он тоже не стал — торопился в Москву, — а
Шелестову сказал: «Чего ж не взять? Ты только, сам понимаешь, обработай».
— Но, Владимир Матвеич, — сказал Шелестов, краснея, — я думаю — вдруг враги?
Вдруг это нарочно заслано, а они потом — раз! — и окажется плагиат?
— Дак ведь ты перепиши, — подбодрил Славский. — Сам же говоришь — нельзя как
есть, а когда перепишешь — это уж будет и не плагиат. Ты ж там не просто менять белое на
красное, а с проработкой?
— Это да, — согласился Шелестов. — Это полный будет поворот взгляда…
И работа у него пошла на диво легко — совсем не так, как над несчастным
«Маревом», с которым он просто не знал теперь, как разделаться. Через силу дописал он
историю своего Матвея, который порешил бабу за то, что шпионила на банду, а мальца,
рожденного ею, выкормил сам (сколько смеху было в «Молоте» и в литобъединении над
тем Матвеем! — а ничего особенного, зять рассказывал, что у них в станице казачка умерла
родами, а муж ее, пока нашел кормилицу, питал мальца кобыльим молоком).
Теперь все вечера у Шелестова были заняты переработкой «Порогов» — он легко, как
в разношенный любимый сапог, поместился в чужую повесть, да и не повесть уже, а
роман, поскольку обходиться одними только впечатлениями безвестного автора в рассказе
о великом всероссийском противостоянии казалось ему стыдно. Он широко пользовался
документом, без документа в наше время никакая проза не может соответствовать, —
кстати, и собственная его речь начала неуловимо меняться. Он на летучке однажды
заметил: вот мы все пишем — показания не соответствуют, уборочная не соответствует… —
а чему? Ведь этот глагол требует после себя конкретного слова. Мы все как-то хотим
соответствовать, а чему — не понимаем. Посмеялись, но без веселья: правильно ведь
сказал. И некоторые, Шелестов заметил, посмотрели на него нехорошо: попал он в точку, в
какую лучше не попадать.
Дивно было сравнить сочинения Шелестова до начала двадцать шестого — и после,
уже, скажем, весною: не то чтобы стал он использовать больше слов или глубже проникать
в людскую душу — но изменился сам голос его прозы: вместо петушиного крика — свист и
россыпь певчего дрозда! Прежде Шелестов мог написать фельетон — хороший, нет спору,
фельетон, со своим ходом, про разговор, допустим, трех пуговиц в портняжной
мастерской: одна была на пиджаке нэпмана, другая на буденновке, а третья на
рабфаковских штанах; это было дельно, но рабфаковская пуговица говорила, что от
студенческих штанов «пахнет молодостью и здоровьем», и даже машинистки прыскали,
когда входил Шелестов, — теперь он сам не понимал, как вырвалось у него про эти
проклятые здоровые запахи штанов. Он и смотреть стал иначе, словно что-то выискивал в
собеседнике, и завел записную книжку для удачных речений, — а когда Славский попросил
у него первую часть правленого текста и, ночь не спавши над ним, в двух местах
прослезился, то Шелестов и сам понял, что выходит у него небывалое.
— Есть у меня дружок еще по университету, — сказал Славский, успевший до
революции два года отучиться в Москве. — Он в Москве теперь, в «Красной нови». Пошлю
посмотреть, а ты не бросай знай. Если наши тебя будут командировками муторить, так ты
скажи — по моему заданию пишешь летопись семьдесят второй кавдивизии.
Что, в общем, было недалеко от правды.
А Шелестова и просить не надо было. Ах, какое счастливое было лето двадцать
пятого года! Как шла у него работа, как гостилось у тестя, как бежал он каждое утро к
туманной, обжигающе свежей воде, как плавал до восьми с ликующим щенячьим
фырканьем, как до обеда — долгого сельского обеда с непременным последующим сладким
сном до сумерек — самозабвенно, от руки писал в саду, кроя чужую фразу, придавая
рассказу ширь и глубь, добавляя то единственно верное, что, казалось, мог знать он один;
конечно, материал был выдающийся, но сырой, сырой! Видно, что писано очень молодым,
многое повидавшим, ничего еще не понимавшим. А потом наступал тревожный
сумеречный час, и тесть зажигал керосиновую лампу, об которую бились страшные,
несчастные, беспомощные мохнатые существа; «не на свет летят, а на тот свет», — шутила
теща, большая затейница.
Сумерки гнали Шелестова из дому: он быстро, почти бегом срывался в степь,
смотрел, как ночь наползает оттуда, как первые звезды проступают в разрывах облаков,
как темная конница налетает на станицу, неся то ли страх, то ли счастье, а верней всего то
и другое. Ведь и мохнатое чудище, влетая в огонь, попадает на свой тот свет и через миг
ужаса просыпается счастливым, на райском каком-нибудь лугу. И потом еще два часа,
лучшие за весь день, по результату уж точно, писал он в их с женой комнате, а она не
смела торопить, любовалась, как, упершись в левую ладонь крутым смуглым лбом, правой
он стремительно, почти не останавливаясь, перебеляет, черкает и правит. Из
трехнедельного отпуска в Балашовке привез он сто шестьдесят рукописных листов,
больших, желтых, — много приключений было суждено этим листам, — и машинистки,
которым отдал он на перепечатку вторую часть, при его появлении уже не прыскали, а
смотрели чуть не с испугом. Младшая, Валя, в коридоре поймала его однажды и
обратилась на вы, по отчеству, что в «Молоте» принято не было: Кирилл Александрович,
нельзя ли все же так сделать, чтобы Панкрат с Анфисой… а? Дурочка, хотел высокомерно
улыбнуться Шелестов, разве же мы можем по читательскому заказу… но вместо этого
вполне писательского ответа вдруг улыбнулся детски-счастливо и сказал: Валя, если
хочешь, то, конечно. Я и сам, по совести, так хочу.
А в августе приехал порыбачить Филимонов и, отчего-то стесняясь, сказал:
— Так вот вы какой… Действительно, совсем юноша. Прямо как этот у вас,
«Недостреленок». Что же, как вторая часть? Просто, знаете, самому интересно.
Продолжайте, будете наш, — и усмехнулся кривовато, — «красный» Толстой.
Но после второй части уже не усмехался, долго жал руку, ударил вдруг по плечу и
сказал:
— Вот оно! Вот ради чего мы… а, Матвеич?
И Славский улыбнулся с отеческой гордостью, а Филимонов вдруг сказал:
— Нельзя ли только, понимаете, чтобы Панкрат все-таки эту Анфису послал
подальше?.. Нехорошо выходит.
И Шелестов, сжав губы, твердо пообещал, что Панкрат не будет больше шастать к
чужой жене, а выйдет на твердую дорогу.
А в ноябре вышел тот самый номер «Красной нови», и понеслось.
26 июня 1928 года, Париж
В Париж Бутыкин прибыл прохладным ярким утром, и на душе его было радужно:
мало того, что Максимыч похвалил, так еще и донскую гадину — иначе он Шелестова про
себя не звал — наконец учебутычат, даром что у него рука в самом ЦК.
«Учебутычить» — было словцо сапожника, у которого он учился. Руки у Бутыкина
были крюки, известное дело — писатель, для грязной работы не годился, а сапожник и
вообще его недолюбливал, хотя мужик был незлой, с похмелья всегда виноватый. Спьяну
же кидался в Бутыкина болванками и орал неизменное: «Я тебя учебутычу!». От фамилии,
что ли, производил? Но Бутыкин запомнил, дважды уже употребил в «Черноземе», у него
был там развеселый дедок, раньше многих молодых поверивший в новую власть, — только
такими словами и тетюжничал.
Похвалам Максимыча он, согласно совету рабочего классика Пырялова, доверял не
шибко: «Он на слезу слаб, от всего рыдает, всех нахваливает». А поручение от НКВД — это
хорошо, серьезно: тут чуял он влияние посильней максимычева.
Направил его Климов, самолично отынструктировав:
— Думаю, товарищ Бутыкин, что можем вам доверить деликатное политическое
поручение. Вашего друга, товарища Шелестова, пытается скомпрометировать
белогвардейская печать. В статье яро антисоветской газетенки «Последние новости»
некий бывший белоказак, сбежавший семь лет назад от заслуженной кары, пишет, гадина,
простите, что будто бы лично наблюдал автора «Порогов» в рядах Кубанской казачьей
батареи и будто бы автор этот смертельно был ранен на его глазах волной от взрыва еще в
августе девятнадцатого года на Дону в станице. Рукопись же, как утверждает этот, с
позволения сказать, Манахин, хранилась всегда у его друга в походном его рундуке и
насчитывала тогда уже триста страниц, кабы не более. Манахин многое тогда читал и даже
посвятил другу в день рождения стишок, довольно гнусный, который тут же и приводит:
желаю, мол, в скором будущем тебе так же разбарабанить всю русскую литературу, как
твой Панкрат — твою Анфису. Каково же его, значит, удивление, когда он видит эту самую
рукопись под авторством чужого человека. Помнит он будто бы и содержание всего
дальнейшего романа, как он там написан, и обязуется рассказать, чем кончилось у
Панкрата с Анфисой, которые и объединились наконец, подробности в следующем
номере. Тут все, как вы понимаете, довольно сомнительно: и то, что этот якобы офицер
возит с собою в рундуке рукопись, и то, что он ее там пишет, пока мы их, так сказать,
долбали за милую душу, и ясно, что все это затеяно для удара по молодой советской
литературе.
Так вот, мы имеем к вам поручение, товарищ Бутыкин. (Пауза. Умеют). Поручение
деликатное. (Пауза). Понимая, что вы человек разумный и все это — строгая секретность.
Короче, вы находите там этого Манахина. И если действительно этот Манахин что-то
такое знает, то мы, конечно, готовы вывести любого литературного плагиатора на чистую
воду. Но поскольку Манахин, как вы понимаете, ничего не знает и все один блеф, то вы
раздраконьте-ка нам его как следует, да и самому объясните, что если он там будет рот
открывать, так ведь у нас и во Франции друзья среди рабочего класса. Внятно это вам,
товарищ Бутыкин? Действуйте тогда, визу мы обеспечим, и прямо-таки из Сорренто,
значит, поедете в столицу мировой моды. Женаты? Ну так женке чулок, а то одним
черноземом бабу не накормишь, — и усмехнулся так мило так, по-братски, ухремно, как
говаривают у нас в воронежских краях.
План действий был оговорен, и нашелся в Париже свой человек, — вправду, значит, у
Климова и среди эмиграции имелись свои, — который мог вывесть прямиком на Манахина.
А хорошо было бы вот так заявиться, и не во всяких костюмах-штиблетах, которых
накупил он с Максимычем, а в сапогах, во френче, да мало ли, а то и в буденновке,
которой сроду, конечно, у Бутыкина не было, но для такого дела подошло бы, — зайти бы в
эти самые «Последние новости» да и сказать:
— Руки вверх, пришли последние известия!
Но эффектом пришлось пренебречь, да и не было, сказал верный человек, никакой
редакции: собирались на дому у редактора еженедельно, сдавали кто что мог, с миру по
нитке.
Со связным переписка была серьезная, жаль только, что не шифром: «ждать вас
(телеграфировал он русские слова латинскими буквами) буду в кафе „Lis“ на третьей от
вокзала улице в одиннадцать часов ровно». Бутыкин не успел даже закинуть саквояж —
новенький, коричневый, тоже от Максимыча, в дешевую гостиницу на бульваре с
невыговариваемым названием «Рошешуар»: сразу отправился в «Lis». Там его уже ждал за
столиком у окна — посетителей было мало, не ошибешься, — высокий, худой, с такими
глазищами, каких в России Бутыкину сроду не встречалось, а больше он нигде не бывал.
Человек с таким честным взором, таким чистым лбом только и мог быть агентом. Бутыкин
это подумал со странной мстительностью. Агенты были, конечно, святые люди, а все-таки
его простая натура протестовала. И он, маленький, со свиными глазками, чуть больше себе
понравился, глядя на этого агента, который явно нервничал и своей ролью тяготился.
— Ну, что там, как? — горячо расспрашивал агент, хоть и понижая голос. Бутыкин
солидно рассказал, как хорошо идет смычка, как борются за здоровый быт, каких успехов
достигла, в особенности, гигиена (между вторым и третьим томами «Чернозема» он
выпустил рассказец «На другой день» о безобразном жеребячестве, очень нашумевший, и
потому был в курсе, как идет борьба с венеризмом).
Против ожиданий, агента все это совсем не интересовало. Он расспрашивал о
новостях литературных, причем Бутыкина даже не читал («Я, понимаете, жду, когда вы
окончите… чтобы уж сразу…» — и нехорошо подмигнул, дескать, мы-то с вами понимаем,
что не окончите никогда). Спрашивал он все о втором и даже пятом ряде: Пастернак,
Олеша, какой-то Соболь, который в позапрошлом году застрелился, — ну да, застрелился,
вспомнил Бутыкин, а что? Он что написал-то? Значительный интерес представляли
«Рождение героя» Либединского, «Разгром», эт-самое, Фадеева, хотя и содержащий,
конечно, ошибки правого уклона. Но правый уклон был агенту совершенно в диковинку.
«Куда, вы говорите?» — распахнул он и без того невозможные глаза, и Бутыкин не стал
посвящать белогвардейца, хоть и нашего, в тонкости литфронта. «Вам тута не будет
понятно», — сказал он с должным высокомерием, а на вопрос о Булгакове ответил, что на
враждебные вылазки не ходит и другим не советует. Тут агент улыбнулся так широко и
дружески, что Бутыкин против воли криво ухмыльнулся, иначе не умел.
— Значит, Манахин, — сказал бывший белогвардеец с внезапной деловитостью. —
Константин, отчества не знаю, да он молодой, года тридцать четыре. Он шофером тут, до
этого письма не печатался. Таксирует. В прошлом артиллерист, повадки до сих пор
офицерские, так что вы аккуратно с ним.
Бутыкин самодовольно хмыкнул. Еще с шоферами деликатничать, из бывших, щас.
— И он парень честный, — сказал агент задумчиво. — Я о нем спрашивал у
галлиполийцев. Шершавый, конечно, грубый, но офицер боевой. Врать не будет.
Бутыкин, видно, не смог скрыть радости, потому что агент спросил:
— А вы верите, что Шелестов… да? Вы же знаете его?
— Я, господин хороший, верить или не верить, эт-самое, не обучен. Я и в Бога не
верю, я исключительно уважаю научное знание. Когда мы будем знать положительно,
материально, тогда мы, так сказать, можем. Но я для того и прибыл, чтобы разъяснить
этого Манахина на месте.
— Ну, а Шелестов? Я первую часть прочел, немножко, конечно, этнографично, —
виновато сказал агент, словно это он отвечал за промах Шелестова. — Но забирает, знаете,
и хотя местами похоже на Мельникова — в лесах и на горах, — но безусловный писатель, и
жаль было бы, если…
— Вот мы гадать и не будем, — припечатал Бутыкин. — Что до товарища Шелестова, то
как вам сказать. Первый том — первый ком, главна-то штука, я вам скажу, написать второй.
(Сам он написал уже три). Он имеет на себе, конечно, пережитки казачества и тоже
правый уклон… Но нельзя отнять, что живописность и прочее. А парень он свой,
товарищеский парень, — спохватился он, — и мы имеем решимость, чтобы не смели тут…
своими щупальцами… почему я и здесь.
— Да-да, — заторопился агент, — вот адрес.
Бутыкин в такси доехал до отеля (вот был бы номер — подсесть к Манахину! Он для
проверки всю дорогу ругался ядренейшим матом — шофер и усом не вел), обустроился,
закушал обед с невкусным луковым супом и медно-кислым красным вином, подивился
бедности хваленой парижской публики, приобрел, действительно, жене чулки и себе
галстук, а к семи вечера был у черта на рогах, в шестнадцатом районе, на улице с двойным
названием, которое еле выговорил другому таксисту: Колонель-Бонне. Дома семнадцать не
было — пятнадцатый и сразу девятнадцатый, как-то он отступал вглубь, и вид у него был
потертый, чуть не средневековый. Внизу, на входе, сидела вахтерша, вылитая Клавдия с
общежития Трехгорной мануфактуры, куда Бутыкин захаживал к одной интересной Мэри,
и так же не хотела пускать, но он повторял: «Манахин, Манахин, русский», — и она
махнула рукой, потому что у русских, видимо, были свои чудачества.
На лестнице в нос Бутыкину шибануло запахом старины — старого дерева, затхлости,
общей несвежести, укуркости, как говаривали у них под Воронежем. Запах казался
коричневым, Бутыкин все-таки был писатель и чутье на запахи имел, так сказать,
цветовое: мясо пахло красно, мыло «Лориган» — фиолетово, а этот лестничный запах был
чисто коричневый, цвета опилок, трухи, старческой дрябнущей кожи. Нехорошо жил
Манахин, и тяжко ему было, верно, вдыхать каждый день этот дух чужого распада, долгой
беспросветной неудачи; может, если б он честно разоружился и признал, то его бы к нам?
Шофера и у нас нужны, а что бывший белый, то мало ли бывших белых! Если он, конечно,
действительно знает и разоблачит… Но Манахина не было дома, это, видать, и пыталась
втолковать Бутыкину вахтерша внизу, потому и махнула рукой — пусть сам убедится,
русские иначе не понимают. У, курва! Манахин, значит, в ночную. Бутыкин с трудом
дотерпел до завтрашнего обеда. У него было в Париже три дня, он не мог провалить
поручение. К трем таксист уж всяко отоспится.
Вахтерша на этот раз пустила его без звука, Бутыкин с колотящимся сердцем
поднялся на пятый этаж по узенькой, чуть втиснуться мужчине его сложения, винтовой
лестнице — и решительно постучал. С той стороны молчали, потом заскрипели пружины,
постоялец по-медвежьи заворочался, всхрапнул, крякнул, встал и тяжело прошел к двери.
— Ки э ля? — спросили хрипло.
— Я русский, пришел по делу, Бутыкин, — сказал Бутыкин поспешно. Дверь
приоткрылась ровно настолько, чтобы в мелькнувшем просвете можно было разглядеть
горбатый нос — видимо, манахинский. — Я из Советского Союза, — быстро сказал Бутыкин,
— по поводу статьи вашей. Насчет Шелестова.
За дверью молчали. Наконец Манахин решился, и Бутыкину предстал типичный
казак, ровно такой, каким его когда-то рисовали в «Известиях». Манахин был выше
среднего роста, с тяжелыми руками, квадратными плечами, вислыми усами — как эти
французы садились к нему в машину? Бутыкин и в Москве к такому не сел бы. Манахин
был в белой рубашке, фланелевых брюках на подтяжках и в сетке на голове — помыл,
видно, после смены, так вот, чтоб волосы не растрепались. На столе в крошечной комнате
— кровать занимала ее четверти на три, — лежали раскрытые, корешком вверх,
шелестовские «Пороги» в издании «Роман-газеты».
— Слухаю вас, — буркнул Манахин.
Никакой радости, в отличие от агента, он не выказал, сесть не предложил и угощать
точно не собирался, хотя под выпивку разговор пошел бы легче. Бутыкин надеялся, что
тоска по Родине заставит Манахина сперва хлебнуть, а там и разговориться, но он и руки
не протягивал. Бутыкин засуетился.
— По русскому обычаю, господин Манахин, надо б сперва обзнакомиться. — Он искал
точки соприкосновения с белоказаком и не находил, кроме водки. — Поговорить, эт-самое,
погутарить. Привет с Родины, — это было уж вовсе некстати.
— Слухаю, — повторил Манахин, не предложив сесть.
— Гражданин Манахин, — уже без «господина», с полагающейся суровостью
заговорил Бутыкин. Он понял, что душевного контакта не будет и давить надо по-
советски. — Вы описали в «Последних новостях», как знали настоящего автора романа
товарища Шелестова «Пороги». У нас это строго поставлено, нам чужого не надо, и если
товарищ Шелестов действительно присвоил чужое, то мы со всей, эт-самое, пролетарской
прямотой. Потому что и у нас имеются основания полагать, что, может быть, данное дело
не очень-то и чисто.
Манахин слушал, как каменный, только видно было, как бьется на виске у него
извилистая жилка. Руки белоказак держал в карманах, но видно было, что ежели вдарит, то
вдарит. Бутыкин никогда не любил казачества, ни белого, никакого.
— Поэтому, — продолжал Бутыкин, — нам желательно было бы ваши, так сказать,
материалы, если вы располагаете и если разоблачение действительно пойдет, то я вам
уполномочен передать гарантии, определенные гарантии определенных лиц. — Он
заторопился. — А то что в самом деле, русский человек в какое-то такси. И возвернуться
можно, и там у нас, сейчас, вы знаете, смычка… Многие сейчас, как вы знаете, вот так вот,
назад… А товарищ Шелестов действительно позволяет, и мы давно замечали, поэтому если
вы, так сказать…
— Знацца так, — тихо сказал Манахин. — Смычка, да? — И Бутыкин прямо
почувствовал, как он там, в карманах, сжал свои чугунные кулаки. Такие кулаки хорошо
подносить к носу и спрашивать: «Чем пахнет? Смертью пахнет». — Ты щас, товарищ,
повернешься кругом арш и смыкнешься отсюдова, я табе два раза повторять не буду. Ты
слыхал?
— Но слушьте, — затараторил Бутыкин, — ну что вы это, как несознательный… Ведь вы
сами писали, никто не тянул. Статья, эт-самое, хорошая статья по делу, ну если каждый
так будет чужое… што вы, я не знаю…
В ответ Манахин несознательно сделал один шаг в сторону Бутыкина, и писатель, не
прекращая увещаний, выкатился на лестницу. Что интересно, он долго еще потом
продолжал говорить. Вахтерше внизу — слова «консьержка» он не узнал до старости, —
тоже сказал почему-то, размахивая руками:
— Но несознательно же. Вот так каждый будет воровать книги, что будет?
Но в Москве миссию Бутыкина сочли выполненной, потому что не для того же его
посылали, чтобы вызнать истинную картину. Его для того посылали, чтобы прекратилась
белогвардейская вонь по поводу похищения нужного романа. А она прекратилась, и
белоказачий шофер Манахин так никогда и не рассказал всей правды про съединение
Панкрата с Анфисой. Только Климов, выслушав доклад, потеребил усы и спросил
Бутыкина:
— Странность все же, товарищ Бутыкин. Почему он еще пятого июня хотел
разоблачать товарища Шелестова, а три недели спустя уже вот так? Мог ли, допустим,
товарищ Шелестов как-то воздействовать?
— Да он такой, он никого слушать не стал бы, — поспешно ответил Бутыкин. — Это
какая-то ему под хвост, извините, вожжа.
— Вы говорите, на столе «Роман-газета» была? — задумчиво спросил Климов.
— Лежала, с «Порогами». Прямо вверх портретом.
— Портретом? — переспросил Климов. — Они с портретом теперь печатают?
— Ну а как же. И с меня снимали. С марта месяца так выходит.
— Ну ладно, — отпустил его Климов и два месяца спустя, когда стало уже ясно, что
разоблачения Манахина не возобновятся, поощрил Бутыкина посещением распределителя.