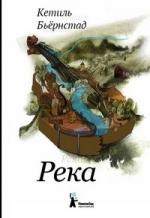- Юрий Карякин. Не опоздать! Беседы. Интервью. Публицистика разных лет
- Издательство Ивана Лимбаха, 2012 г.
- Составитель Ирина Николаевна Зорина
- Новая книга Юрия Федоровича Карякина (1930–2011) включает в себя впервые собранные вместе его беседы и интервью, литературную и политическую публицистику 1960-х—2000-х годов. В этих статьях и беседах происходит живой диалог с культурой в ее прошлом и настоящем. Безупречная интеллектуальная честность автора являет собой пример высокой гражданственности и свободы мысли.
Ю. Ф. Карякин закончил философский факультет МГУ. В 1968 году был исключен из партии за антисталинское выступление на вечере памяти Андрея Платонова. В глухие 1970-е годы изучал творчество Достоевского, написал о нем две совершенно оригинальные книги. В 1989 году был избран депутатом Первого съезда народных депутатов; стал одним из создателей общества «Мемориал». В начале 1990-х годовКарякина называли «мотором перестройки»: он выступал на митингах, писал статьи, расширяя территорию гласности и свободы.
Беседа с главным редактором журнала «Журналист» Дмитрием Аврамовым. 1995 год
Если ты прозрел в среду…
Сегодня моя статья 1987 года — «Стоит ли наступать на грабли?» — кажется мне доисторической. Нет, там было много верного, но все-таки я и сам тогда наступил на грабли. С тех пор восемь лет прошло. Никогда у меня не было столь интенсивного времени в смысле преодоления прежних иллюзий.
После 1956 года (XX съезд) у большинства моих сверстников по университету открылись глаза на Сталина, но, как ни странно, мы еще больше ослепли на Ленина. Почему?
У каждого, конечно, свой ответ. Я — о себе.
Во-первых, не хватало ни фактов, ни их понимания: ведь дрессировали-то нас идеологически с самого детства. Гвозди, шурупы идейные вбивали, ввинчивали в наши головы каждый день по шляпку. Это может понять только тот, кто это испытал и кто их вытащил, вывинтил.
Во-вторых, мои родные со стороны отца и мамы (это человек десять дядьев и теток) все оказались людьми необычайно честными, щедрыми и мужественными. Их личная совестливость, благородство заслоняли принципиальную бессовестность ленинизма. Они почти все были коммунистами, отец так даже — ленинского призыва.
В-третьих, когда для нас открылось так называемое «Завещание» Ленина, то ведь открылось-то оно прямо как завещание антисталинское. Не успел, дескать, Ленин его, Сталина, снять, зато Сталин сажал и расстреливал всех, кто об этом завещании знал…
К тому же все слилось, склеилось, перепуталось и далеко не сразу распуталось.
Но главная аберрация была все-таки в том, что я смотрел (многие смотрели) на «единственно верное учение» как на солнце, вокруг которого все-все и вращается, вся мировая культура, философия, наука… И вдруг (у меня на это «вдруг» лет двадцать ушло) ока¬залось, что оно, само это учение, никакое не солнце, оно вмешалось, ворвалось в нашу жизнь, в нашу культуру какой-то чудовищной кометой, все перекорежило, и еще удивительно, что мы остались живы… В этом свете вдруг прозреваешь и на старые, давным-давно известные факты, а уж новые становятся и того ослепительнее.
Прибавлю к этому, что мне еще невероятно посчастливилось: философский факультет МГУ, несмотря ни на что, дал все же очень много. Да еще потом выпало общаться с такими людьми, как Э. Ильенков, А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Э. Неизвестный, М. Бахтин, А. Солженицын, А. Сахаров, А. Адамович, Ф. Искандер, Ю. Давыдов, Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Любимов, Ю. Ким, А. Якобсон — всех не перечислить. Это же какое облучение! Но я это не только со счастьем говорю, но и с горечью, потому что учеником я оказался довольно-таки посредственным — почти в каждом классе по два, по три года сидел. Однако подчеркну: если я — при таких учителях — сегодня, скажем, в среду, кое-что наконец понял, то какое же я право имею обличать тех, кто еще во вчерашнем дне застрял, во вторнике или в понедельнике? Ведь я сам только что оттуда.
— А когда ваша «среда» случилась?
— На исходе 1988-го. Тогда я фактически вышел из партии, а 22 июля 1990-го (в день своего 60-летия) и формально.
— Но ведь вас раньше исключали из КПСС? За что?
— Да за путаницу в моей голове. Дело в том, что в 1968 году я одновременно выступил против Сталина за Ленина да еще за Солженицына, а им нужен был первый и не нужен последний. Вот и все.
— Но сейчас этой путаницы нет?
— Надеюсь, но судить не мне. Во всяком случае, если сформулировать главный урок из всего этого, то я хотел бы подписаться под словами А. И. Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ», часть IV, глава 1):
«Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительным, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна… Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами…
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая впопыхах и носителей добра — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство».
«Сверхнаглость» как политическое кредо
— Давайте вернемся к Ленину. Какие факты, связанные с ним, повлияли на вас наиболее сильно?
— Их сотни, тысячи, больше. Но «личных», «моих» фактов, которые окончательно пробили меня, примерно десять.
1. Убийство царской семьи, июль 1918-го. Мало того, что Ленин, Свердлов и др. все это организовали, а потом заметали следы, свалив все на «инициативу снизу». Мало того, что нагло врали, официально объявив лишь о расстреле царя (а царица и дочери, мол, отправлены в безопасное место). Но вот еще один штрих. А. И. Иоффе, наш дипломат, был в это время в Берлине. Ему, естественно, задавали вопросы о судьбе царицы и детей. Совет Ленина: «Пусть Иоффе ничего не знает, ему там, в Берлине, легче врать будет». (А при Сталине миллионы фактов были взяты под арест, чтобы легче врать. Заповедь Ленина была выполнена и перевыполнена.)
2. Ленин — Чичерину, 25 февраля 1922-го (инструкция для переговоров с Западом): «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью». (И эта заповедь была выполнена и перевыполнена.)
— Что, прямо так и сказано, этими словами?
— Не сказано, а написано. Проверьте. А уж сказано-насказано между своими было и не такое.
3. Но вот факт третий, 1920 год. Ленин рекомендует воспользоваться проникновением банд «зеленых» на нашей западной границе: «Под видом „зеленых“ (мы потом на них и свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного».
4. Ленин — Молотову, 19 марта 1922-го. Приказ подавить сопротивление духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».
5. Высылка за границу по приказу Ленина лучших философов, ученых, писателей на пароходах (настоящий духовно-интеллектуальный цвет России). Спасибо еще, что не догадались потопить в открытом море.
6. Оказывается, один из самых любимых героев Ленина — С. Г. Нечаев, прототип Петра Верховенского из «Бесов». А самый ненавистный роман — разумеется, «Бесы».
7. Со школы я запомнил, как в самые трудные, голодные годы Ленин озаботился тем, чтобы помочь академику И. П. Павлову. Теперь знаю мотивировку этой благородной гуманитарной помощи: чтобы не выпускать Павлова за границу, где он, несомненно, будет выступать против большевистской диктатуры, задобрить его пайком. Такова циничная подоплека той школьной рождественской сказочки.
8. После Достоевского, Чехова, Толстого не было в России столь надежного духовно-нравственного авторитета, как В. Г. Короленко. Луначарский прочил его в президенты будущей республики. Президентом, однако, стал Ленин. Прочитав одну брошюру Короленко, он поставил автора в ряд «интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». Окончательный вердикт: «На деле это не мозг, а говно». Однако после антибольшевистских выступлений Короленко («Русская литература не с вами, а против вас», «сила большевизма в демагогической упрощенности», вы установили «власть доноса») Ленин дает срочное поручение Луначарскому поговорить с Короленко и завязать с ним переписку в надежде приручить непокорного. Короленко пишет Луначарскому шесть писем, отчаянных и мудрых (невольно вспомнишь «Письмо вождям» Солженицына). Разумеется, никакого обещанного ответа и никакой обещанной публикации.
9. Еще одна чеканная формула Ленина: «Хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Таков точный «перевод» его же формулы: «Партия есть ум, честь и совесть эпохи».
Короче, постепенно выяснилось, что все, что меня отталкивало, Ленину было любезно, а все, к чему я притягивался, начинал любить, он ненавидел.
— А какие книги о Ленине на вас больше всею повлияли в этой смене убеждений?
— Всех не назову — их десятки, но три главные и первые — это Н. Валентинов «Встреча с Лениным», А. Солженицын «Ленин в Цюрихе» и Вен. Ерофеев «Моя маленькая лениниана». Как говорил Ленин о «Что делать?» Чернышевского, они «меня всего перепахали».
Арифметический подход к высшей математике
Да, фактов неотразимых — тысячи, книг — сотни. Но я хочу сказать сейчас об одной вещи, которая является уникальной для познания, уникальной методологически (и даже методически): закончился, заканчивается грандиозный всемирный социальный эксперимент с коммунизмом, огромный исторический цикл. И вот его главный итог:
ПРИ ТАКОЙ-ТО ЦЕНЕ ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?!
То есть мы можем рассматривать весь путь в свете конечного результата. Вещь действительно уникальная.
Вдумаемся в тему: фактор времени в теории и практике социалистической революции.
Есть известное высказывание Ленина о том, что Маркс и Энгельс действительно часто ошибались в определении сроков революции. И, дескать, напрасно издевались над этим всякие там филистеры, ибо эта ошибка благороднейшая: за ней — святое нетерпение видеть мир обновленным и осчастливленным…
Я бы добавил к этому: не просто часто, а очень час-то, слишком часто, почти беспрерывно классики ошибались именно в сроках. Здесь какая-то дурная бесконечность, какая-то фатальность. Можно (и должно) составить настоящую антологию по этой теме. Уверен: она произведет ошеломляющее впечатление.
Даже в начале 1950-х годов прошлого века Маркс (уже «зрелый Маркс»), заметив падение денежного курса на Лондонской бирже, открывает в этом падении математическое доказательство близости революции. Это лишь один факт из десятков. Но все они предопределены классической установкой, четче, резче всего сформулированной в «Капитале» (последняя страница первого тома): превращение капиталистической собственности в общественную есть далеко не столь длительный, тяжелый и мучительный процесс, как превращение раздробленной частной собственности в капиталистическую. Там экспроприировалась масса народа немногими узурпаторами. Здесь все наоборот: огромная масса экспроприирует совсем-совсем немногих узурпаторов. А потому этот процесс будет несравненно короче, легче и безболезненнее…
Перед нами грубо механическое решение сложнейшей социальной, духовной, психологической задачи. Примитивно арифметический подход к наивысшей математике.
Несравненно короче, легче и безболезненнее… Сравните! Сравните именно в свете известного сегодня результата.
А метания Ленина? В январе 1917-го юным швейцарцам он говорит, что мы, старики, не доживем до начала революции, а через десять месяцев берет власть. Кажется, на этот раз сама история обогнала вождя. Да ведь только кажется. Не успели взять власть — и тут же «перевели» непонятное латинское выражение «экспроприаторов экспроприируем» на «всем понятный язык»: «Грабь награбленное!» Это в России-то! В России, где, по выражению Карамзина, воруют все, а тут воровство, прямой грабеж возвели в ранг высшей революционной добродетели… Ждут со дня на день, с часа на час победы мировой революции. Ленин объявляет 1 мая 1919 года: «Большинство присутствующих, не переступивших 30-ти—35-летнего возраста, увидят расцвет коммунизма…». Где сегодня все эти 30-ти—35-летние?.. Сколько им сегодня должно было бы быть? Лет по 105–110…
Чекистский нэп
— Позвольте, а нэп?
— Нэп? О, сколько тут было и осталось иллюзий! Вот слова Ленина (декабрь 1919-го) о «свободе торговли хлебом»: «Против этого мы будем бороться до последней капли крови. Здесь не может быть никаких уступок». Нэп даже в партии пробивал себе дорогу вопреки, а не благодаря Ленину. Нэп ведь состоялся лишь после и в результате Кронштадта, лишь после и в результате крестьянских восстаний. Никакое это не гениальное открытие. Просто в самый последний момент успели выскочить из капкана, который сами себе и поставили. Но выскочили-то единственно для того, чтобы сохранить свою власть. Это был нэп — при усилении однопартийности, вплоть до запрета каких бы то ни было фракций внутри партии (X съезд), вплоть до указания Ленина, что «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Сообразили хоть в устав и программу не вносить этот пункт, но действовали всегда в соответствии с ним. Он и был эпиграфом XIV съезда, который сетовал: «Мы страдаем не от так называемого „доносительства“, а именно от недоносительства». Это был нэп — при ужесточении цензуры. (Свобода печати? — говорил Ленин. — Мы самоубийством кончать не собираемся.) Это был нэп — при безграничном расширении статьи, карающей за «антисоветскую деятельность» (тут же и начались фальсифицированные процессы против своих политических оппонентов). Нэп — при беспощадном физическом уничтожении церковнослужителей и вообще верующих. Нэп — при организации чекистской облавы (по прямому указанию Ленина) на либерально-демократическую интеллигенцию. Нэп, когда (уже после смерти Ленина, но по Ленину) весь XIII съезд РКП(б) чуть со смеху не умер, выслушав только цитату из письма ленинградских инженеров, требовавших каких-то «прав человека»… Зачитывал цитату и отвечал Г. Зиновьев: «Не видать вам этих прав как своих ушей». Зал опять хохотал и аплодировал. Очень интересно было бы узнать, как из такой веселой, насквозь чекистской нэповской России могла родиться Россия социалистическая?..
Родился «Великий перелом». В 1929–1932 годах было уничтожено не менее десяти миллионов человек. Глухой стон стоял в России, все раны кровоточили (как говорил поэт Н. Коржавин: «Ножами по живому телу они чертили свой чертеж»). Но вдруг было объявлено (всего через четыре года), что социализм уже построен и начинается переход к коммунизму (а хохотавшие на XIII съезде над «правами человека» и призывавшие к доносам на XIV съезде уже почти перебили друг друга)…
В 1961-м нам был обещан полный коммунизм к 1980-му. А тут еще Мао вызвал нас на коммунистическое соревнование: «Десять лет упорного труда — десять тысяч лет счастливой жизни..» Составить бы список всех этих обещаний всех этих чаушесок, кимирсенов, кастро, полпотов… И все это случайность? «Святое нетерпение»?..
Самообман и обман
Да, все началось с ошибки. Причем ошибка ошибке рознь, к тому же ошибка до взятия власти — одно, тут волей-неволей приходится больше считаться с реальностью, но ошибка после взятия власти — нечто другое, потому что удержание власти и становится единственно реальной самоцелью. Тут беспрерывные посулы измотанному, надорвавшемуся, изнасилованному народу и запугивание его врагами внешними и внутренними — вот единственное горючее, которое питало локомотив власти. Но все равно ничего не получается (где социализм как высшая производительность труда?), и вожди прекрасно знают об этом, знают, что ни одна сталинская пятилетка не выполнена, знают и — объявляют, что все они перевыполнены (конечно, предварительно ликвидировав всех сколько-нибудь объективных статистиков).
Есть много разных «оснований деления» для хронологии истории. Мне кажется, в нашей истории помогает разобраться и такое «основание деления»: два периода у нас было — первый, самообманный, романтический, так сказать, и второй — сознательно обманный, лживый, циничный (оговорюсь: оба периода — сообщающиеся сосуды: уже в первом было много от второго, а во втором не так уж мало и от первого). Первый — короче, второй — подлиннее. А эпиграф к обоим один и тот же: «Клячу истории загоним…». И — почти загнали…
На деле произошло не превращение социализма из утопии в науку. Произошла замена всех прежних утопий — новой, трижды утопической. И если на деле все утопии — это лишь осуществление антиутопии, то наша и есть трижды антиутопия. Если все утопии на практике означают соревнование в составлении и реализации наиболее длинных проскрипционных списков, то наши списки длиннее всех предыдущих, вместе взятых.
Кто не знает слов Маркса о «родимых пятнах» капитализма? Эти слова — многолетнее, универсальное и, казалось, убедительное объяснение едва ли не всех наших «ошибок» и «недостатков» (на деле — преступлений). Но в этих словах невольная и страшная проговорка. Вдумаемся. От «родимых пятен» никто не умирал. Иногда они даже украшают. Проговорка в том и состоит, что Маркс (как и в приведенном выше случае с «Капиталом») чрезвычайно облегчил себе задачу объяснения и изменения мира, объявив, в сущности, всю историческую наследственность человечества «родимыми пятнами», поставив задачу стереть именно эту наследственность как простые «родимые пятна».
Таким образом, «единственно научное учение» абсолютно не приняло в расчет завоевания религии, культуры, науки, мировой литературы, которые, может быть, яснее и короче других отчеканил «лжеученый» и «реакционер» Спенсер: как могут рождаться золотые характеры из свинцовых предрассудков?
Насилие над жизнью не может не проявляться насилием над временем, не может не выявиться сначала романтическим самообманом, а потом и циничным обманом насчет сроков наступления земного рая.
Сама неосуществимость коммунизма предполагает, предопределяет насилие, самообман и обман.
Вот еще факты. Даже, казалось бы, чисто философские, сугубо теоретические работы Ленина являются своего рода судебно-политическими процессами над оппонентами, и приговор (пока, повторяю, вербально-идейный) здесь один, окончательный и никакому обжалованию не подлежащий, — только высшая мера. Возьмите «Материализм и эмпириокритицизм» или статью о «Вехах» — это же настоящий суд, настоящий процесс против чуть не всей русской и мировой философии, против идеализма и «поповщины». Политических ярлыков, ругательств, грубых, неприличных, порой просто площадных, здесь больше, чем философских, научных категорий.
А вот вам, к примеру, задушевные мысли, заметки Ленина — для себя — на полях Гегеля: «Материалист возвышает знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму. <…> Пушло — поповская идеалистическая болтовня о величии христианства (с цитатами из Евангелия!!). Мерзко, вонюче! <…> Бога жалко!! сволочь идеалистическая!!»
Заметки для себя? Как бы не так! Это заметки на карте будущих сражений. Это настоящее руководство к действию. Из таких задушевных заметок для себя и родились впоследствии «совершенно секретные» приказы о физических расправах, тоже очень задушевные и тоже для себя, для своих, тем более задушевные, тем более для себя, для своих, чем более «совершенно секретные». Этот внутренний взрыв Ленина на полях книги Гегеля неизбежно аукнется 5 декабря 1931-го взрывом храма Христа Спасителя, взрывами десятков тысяч других храмов, тюрьмой, расстрелом сотен тысяч людей.
Жуткий триптих
И еще о фактах, страшных, знаменательных и лишь недавно опубликованных. Со второй половины 1921-го у Ленина резко ухудшается здоровье. В 1922-м — удар за ударом. Начинает гаснуть интеллект. Приходится учиться читать, писать, решать элементарные арифметические задачи. 30 мая в течение пяти часов он не может помножить семь на двенадцать… Но что задумывает и что решает он во время все более редких и коротких промежутков просветления (кто поручится, что не в бреду или в полубреду)? Именно, именно: все то же самое — страшное письмо Молотову, задание ЧК выслеживать, отлавливать и высылать философов и ученых. Это ведь все как раз 1922 год.
6 марта 1923-го следует новый — сильнейший — удар и как следствие — «сенсорная афазия» (неспособность понимать обращенную к нему речь). Но ведь этой «сенсорной афазии» предшествовала неспособность (и нежелание) понимать никаких своих оппонентов, неспособность понимать (и слушать) ничего, что расходится с «научным понятием» диктатуры пролетариата… Дальше — хуже: потеря речи. Но вот, с 20 июля, небольшое улучшение (однако речь так уже и не вернулась). Ему прочитывают заголовки газет. Он выбирает, что ему читать вслух. По поводу того, что на Украине у богатых мужиков отбирают излишки хлеба, Владимир Ильич «выразил большое неудовольствие, что это не было сделано до сих пор»… Перед нами едва ли не последнее осмысленное или полуосмысленное выражение своих неискоренимых идей, уже без слов, а только мимикой. Куда это отнести? Штрих к «Политическому завещанию»?
Можно все объяснить болезнью, бредом. Но ведь ясно прослеживается какая-то неумолимая логика, логика самой этой болезни: каждое просветление оборачивается новым помрачением, новым ужесточением. Как говорил Порфирий Петрович Раскольникову, тому Раскольникову, чье покаяние было особенно омерзительно Ленину: «… все это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли?» Боюсь, что не так. Не могли. Семь на двенадцать помножить не в силах. Не может ни говорить, ни писать, ни читать, ни понимать. Но распоряжаться судьбами миллионов людей, судьбами страны, народа может и всегда считает себя обязанным распоряжаться, распоряжаться абсолютно безоговорочно, все жесточе и беспрекословнее.
Сравните три изображения Ленина. Первое, 1895-й. Семь руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Фотография необыкновенно выразительна психологически. Фотографируются-то специально, то есть позируют, перед походом, для истории. Собрались на подвиг. Особенно выразителен Ульянов. На нем печать абсолютной властности. Остальные — по сравнению с ним — кажутся даже какими-то расслабленными. «Хозяин разговора», вождь — он, это ясно. Он — воплощение той партии, той части (партия ведь это часть), которая претендует стать всем, стать целым. Он — в центре. Сидит. Молчит. Губы сжаты. Рука властно облокотилась на стол. Глаза смотрят прямо на тебя, в упор, но одновременно устремлены в себя. Молодой сгусток, невероятная концентрация невероятной же воли, энергии, целеустремленности. До предела сжатая пружина. Что-то будет, если (когда) она разожмется? Куда, в кого выстрелит? По крайней мере двух, рядом с ним (Мартова и Потресова), она не пощадит.
Второе. 1917–1921 годы. Из сотен фотографий можно выбрать любую. Стоит. Призывает. На броневике, на балконе дворца, на грузовике, на деревянных, сколоченных наспех трибунах, на «кафедрах» съездов партии. Интернационала. Глаза сверкают. Рука выброшена вперед, указывая — нет, приказывая! — кого уничтожить, куда идти. Вместо буржуазного котелка — рабочая кепка. Пружина разжалась, выстрелила наконец. Внутренняя воля, энергия, целеустремленность становится и внешней, заражает сотни тысяч и миллионы.
Третье, 1923-й. Горки. Коляска. Балахон. Лежит и молчит. Глаза? Посмотрите. Сравните…
Мог ли он, первый, через второго, увидеть себя третьего?
Какой Тициан, Леонардо, Микеланджело мог вообразить, изобразить такое? Жуткий триптих.
Жуткое возмездие. Справедливое ли?
Первое слово здесь должно было бы принадлежать тем (если бы они прозрели к моменту его умирания) тринадцати миллионам, которые сгорели в его любимой Гражданской войне, да еще тем десяткам миллионов, сгоревшим — по его предначертаниям — после…
Бунт в клетке
— Вы (в «Граблях») цитировали Ленина: «Ни слова на веру, ни слова против совести». Как вы относитесь к этому сейчас?
— Я тогда верил этим словам и не понимал их в контексте всей его политической деятельности, не понимал, что истинность слов зависит, так сказать, и от уст говорящего. Ведь всю свою жизнь он проповедовал и осуществлял именно отрицание нравственности, совести в политике, обучал этому своих учеников. Что из них могло получиться, если их обучали, «как легче врать», как побеждать «сверхнаглостью», как убивать одних «врагов народа» и сваливать на других? Что? Еще более слепая вера в вождей и еще бульшая бессовестность. Что, если действительная совесть России — Короленко — был для него… (помним чем), если покаяние Раскольникова из «Преступления и наказания» было для него «морализаторской блевотиной», если он говорил о «Бесах» и «Братьях Карамазовых» — «пахучие произведения», «на эту дрянь у меня нет времени»? Что из его учеников могло получиться, если «хороший коммунист — хороший чекист»? Ученики превзошли учителя. Вот он и спохватился, сам все посеяв и начав пожинать плоды рук своих. Да уже поздно было. Получилась, так сказать, вынужденная новая моральная политика, запоздалый моральный нэп. Парадоксально, но принятое всерьез — «ни слова на веру, ни слова против совести» — и привело меня в конце концов к тому рубежу, где я сейчас нахожусь. Сколько лет, повторяю, пытался я совместить Достоевского, а потом еще и Солженицына с Марксом и Лениным. Оказалось: абсолютно несовместны, как гений и злодейство. По Достоевскому: недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Вот я и пытался возбуждать этот вопрос.
Смена убеждений — вещь страшно серьезная, если она искренняя, бескорыстная и беспощадная к себе, а если лицемерная, корыстная, трусливая, то ведь это даже и скучно. Напомню, что Достоевский начинал социалистом и даже говорил, что мог бы быть и нечаевцем. Замятин в большевиках побывал, а Солженицын в камере на Лубянке Ильича защищал…
— А кем бы вы были, окажись в те времена?
— Вы попали в точку. Я и сам неоднократно ломал голову над этим вопросом. Ответ неутешительный. В лучшем случае получился бы какой-нибудь коктейль из «правого» Н. Бухарина, М. Рютина и Ф. Раскольникова (имею в виду их выступления против Сталина). Это были бы протест, бунт, проклятие, однако бессильные, потому что происходили бы внутри клетки, в которую ты уже попался, точнее, внутри клетки, в которую попались твои мозг и душа. Хорошего коммунизма, оказывается, быть не может, а хорошего ленинизма не бывало. Понимаете, вероятно, система по природе своей не может быть понята изнутри, тем более преодолена. Только извне. Почему Бунин, Короленко, Ахматова, Набоков сразу все поняли? Да потому, что никогда не были в этой системе координат, а были в другой, в системе координат русской и мировой культуры, а оттуда все видно как на ладони. Коммунист же, вытаскивающий себя из сталинизма с помощью, скажем, Ленина, — это даже не Мюнхаузен, вытаскивающий себя из болота за волосы, нет, это как бы лысый Мюнхаузен. Только, повторяю, это далеко не сразу понимается.