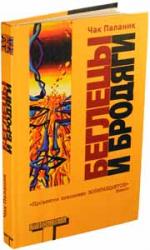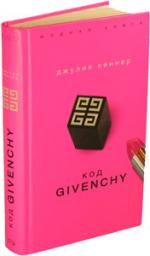- Перевод с испанского Владимира Петрова
- Митин журнал, Kolonna Publications, 2006
- Переплет, 396 с.
- ISBN 5-98144-070-8
- Тираж: 2000 экз.
«Я хотел изобразить приключения не персонажей, но группы архетипов, каждый из которых представлял бы одну из граней нашей души». Этим кратким комментарием к своей книге Алехандро Ходоровский только усложняет задачу читателя, вынужденного угадывать, какие именно архетипы скрывают в себе двадцать два персонажа «Попугая…». При подступах к довольно объемистому роману в голове неизбежно возникает путаница: слишком много героев, слишком хитроумными нитями они связаны между собой. К концу книга приобретает четкость, начинает прослеживаться сюжет, создается иллюзия удобоваримости текста. Читатель, с головой нырнув в глубокий омут, внезапно ощущает под ногами дно. Но не стоит поддаваться соблазну — в самом конце новый омут захлестнет читателя, и опять все встанет на свои места — то есть опять все станет непонятно.
Герои Ходоровского: поэты, паяцы, богоборцы, утерявшие внутреннюю гармонию, — путешествуют по вымышленной стране, которая, впрочем, имеет название — Чили. Они сражаются, предаются разврату, пишут романы, а под конец (как раз в этом месте книга становится внятной) вступают в оппозицию с властью. Информации слишком много. Информация путает и сбивает с пути. Ходоровский — дитя сюрреализма, вот почему его книгу предпочтительнее созерцать, а не читать.
Начало первой главы напомнит нам о Борхесе, некоторые метафоры — о Павиче. Но у Ходоровского все гораздо сложнее. Он умудряется проследить судьбу каждого из своих двадцати двух героев и довести ее до логического конца. При этом у каждого героя есть своя история, а у каждой истории — предыстория.
В книге много отталкивающих сцен. Ходоровский достаточно жесток и бескомпромиссен. Но его умение завлечь читателя, затянуть в паутину своих фантазий берет верх над любыми догмами. В мире, нарисованном автором, царит своя мораль. Здесь нет ни одного события, вносящего дисгармонию в путешествие героев по вымышленному Чили и в путешествие читателя по собственному подсознанию.
Роман-путешествие (или, если угодно, трип). Это особый жанр (не имеющий, кстати, ничего общего с путевыми заметками). Особенно радует, что Ходоровский, говоря о путешествии, не упоминает о наркотических трипах — а ведь этим грешат многие авторы, пишущие нечто подобное. У героев романа слишком богатое и слишком больное воображение для того, чтобы подкреплять его химическими веществами. Лишь один герой в романе принимает наркотики — президент вымышленного Чили, убогий диктатор с убогим внутренним миром.
Сегодня мы только начинаем открывать для себя творчество Ходоровского. Многие знакомы с его фильмами. Настал черед и книг. «Попугай с семью языками» — хорошее подспорье для любителей всего нового и неизведанного.