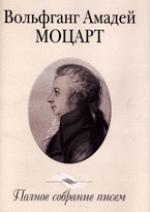О поэзии нынче больше говорят, чем читают ее. В этом своеобразие момента. Лет тридцать назад вышла знатная книжка Ефима Эткинда «Разговор о стихах». Ефим Григорьевич действительно говорил в ней о конкретных стихах, разбирал подробно и изысканно. Предназначалась книжка, между прочим, школьникам и напечатана была в издательстве «Детская литература», хотя благодаря имени автора ее мгновенно раскупили любители поэзии среднего и старшего возраста. Часть тиража, правда, ушла под нож, поскольку автор убыл к тому времени в принудительную эмиграцию. Такие вот бывали у нас приключения. Теперь не то. Поэтому, будучи реалистами, а не только боясь стибрить забытое название, и озаглавили мы статью именно так: «Разговор о поэзии».
Из пернатой фразы Евтушенко о том, что стихи, мол, читает чуть не вся Россия и чуть не пол-России пишет их, верна сегодня разве что вторая ее половина. Вот, кстати, еще одна особенность ситуации: если что о поэзии и говорят, то в основном, что потеряла она свой статус народной, фактически кончилась, погибла при усердии графоманов-экспериментаторов и всеобщем равнодушии. А пол-России продолжает между тем в такой не комфортной обстановке сочинять и даже за свой счет печататься. Тиражи, конечно, мизерные: 100, 200, 300 экземпляров — нормальное дело. Просмотрел полку со сборниками, попавшими в дом разными путями за последний год: хорошо, если суммарный тираж доползет до трех тысяч.
В общем, прежде чем начать разговаривать собственно о стихах, давайте попробуем разобраться в общей картине. Пролистываешь сборник за сборником — голова кружится от пестроты, и никаких тенденций не прорисовывается. Поэтому лучше уж сначала общий план. Пойдем постепенно: почему не читают? почему пишут? что пишут?
Итак:
Почему не читают?
Существует мнение, что поэзия в советские времена была сильна силой своего противостояния власти, общественному устройству и государственным вкусам. Речь не только о политической публицистике. Противостояние могло быть стилистическим. Ни Кушнер, ни Ахмадулина, ни Соснора, ни Бродский, как мы теперь знаем, антисоветских стихов не писали. Чуждость литератора органы «органов», партии и литчиновничества вычисляли по синтаксису, не здешней интонации, лексике и отсутствию номенклатурных патриотических тем. И вот противостояние это исчезло. Ну, и вот, говорят.
Стилистическая оппозиция сегодня в поэзии невозможна, это правда. Хотя она уже существует в журналистике, в поведении редких общественных деятелей и граждан, не желающих не только демонстрировать, но и проявлять лояльность.
Лояльность по отношению к власти сегодня снова надобно подчеркивать. В том числе стилистически. ТВ и кинематограф сообразили это раньше других. Или просто скупое государство вливает в эти области гуманитарной индустрии больше, чем в остальные. Не исключено, дойдет и до литературы. Но в силу ее малотиражности и невысокого общественного спроса случится это не скоро. А пока: «Мели, Емеля, тебя все равно не слышно».
В политической жизни у нас разброд и тишина. Настоящая, не официозная гражданская поэзия на такой почве всходов не дает. Евтушенко, несмотря на серьезный возраст, из последних сил старается, Дмитрий Быков ловко строчит в «Огоньке» свои стихотворные фельетоны, но толпа не ответствует им даже тихим ропотом, не говорю уж гневным восторгом.
Теперь, что касается государственных вкусов. Они остались неизменными. Более того, они вполне совпадают со вкусом масс, судя по тому, что и сегодня без явной поддержки государства кричащая и шепчущая лирика печатается вполне исправно.
Открываю один из последних номеров «Литературной газеты». Обзор поэтических «Избранных». Даже и для крупного поэта такая честь — явление в наши дни редкое. Цитаты — одна другой краше.
Вот краснодарский поэт Николай Зиновьев, из тех, «кто наиболее проникновенно и глубоко ведет борозду гражданской традиции в русской поэзии». «Жюри различных государственно-патриотических премий,— объясняет обозреватель,— пролили на него… обильный и заслуженный дождь лауреатства». Не будем гадать о качестве и характере гражданственности поэта. Цвет местной власти известен, и государственно-патриотическими премиями она просто так не швыряется. Но стал краснодарец томиться своим пусть и заслуженным, но однобоким признанием, захотел «расширить и обогатить палитру», пошел в любовную лирику. Читаем:
Я не сетую вовсе на небо,
Вспоминая прошедшие дни,
Но я все-таки с женщиной не был,—
Попадались лишь бабы одни.
Пил я водку с отчаянной злобой,
Усмехался в тарелке карась.
И любви не питая особой,
Мы в постель с ней ложились,
как в грязь.
Вот это по-нашему! Стихи покаянные, не сомневайтесь. Дальше выясняется, что женщине тоже приходилось не сладко, она тоже блудила в поисках идеала, и, в конце концов, все это — тоска по чистой любви. Благодарные краснодарцы числят небось своего поэта по одному рангу с Есениным. Хотя у Есенина не было ни такой утомительной публицистичности в любовной лирике, ни тем более тяги к морализаторству.
Авторы «Избранного» стремятся во что бы то ни стало изменить имидж, не сидится им в собственном образе. Вот вы, например, Константина Коледина воспринимали только как «мастера философской и пейзажной лирики». А ему это стало обидно, и он тоже прилюдно решил отдаться любви:
Посиди со мной, родная, в час-дурман.
Поглядим еще немного на туман.
Что-то на сердце мне осенью легло,
Запотело, задождливело стекло.
В сырость по такой погоде герои, конечно, не рвутся, не безумцы какие-нибудь, наблюдают туман через окошко, но лирика все же и впрямь восхитительная и совсем не философская, вот пристали тоже.
Не исключено, что такого рода поэзию как читали сорок лет назад, так и читают. Ничего не изменилось. Государство, правда, уже не столь опекает ее, но все же, как видим, отмечает и, главное, любит. Прежним, полуопальным, тоже, пусть и через губу, раздали награды. Но это был акт политический, подчеркивающий отречение от прошлой власти. К тому же власть поняла, что эта так называемая настоящая поэзия ничуть ей не опасна. Как меньшинство читало ее, так и читает. Пусть себе гуляют. На митинги ведь не зовут. До новых аутистов и экспериментаторов ей и вовсе дела нет. Поэзию перестали замечать, и она стала незаметна.
Вроде бы удачно зарифмовал, но все, конечно, не так просто. Про поэзию, которую любит и государство, и народ и которую по-прежнему читают, это только моя догадка. Может быть, и не читают. А уж в том, что читателям нашего журнала, как и мне, мало что говорят имена Николая Зиновьева и Константина Коледина, нет и вовсе ничего удивительного, пусть они и «народные». Но как обстоят дела с поэтами, которых референтная группа интеллектуалов некогда назвала поэтами?
Их тоже читают мало. Даже те, кто горько сетует на исчезновение поэзии из нашей жизни. Сборник одного известного и замечательного поэта, изданный тиражом в две тысячи экземпляров, пролежал на полках несколько лет, хотя до перестройки купить его книги можно было только у спекулянтов. Здесь-то в чем дело?
Понятно, ни Тарковский, ни Мориц никогда не были массовыми. Помню, как Александр Кушнер просил издательство сократить тираж выходящего сборника с 50 тысяч хотя бы до 20-ти: «У меня нет такого количества читателей. Книга будет лежать в магазинах. Это же стыдно». Тираж тогда благополучно разошелся (издательство «Детская литература»), но все же это самоощущение поэта нельзя не признать реалистичным.
Тогда каждый поэт любил говорить, что у него есть «свой» читатель, предполагалось, немногочисленный. Давид Самойлов писал:
Читатель мой — сурок.
Он писем мне не пишет!..
Но, впрочем, пару строк,
В которых правду слышит,
Он знает назубок…
Не надо Лужников, достаточно мне моего читателя. Так и комфортнее, и честнее. Так оно и было. Но что же, куда же теперь этот «мой», «свой» читатель сгинул?
Во всяком случае, такое невозможно объяснить лишь тем, что поэзия перестала быть оппозиционной по отношению к власти. Есть у человека проблемы посерьезнее, чем власть. Есть смерть, непосильность любви, психологическое или, хотите, экзистенциальное одиночество. Поэзия всегда была в этих делах помощником и собеседником. Проблемы не ушли, а поэзия — вдруг перестала пригождаться?
Объяснения, мне кажется, нужно искать не собственно в поэзии, но в устройстве жизни, в проблемах бытийных, если хотите. Блок однажды пожаловался: жизнь так изменилась, стала такой торопливой, что в разговоре невозможно процитировать стихи. Сколь изменился темп жизни за прошедший после этого высказывания век, мы ощущаем на себе.
Ни одна мысль, ни одно чувство не успевают отстояться и осознать себя. Медийные головы ежедневно сообщают нам нечто о смысле жизни и смерти, о счастье и любви. Укомплектованная информация и полуфабрикаты, дистанционный пульт и микроволновая печь, публичная обыденность смертей и катастроф. Коммунисты поздравляют с Пасхой, бандиты идут в депутаты и раздают подарки. Все сместилось и не собирается возвращаться на прежние места. А при этом — уютно! Человек не заметил, как массово отупел и обленился, не мечтает уже о небе в алмазах, довольствуется городским сиреневым куполом. Кто ж своими руками собирал хотя бы подснежники? Кто успел глубоко пережить смерть близкого, когда утром на работу, вечером две деловые встречи, а в ведре саженцы, и пятница послезавтра? На ночь можно еще посмотреть фильм про влюбленных киллеров и посочувствовать им, внимая равнодушно добру и злу.
Герой «Бесов» Шигалев мечтал установить рай на земле. Для этого девять десятых человечества «должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности». Комментируя это место, Розанов писал, что «действительно мощный исход из исторических противоречий: это — понижение психического уровня в человеке. Погасить в нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить его природу до ясности коротких желаний…».
И Достоевский, и Розанов считали, что, прибегнув к «хлебам земным», зло это совершит тоталитарная власть. История, однако, пошла более мирным и естественным путем: психический уровень в человеке понижается пропорционально развитию цивилизации. Зачем такому упрощенному созданию поэзия?
Николай Крыщук