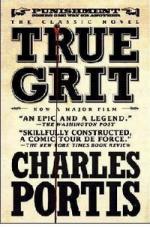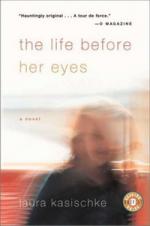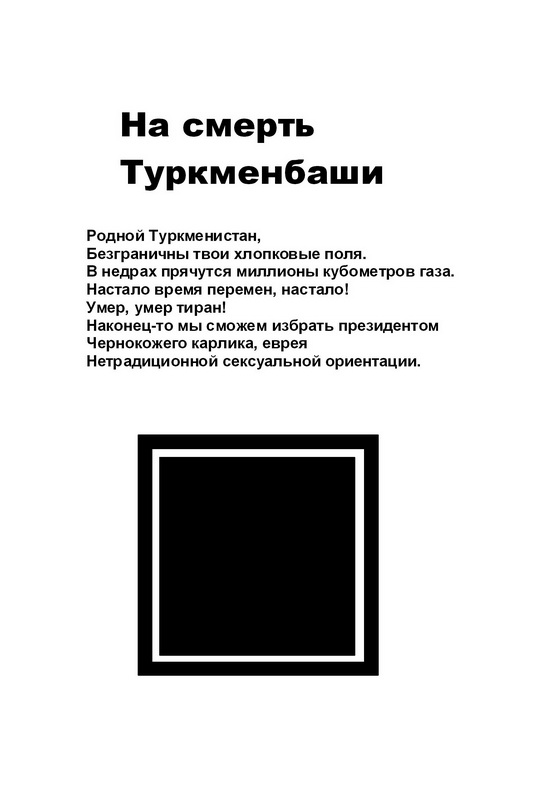Отрывок из романа
О книге Чимаманды Нгози Адичи «Половина желтого солнца»
— Хозяин-то слегка с приветом, всю жисть за границей, над книгами горбатился, а когда сидит у себя в кабинете, так сам с собой толкует, и на здрасьте не всегда ответит, а уж волосат-то как…
Угву шел рядом с тетушкой, слушая ее негромкий голос.
— Но человек он добрый, — добавила тетушка. — Будешь работать на совесть — и кормить тебя будут хорошо. Мясо каждый день будешь кушать. — Остановившись, она причмокнула и сплюнула в траву.
Угву не верил, что кто-то, пусть даже хозяин, у которого он теперь станет жить, кушает мясо каждый день. Но спорить не стал, поскольку слишком был исполнен радостного предвкушения, и слишком занят мечтами о новой жизни вдали от родной деревни. Шли они с тетушкой давно, с тех пор как вылезли из грузовика на стоянке, и полуденное солнце нещадно палило затылки. Но Угву не унывал. Он готов был идти час за часом, а солнце пускай себе жарит. Никогда прежде он не видел таких улиц, как за воротами университетского городка — асфальт такой гладкий, что тянуло прижаться к нему щекой. Не подберешь слов, чтобы описать все сестре Анулике: ярко-голубые домики выстроились в шеренгу, ну точь-в-точь нарядные человечки, а живые изгороди меж ними подстрижены до того ровно, что стали похожи на столики из листьев.
Тетушка шагала чуть впереди, стукая шлепанцами, и шаги ее разносились эхом по тихой улице. Интересно, ей тоже, как и ему, раскаленный асфальт жжет ноги сквозь тонкие подошвы? Миновали табличку «Одим-стрит», и Угву губами произнес «стрит» — он читал вслух все коротенькие английские слова, что ему попадались. Когда подошли к воротам усадьбы, пахнуло чем-то сладким, пряным — наверное, ароматом цветущих у забора кустов, аккуратно подстриженных островерхими холмиками. Трава на лужайке блестела на солнце, вокруг порхали бабочки.
— Я сказала Хозяину, что ты у нас головастый, быстро всему учишься. Osiso-osiso (Быстро-быстро), — предупредила тетушка.
Угву вежливо кивнул, хотя слышал эти слова уже не раз, вместе с историей, как ему выпала удача: неделю назад тетушка подметала пол в коридоре математического факультета, услышала, что Хозяин ищет слугу, чтобы в доме прибирать, и тут же вызвалась помочь — ни машинистка, ни курьер и рта раскрыть не успели.
— Я буду стараться, тетушка, — пообещал Угву. Он засмотрелся на машину в гараже — ее синий корпус опоясывала блестящая, как ожерелье, полоска металла.
— И смотри, не забывай, когда кличут, отвечать «Да, сэр!»
— Да, сэр! — повторил Угву.
Они стояли перед стеклянной дверью. Угву подмывало потрогать цементную стену, так не похожую на стены маминой хижины-мазанки, хранившие отпечатки ладоней, строивших дом. На миг ему захотелось очутиться в хижине мамы, под тростниковой крышей, в прохладном сумраке; или в домике тети, единственном в деревне крытом рифленым железом.
Тетушка постучала в стеклянную дверь, затянутую изнутри белой занавеской. Чей-то голос произнес по-английски:
— Входите, открыто.
Угву и тетушка разулись у входа. Угву еще не видал такой огромной комнаты. Коричневые кресла полукругом, столики между ними, шкафы ломятся от книг, в центре большой стол, с красными и белыми искусственными цветами в вазе — и все равно слишком много свободного места. Хозяин, в майке и шортах, сидел в кресле. Сидел не прямо, а как-то боком — спрятал лицо за книгой и будто вовсе забыл, что к нему пришли.
— Здравствуйте, сэр! Вот он, мальчик, — сказала тетушка.
Хозяин оторвался от книги. Кожа у него была очень темная, как кора старых деревьев, а грудь и ноги в черных волосах. Он снял очки.
— Мальчик?
— Слуга, сэр.
— Ах да, вы привели слугу. I kpotago ya (Вы его привели). — Язык игбо в устах Хозяина звучал мягко, напевно — так говорят на игбо те, кто часто говорит по-английски.
— Он прилежный, — заверила тетушка. — Хороший мальчик. Вы просто скажите ему, что делать надо. Спасибо, сэр!
Хозяин что-то промычал в ответ, глядя на Угву и тетушку рассеянно, будто они отвлекали его от важных мыслей. Тетушка потрепала Угву по плечу, шепнула, что все у него получится, и повернула к двери. Едва она вышла, Хозяин снова нацепил очки и уткнулся в книгу, вытянув ноги и все сильнее сползая набок. Даже когда переворачивал страницы, он не смотрел на своего нового слугу.
Угву ждал у двери. В окна лился солнечный свет, ветерок колыхал занавески. Тишину нарушал только шорох страниц. Постояв немного, Угву стал подбираться к книжной полке, будто желая спрятаться, пока не опустился на пол, зажав меж коленок плетеную сумку из волокон пальмы рафии. Посмотрел на потолок, такой высокий, белый-белый. Закрыл глаза и попытался, не глядя, представить эту просторную комнату с диковинной мебелью, но ничего не получилось. Угву открыл глаза, вновь охваченный изумлением, и повертел головой: не сон ли это? Подумать только: он будет сидеть в этих креслах, мыть этот гладкий, скользкий пол, стирать эти прозрачные занавески!
— Kedu afa gi? — спросил вдруг Хозяин, и Угву вздрогнул от неожиданности.
Угву встал.
— Как тебя зовут? — повторил Хозяин и сел прямо. Он едва умещался в кресле: мускулистые руки, широкие плечи, густая копна волос. Угву-то думал, что Хозяин старый и слабый, и теперь боялся не угодить этому могучему человеку, которому помощь вроде и не нужна.
— Угву, сэр.
— Угву. Ты из Обукпы?
— Из Опи, сэр.
— А лет тебе… что-то между двенадцатью и тринадцатью. — Хозяин прищурился. — Тринадцать, пожалуй, — добавил он по-английски.
— Да, сэр.
Хозяин вновь углубился в чтение. Угву стоял. Пролистав несколько страниц, Хозяин снова посмотрел на него.
— Ngwa (Ладно), ступай на кухню; возьми что-нибудь из холодильника, поешь.
— Да, сэр.
В кухню Угву вошел с опаской, шажок за шажком. Увидев белый ящик высотой почти с него самого, он сообразил: холодильник. Угву слышал про такое от тетушки. «Холодный сарай, — объясняла она, — еда в нем не портится». Угву открыл дверцу, и от дохнувшего холода у него перехватило дыхание. На полках пакеты и банки — апельсины, хлеб, пиво, лимонад, а на самом верху — лоснящаяся жиром жареная курица, почти целая, только одной ножки не хватало. Угву потрогал курицу. Холодильник тяжело дышал. Угву снова тронул курицу, облизал палец, отломил вторую ножку — и вскоре в руке осталась только дочиста обглоданная косточка. Потом оторвал большой ломоть хлеба — таким он с радостью поделился бы с братьями и сестрами, если б кто-нибудь из родных привез гостинец. Ел он торопливо — а вдруг Хозяин передумает? Угву уже покончил с едой и стоял у раковины, вспоминая тетушкины объяснения, как открывать кран, чтобы вода хлынула как из родника, и тут вошел Хозяин, уже в цветастой рубашке и брюках. Сквозь дырочки в кожаных шлепанцах виднелись пальцы ног — ухоженные, почти женские; такие пальцы бывают у тех, кто всегда ходит в обуви.
— В чем дело? — спросил Хозяин.
— Сэр?.. — Угву смущенно покосился на раковину.
Хозяин шагнул вперед, повернул металлический кран.
— Пройдись по дому, а сумку поставь в первой комнате по коридору. Я иду на улицу, проветриться, i nugo (Слышишь?)?
— Да, сэр.
Хозяин вышел через заднюю дверь, Угву посмотрел ему вслед. Оказывается, Хозяин не очень высокий; ходит он быстрым, упругим шагом, и похож на Эзеагу, первого у них в деревне борца.
Угву закрыл кран, открыл, снова закрыл. Открывал, закрывал и засмеялся от радости, дивясь чудо-водопроводу и нежной курятине с хлебом, согревавшей его изнутри. Угву прошел через гостиную в коридор. Всюду книги — на полках и столах в каждой из трех спален, на раковине и тумбочках в ванной, стопки высотой до потолка в кабинете, кипы старых журналов в кладовке, рядом с ящиками колы и коробками пива «Премьер». Некоторые лежали открытые, страницами вниз — видно, Хозяин взялся читать отвлекся на что-то другое. Угву пытался прочесть заглавия, хотя большинство оказались слишком длинными и трудными. «Непараметрические методы». «Исследование Африки». «Великая цепь бытия». «Влияние норманнского завоевания на Англию». Угву блуждал по комнатам на цыпочках, чтобы не испачкать грязными ногами пол, и чем дальше, тем сильнее хотелось ему угодить Хозяину, остаться в этом доме с прохладными полами и холодильником, набитым всякой едой и даже мясом. Он разглядывал унитаз, поглаживая черное пластмассовое сиденье, когда услыхал голос Хозяина:
— Где ты, друг мой? — Слова «друг мой» Хозяин произнес по-английски.
Угву кинулся в гостиную.
— Да, сэр!
— Так как тебя зовут?
— Угву, сэр.
— Nee anya, смотри, Угву. Знаешь, что это такое? — Хозяин указал на металлический ящик, утыканный подозрительными на вид кнопками.
— Нет, сэр.
— Радиола. Новая, отличная. Не надо крутить ручку, как на старых граммофонах. Ее нужно очень беречь, очень. И чтоб ни капли воды не попало.
— Да, сэр.
— Я иду на теннис, а потом в университетский клуб. — Хозяин взял со стола несколько книг. — Когда вернусь, не знаю. Так что располагайся, отдыхай.
— Да, сэр.
Проводив глазами машину Хозяина, Угву вернулся в дом и стал разглядывать радиолу, не смея коснуться. Потом снова бродил по дому, трогая книги, занавески, мебель, посуду, а когда стемнело, включил свет и диву дался, до чего яркая лампочка светит под потолком, совсем не то, что масляные лампы дома, которые отбрасывают на стены длинные тени. Мама сейчас, наверное, готовит ужин, толчет в ступке акпу (Акпу — пюре из маниоки, подается к супу). Чиоке, младшая жена отца, варит жидкий суп в котле, стоящем на огне на трех булыжниках. Дети уже вернулись с речки и носятся наперегонки под хлебным деревом. А Анулика присматривает за ними. Она теперь самая старшая, ей улаживать ссоры младших из-за кусочков вяленой рыбы в супе. Она дождется, пока доедят акпу, и поделит рыбу — каждому по кусочку, а самый большой возьмет себе, как делал до сих пор Угву.
Угву открыл холодильник и съел еще немножко хлеба и курицы; жевал быстро и снова набивал рот, а сердце колотилось как от бега. Потом он оторвал несколько кусочков мяса и оба крылышка, засунул в карманы шорт и отправился в спальню. Надо их приберечь до тетушкиного приезда, пусть передаст Анулике. И для Ннесиначи пусть оставит кусочек. Уж тогда Ннесиначи наверняка обратит на него внимание. Угву не знал точно, кем приходится ему Ннесиначи, знал только, что они из одного рода, поэтому им нельзя жениться. И все равно ему было не по душе, когда мама называла Ннесиначи его сестрой: «Сходи отнеси пальмового масла матушке Ннесиначи, а если ее нет дома — отдай своей сестре».
Ннесиначи всегда говорила с ним рассеянно, блуждая взглядом по сторонам, будто ей дела нет до него. Иногда путала Угву с Чиеджиной, двоюродным его братом, совсем на него не похожим, а когда Угву поправлял ее, отвечала: «Прости, Угву, мой брат». Вежливо отвечала, но холодно, чтобы он к ней больше не приставал. И все равно Угву нравилось бегать к ней в дом со всякими поручениями. Он знал, что можно будет увидеть, как Ннесиначи, низко склонившись над очагом, раздувает огонь, или помогает матери резать листья тыквы угу для супа, или просто сидит возле дома и смотрит за малышами, и ее накидка чуть приоткрывает грудь. С тех пор как стали торчать эти острые груди, Угву было интересно, какие они на ощупь — мягкие или, наоборот, плотные, как незрелые плоды дерева убе (Убе — вид груши, растущий в тропиках, с мелкими, продолговатыми плодами). Жаль, что Анулика такая плоская — и непонятно почему, ведь они с Ннесиначи почти ровесницы, — а то он потрогал бы сначала ее грудь. Анулика, конечно, хлопнет его по руке, а то и по щеке, но он времени терять не станет — хвать, и убежит; но будет знать хотя бы, чего ожидать, когда он прикоснется к груди Ннесиначи.
Но может статься, что он так никогда и не прикоснется к ней, ведь дядя Ннесиначи пригласил ее в Кано учиться ремеслу. Она уедет на Север к концу года, как только ее младший брат, которого она таскает на себе, встанет на ножки. Угву бы порадоваться за нее вместе со всей родней: как-никак на Севере можно разбогатеть; люди уезжают туда торговать, а воротясь домой, сносят хижины и строят дома с крышами из рифленого железа. Но наверняка Ннесиначи приглянется какому-нибудь толстопузому торговцу с Севера, и тот явится к ее отцу с пальмовым вином, а Угву тогда останется только попрощаться с грудью Ннесиначи. Угву приберегал их — ее груди — напоследок в те ночи, когда ласкал себя, сперва потихоньку, потом все сильней, покуда не вырывался глухой стон. Вначале он всегда воображал ее лицо, круглые щеки, зубы, капельку желтоватые, как слоновая кость, потом — ее объятия и уже под конец — ее груди; он представлял их то упругими — так бы и куснул, — то такими мягкими, что боялся своими воображаемыми ласками причинить ей боль.
В эту ночь Угву тоже хотел помечтать о ней, но удержался. Только не в первую ночь в доме Хозяина, только не на этой кровати, совсем не похожей на плетеный коврик из рафии, оставшийся дома. Угву пощупал мягкий, упругий матрас. Посмотрел, сколько на нем слоев ткани: на них спят или убирают перед сном? Подумав, улегся поверх покрывал, сжавшись в комок.
Ему приснилось, будто Хозяин зовет его: «Угву, друг мой!» Он проснулся — Хозяин стоял в дверях и смотрел на него. Значит, это не сон. Угву слез с кровати и оторопело глянул на окна с задернутыми шторами. Уже поздно? Выходит, он разнежился на мягкой кровати и проспал? Обычно он вставал с первыми петухами.
— Доброе утро, сэр!
— Чую жареную курицу.
— Простите, сэр.
— Где курица?
Угву выудил из карманов шорт кусочки курятины.
— У вас в поселке принято есть во сне? — спросил Хозяин. Он был в странном одеянии, смахивающем на женское пальто, и рассеянно теребил повязанную вокруг пояса веревку.
— Что, сэр?
— Ты хотел позавтракать в постели?
— Нет, сэр.
— Продуктам место на кухне или в столовой.
— Да, сэр.
— Сегодня убери на кухне и в ванной.
— Да, сэр.
Хозяин вышел, а Угву, дрожа всем телом, остался посреди комнаты с кусочком курицы в протянутой руке. Вот досада, что путь в кухню лежит через столовую. Со вздохом сунув курицу обратно в карман, Угву потопал из комнаты. Хозяин сидел за столом, перед ним на стопке книг стояла чашка чая.
— Знаешь, кто настоящие убийцы Лумумбы? — спросил он Угву, подняв взгляд от журнала. — Американцы и бельгийцы. А Катанга (Катанга — провинция Конго, долгое время боровшаяся за независимость. В 1960 провозгласила себя независимым государством, что привело к вооруженному конфликту с центральными властями страны.) ни при чем.
— Да, сэр, — отозвался Угву. Ему хотелось, чтобы Хозяин продолжал говорить, хотелось слушать и слушать его густой голос, мелодичную смесь игбо с английскими словами.
— Ты мой слуга, — продолжал Хозяин. — Если я прикажу тебе выйти на улицу и избить палкой женщину, и ты поранишь ей ногу, кто будет в ответе — ты или я?
Угву смотрел на Хозяина, качая головой: неужто так странно на курицу намекает?
— Лумумба был премьер-министром Конго. Знаешь, где Конго?
— Нет, сэр.
Хозяин вскочил и исчез в кабинете. У Угву задрожали веки от стыда и страха. Неужели Хозяин отправит его домой за то, что он по-английски скверно говорит, курицу в карман сует и не знает чужих названий? Хозяин принес большой лист бумаги и разложил на столе, сдвинув в сторону книги и журналы. Начал показывать ручкой:
— Вот наш мир, хотя те, кто чертил карту, свою землю поместили над нашей. На самом деле нет ни верха, ни низа, ясно? — Хозяин свернул лист в трубку. — Наша Земля круглая, без конца и края. Nee anya, смотри, это все вода, моря-океаны, а здесь Европа, а вот наш континент, Африка. Конго в середине. Чуть выше по карте — Нигерия, а вот Нсукка, на юго-востоке. Здесь мы живем. — Хозяин ткнул ручкой.
— Да, сэр.
— Ты в школу ходил?
— Окончил два класса. Но я всему быстро учусь.
— Два класса? Давно?
— Несколько лет назад, сэр. Но я всему быстро учусь.
— Почему ты бросил школу?
— У отца был неурожай, сэр.
Хозяин задумчиво кивнул.
— И отец не нашел, у кого взять в долг на твою учебу?
— Что, сэр?
— Твой отец должен был занять денег! — отрезал Хозяин и продолжал по-английски: — Образование превыше всего. Как противостоять угнетению, если мы не понимаем его сути?
— Да, сэр! — Угву с готовностью кивнул. Хотелось быть на высоте, и все из-за неистового огня в глазах Хозяина.
— Я запишу тебя в начальную школу при университете. — Хозяин постукивал ручкой по листу бумаги.
Тетушка обещала Угву, что за хорошую службу Хозяин через несколько лет отдаст его в коммерческое училище, где учат машинописи и стенографии. Про начальную школу при университете она тоже упоминала, но сказала, что там учатся дети преподавателей и ходят они в синей форме и белых узорчатых носках такой тонкой работы, что диву даешься, сколько труда потрачено на безделицу.
— Да, сэр, — отозвался Угву. — Спасибо, сэр.
— Пойдешь в третий класс, наверняка будешь там самым старшим, — продолжал Хозяин. — И чтобы тебя уважали, хочешь не хочешь, а придется стать лучшим. Понял?
— Да, сэр!
— Садись, друг мой.
Угву выбрал самый дальний от Хозяина стул и уселся неловко, ноги вместе. Стоять было удобнее.
— На все, что тебе будут рассказывать в школе об Африке, есть два ответа: правдивый — и тот, что нужен на экзамене. Ты должен читать книги и знать оба ответа. Книги я тебе дам, прекрасные книги. — Хозяин глотнул чаю. — В школе тебе скажут, что реку Нигер открыл белый по имени Мунго Парк. Ерунда. Наши предки ловили в Нигере рыбу, когда ни Мунго Парка, ни его дедушки на свете не было. Но на экзамене напишешь: Мунго Парк.
— Да, сэр. — Чем этот самый Мунго Парк так досадил Хозяину?
— А кроме «да, сэр» ты ничего не умеешь говорить?
— Сэр…
— Спой мне песню. Какие песни ты знаешь? Давай! — Хозяин снял очки. Брови его были сдвинуты, лицо серьезное. Угву запел старую песню, которую слышал на ферме у отца. Сердце больно колотилось. «Nzogbo nzogbu enyimba, enyi…» («Иди, иди, могучий слон…» (маршевая песня, прославляющая мощь идущего слона))
Угву начал тихонько, но Хозяин постучал ручкой по столу: «громче!» — и Угву запел в полный голос, а Хозяин все требовал: «громче», пока Угву не сорвался на крик. Прослушав песню несколько раз, Хозяин остановил его.
— Хватит, хватит. Умеешь заваривать чай?
— Нет, сэр. Но я быстро учусь, — ответил Угву. Пение расслабило его, дышать стало легче, и сердце уже не выпрыгивало из груди. И он окончательно убедился, что Хозяин сумасшедший.