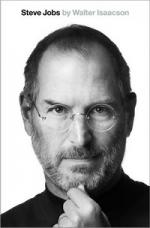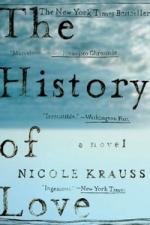- Издательство Corpus, 2012 г.
- Один из критиков сравнил повести Е. Бочоришвили с океанским пароходом, на палубе которого играет цыганский оркестр. Там любят и ссорятся, поют и танцуют и много плачут. Все пассажиры немного сумасшедшие и больше мечтают о жизни, чем живут. Но исторический океан штормит, люди исчезают в тюрьмах, пропадают на войнах, гибнут от рук голодных пацанов-бандитов и советских танков, которые вдруг стали убивать бывших сограждан — безоружных детей, стариков, женщин. Истории походя ломает человеческие судьбы, неважно, кто находится у власти: Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев или Горбачев.
- Купить книгу на Озоне
Утром Отец рассказывал Сыну, как
умрет. Он выдавал короткие фразы,
из которых не выбросишь слов. Сын
слушал, улыбаясь, откинув голову
назад. Конечно, он не верил.
В шесть вечера Отец зашел в свой кабинет и упал.
В кабинете было полно людей. Все столпились
вокруг, чтоб посмотреть. Его понесли по длинному
коридору. Руки болтались на ходу, доставая
до земли.
Дед как раз закончил письмо к Отцу. «Я летаю
во сне, — писал Дед. — Это к смерти. Или просто
мало секса». Он обогнал свое письмо. Через
три дня он вскрывал его вместе с телеграммами
соболезнования над гробом Отца. Дед не узнал
почерк.
Сын не мог себе простить, что он не почувствовал
смерть Отца. О Матери нечего и говорить.
Другая кровь. А Дед был уже не тот. Дед ездил
с Сыном выбирать место на кладбище и договариваться
о памятнике. Во всех кабинетах вставали,
когда он входил. Высокий красавец, перстень
на мизинце. Дед прекрасно вел переговоры.
Но каждый раз, садясь к Сыну в машину, он спрашивал:
«О, новая машина? Поздравляю!»
Дед все еще просыпался вдруг утром, когда
море было розовым, и стучал палкой в потолок.
Третья жена, босая, молча сбегала из комнаты под
самым шпилем. Она спала не раздеваясь — длинная
юбка, длинная кофта. Днем она надевала
поверх халат, а в холод еще шаровары. Сын только
раз видел ее в накинутом черном пиджаке, и лучше
бы он этого не видел. На похоронах Отца ее
не было, она никогда не появлялась в обществе
вместе с Дедом.
Вторая жена приставляла железную кружку
к стене. Потом она повязывала голову платком
и выходила к соседскому забору — рассказать, что
слышала. Ее подбивали на действия. Она ходила
жаловаться на Деда, что у нее от него ребенок —
она водила Лали с собой, — а он не расписывается.
И сожительницу привел. Дед натягивал
сапоги до колена. Третья жена доставала из чулка
деньги. Он ходил по тем же кабинетам — его все
знали — и раздавал взятки. Дед писал Отцу, что
новые чиновники слишком нахальные, присылают
нарочных: добавьте еще, а то мало.
Сын разлюбил май, самый красивый месяц
в Тбилиси. Деревья в белом цвету. Тополиный
пух на асфальте, как снег. Лучше не открывать рта
на ветру. Ветер всаживает пух в горло, как кинжал.
Люди кашляют, сгибаясь до земли. Толстые
женщины подходят к ближайшему дереву, упираются
в него обеими руками и гудят, как паровозы.
Ветер бьет их юбки, как национальные флаги.
Сын продолжал разговаривать с Отцом,
составлял фразы за себя и за него. Потом он работал
над ними — сжимал предложения, отбрасывал
ненужные слова. Утром они были готовы, как
для печати. И ему некому было их показать. Каждое
утро Сын ощущал заново, что Отца больше
нет. «Я умру, а они не поверят. Понесут куда-то,
пытаясь спасти. И руки будут свисать до земли.
И будет столько цветов и женщин — мое сердце
все равно разорвалось бы от их красоты».
Сыну было года два, когда Отец заметил, что он
запоминает все, что слышит. С лицами было плохо.
Сын забывал Деда, когда тот не появлялся
в Тбилиси две-три недели. Но длинные поэмы
он заучивал с первого раза, некоторые слова он
не мог выговорить, но ритм держал: та-та-та. Он
мог повторить наизусть всю программу новостей.
Мать восхищалась. Сын стал гордостью школы.
В девять лет он читал «Витязя в тигровой
шкуре» по памяти на концерте в городском парке.
Но на параде 7 Ноября Сын не смог показать Отцу
своих учителей. Он их не различал. Отец посылал
Сына за хлебом и просил запомнить лицо продавца.
Потом он заводил его обратно через пять
минут и спрашивал: «Ну, кто?» Сын переживал
не меньше его.
Отец обсуждал это с Дедом. Они нервничали.
Не с кем было посоветоваться. В Грузии сплетня
убивает быстрее, чем любая болезнь. Сын говорил,
что фразы жужжат в его голове, как пчелки,
и он кричал во сне, чтоб заставить их замолчать.
Говорил о себе Сын всегда в третьем лице.
Сын уже терял сознание, падал, а потом,
придя в себя, плакал. Ему было стыдно терять
сознание. Вдобавок произошло несчастье с глазом
— недосмотр родителей, как выражался Дед.
Это все запросто могло сделать мальчишку бабой.
Мать повела Сына к Дине, своей подруге.
«Ей глаз совсем не мешает, — шипела Мать, —
она переспала с половиной Тбилиси».
Дина смотрела на Сына улыбаясь, откинув
голову назад. В Тбилиси вечно считалось, что
если женщина знала больше одного мужчины,
значит, она переспала с половиной человечества.
Сыну было двенадцать в это время, но с ним
уже случилось то, что случается с мальчиками
постарше. Дед и Отец проворонили этот момент
за своими заботами о его памяти и глазе, который
открывался теперь только наполовину. И он им
не сказал. Он думал, как все мальчики, что это
может случиться только с ним.
Дед все чаще приезжал вместе с Лали. Она
была на два года старше Сына и уже стала красавицей.
Мать завидовала. Она говорила Сыну:
«Поворачивай голову набок, будет не так заметно».
Но он откидывал голову назад, как Дина.
Мать считала, что глаз навсегда испортил картину.
Сына больше волновало, что он начал вонюче
пахнуть потом. Его нос так удлинился, что лез
в рот. Он стеснялся Лали. Лали спрашивала его,
постоянно: «Ты уже целовался взасос?» От этого
жужжания невозможно было избавиться.
Дед ездил в Тбилиси почти каждую неделю. Третья
жена выносила маленький чемодан с нижним
бельем и варенными вкрутую яйцами. Он шел
пешком на вокзал. Ему казалось, что все всё знают
и сплетничают. Он вздрагивал, когда его спрашивали
о здоровье Отца или Сына. В это время
в моду входили золотые коронки, и его пациентами
становились начальники разных рангов.
Но никто не мог помочь его мальчику, никто.
Паровоз выплевывал ему в лицо черный дым.
Дед верил в народную мудрость. В вагоне он
заводил разговоры с крестьянами, что ехали торговать
в Тбилиси. У моих знакомых, знаете ли,
сын… Крестьяне почтительно слушали городского
доктора. Красивый мужчина, перстень
на мизинце. Они понимали, что Дед рассказывает
о своем.
Мать ничего не замечала. Хотя смотрела в оба
глаза. Да, глаз, если бы не глаз. Цопе уже начал
делать пластические операции. У одной девушки
он достал кость из бедра и вставил ей в подбородок.
Он делал новые носы, вздернутые, как у русских.
Они получались одинаковыми, хотя Цопе
искренне верил, что каждый раз лепит что-то другое.
Носы стали узнаваемы. Их называли его именем,
«нос Цопе».
Мать познакомилась с Цопе. «Советский
танк, — говорил о Матери Отец, — не остановишь».
Но Цопе не оперировал детей. И пока
ни одному мужчине не сделали пластической операции.
Мать знала, что Отец не согласится. Сын
ведь не баба.
Дед молился на портрет Маргариты. В Бога
Дед не верил, всех служителей церкви считал
педиками. Но Маргарита была святая. Никогда
в жизни не раскаивался Дед, что вернулся домой
из-за нее. Князь Арешидзе прислал ему письмо
в Париж, где Дед учился вместе с братьями,
что нашел для него невесту и просит приехать
на свадьбу. В Париже умирало лето. Желтизна
вспыхивала в листве внезапно, как седина. Стук
женских каблучков заглушал цокот лошадиных
копыт. Секс назывался близостью. Дед был близок
с половиной Парижа.
Дед разговаривал с Маргаритой, сидя на кровати
перед ее портретом. Третья жена лежала молча,
как всегда. Дед не обсуждал с бабами своих
проблем. Но Лали привезла из Тбилиси сплетню,
что Сын повторяет все, как попугай, и кричит
во сне, как идиот. И теперь Вторая жена имела
о чем поговорить, когда они вместе с Третьей
женой готовили по вечерам обед.
Маргарита на портрете была мало похожа
на себя. Фотограф раскрасил ей губы, щеки, кофточку
— в синий цвет. У нее никогда не было
такой кофточки. К Деду во сне она приходила
другой.
«Из него сделают шпиона или клоуна, — объяснял
Дед. — Ты же знаешь этих коммунистов.
Пусть не выделяется. Пусть будет как все. Маргарита,
ни о чем тебя больше не прошу».
Однажды Вторая жена метнула в Деда этот
портрет. Когда она обнаружила, что Дед спит
со своей медсестрой. Тогда Дед сорвал со стены
ружье и взял ее на прицел, как куропатку. Второй
раз в жизни он угрожал ей ружьем, когда Лали
сбежала замуж в семнадцать лет. Но тогда Вторая
жена бросилась на дуло грудью: стреляй!
И Маргарита дала совет Деду. Он любил
потом годами рассказывать, как она сидела ночью
на краю кровати и как поцеловала его в губы.
(«Взасос?» — пыталась выяснить Лали у Сына.)
И наутро он побежал на вокзал и до вечера расхаживал
там по перрону, дожидаясь поезда.
Здание вокзала отстраивали в это время, оно
было в лесах. Все равно Дед заметил, что в названии
города Сухуми сделали ошибку. Пустая
дырка для часов и чуть пониже — каменная
ошибка. Дед сказал об этом начальнику вокзала,
когда тот вышел показать Деду рот. Люди
показывали ему зубы везде, где могли. Дед говорил
об этом: жаль, что я не гинеколог. Начальнику
было плевать. Нижний слева, с кариесом,
не давал ему жизни.
Через двадцать лет Дед наблюдал, как по зданию
били из танка, по самым каменным буквам.
Но он уже мало понимал к тому времени. Люди
бегали и кричали в огне и дыме, а он сидел, аккуратный
и терпеливый, в натянутых до колена старомодных
сапогах, с пустым чемоданчиком. Он
ехал к Отцу, который уже умер, и составлял фразы
покороче, чтоб не утомить Сына, его маленького
мальчика.
Совет Маргариты был мудрым, как все, что делала
эта женщина. Или как все, что ей приписывали.
Говорили, например, что она могла взглядом
остановить лошадь. Вылечить падучую болезнь.
Заговорить сумасшедшего. Сын сомневался. Что ж, ее, румяную в синей кофточке, каждый раз ставили
на пути галопирующего животного?
К тому времени, как Дед вбежал к ним в дом
и заорал с порога: «Фраза, мой мальчик, фраза!»,
Сын уже сам догадался, что ему делать. Или
ему так казалось, что он сам догадался. Может,
магическое Маргаритино влияние действительно
существовало. Все эти предчувствия, странные
сны. Дед никогда не сообщал о своем приезде
заранее. Но Отец всегда шел встречать его на вокзал.
У Сына была та же кровь. Он чувствовал
Отца и Деда на расстоянии, как пальцы собственной
руки. Когда им всем поставили телефоны —
за самый первый в своей жизни телефон Дед
попал в тюрьму и чуть не погиб, — они угадывали,
кто звонит, еще до «алло».
Где ж она была, Маргарита, когда умер Отец?
Так Сын начал писать. Фразы, которые ложились
на бумагу, не звучали в голове. Память
держала их цепко, но молча. Сын учился спрессовывать
предложения. Слова, выпадавшие в осадок,
умирали. Чтобы запомнить лицо, Сын должен
был описать его для себя. Кратко, очень кратко.
И не повторяться. Это были тяжелые упражнения.
На них ушли десятилетия.
Мать называла это упорство талантом. Она
похищала листочки Сына и показывала их Дине.
Сын писал о голодных детях и тонущих кораблях.
Непонятно, почему эти фразы жужжали в его
голове. Однажды Мать отнесла в газету опус Сына
о том, как корабль дернулся на горизонте, уткнулся
носом в небо, в воду, в небо, в воду — и пошел
ко дну. Опус не взяли. Мать напоминала об этом
Сыну почти каждый день. Не взяли, не взяли.
Сын знал, что Мать ворует листки, и писал
исключительно для Дины. Он хотел быть трагическим
героем, чтобы Дина его жалела. Чтоб она
гладила его по голове белыми руками, а он обнимал
ее за талию, упираясь носом в ее апельсины.
Свой самый первый в жизни выстрел, почти
в потолок, Сын сделал именно в тот момент, когда
составил фразу, что Динины груди — как апельсины.
Матери не давали покоя его писания. Ей нужна
была слава, ах. В детстве она мечтала стать
знаменитой пианисткой. Это когда она жила
в городе Житомире, который фашисты бомбили
с первого дня войны. Где бомбы падали с неба
со свистом и скатывались по крышам, как орехи.
Взрыв. Огонь. Люди не понимали, что происходит.
На площадь Ленина упала бомба и не взорвалась.
Кто-то бывалый взял ее в руки и раскрутил.
Внутри была записка по-немецки: чем можем, тем
поможем.
Матери было десять лет, ее сестре — семь. Родители
сказали им сидеть дома и не высовываться.
Пока они узнают, что это. Война? Но Бабулька
пришла за Матерью и ее сестрой и вывела их во
двор. В домашних тапочках. В этот момент бомба
проломила крышу и взорвалась. Повезло только
Ленину.
Потом они ехали в товарном вагоне и каждый
держал чайник с водой. А Бабулька не поехала.
Потому что Дедулька-Соловейчик не захотел. Он
сказал: «Что они с нами, старыми, сделают?» Он
был лесничим, он ходил по лесу и пел. За это его
называли «Соловейчик». Их двоих провели босиком
по снегу, заперли в синагоге и подожгли. Вот
что с ними, старыми, сделали.
В поселке Комсомольск, на реке Кундузда,
Мать раскладывала нарисованные на полотенце
клавиши и играла по памяти. В Житомире пианино
было только у тети Гени. Мать играла на нем
по воскресеньям, когда они всей семьей ходили
в гости. С пианино снимали чехол.
Мать с сестрой проходили семь километров
по степи, чтоб спеть для раненых в госпитале. Им
давали паек за концерт: две картошки, сто грамм
хлеба, три конфеты. Мать разносила почту. Письма
были треугольные и квадратные, без марок.
Квадратные письма — похоронки.
Тетя Геня выменяла пианино на мешок картошки,
когда они вернулись из эвакуации. Все
четырнадцать родственников жили у нее в двух
комнатах. Дядя Гриша пришел с фронта и женился.
Он спал с женой на столе, Мать с сестрой — под
столом. У дяди Гриши был голос Дедульки-Соловейчика.
По вечерам он напевал: «Братцы, тушите
свет, братцы, терпенья нет».