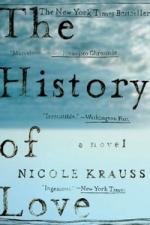Отрывок из романа
О книге Николь Краусс «Хроники любви»
Когда обо мне напишут некролог… Завтра.
Или там послезавтра… В нем будет сказано: «Лео Гурски умер в квартире,
полной всякого дерьма». Странно еще, что
меня заживо не погребло. Квартирка-то небольшая.
Приходится стараться изо всех сил, чтобы оставался проход от кровати до туалета, от туалета до кухонного стола и от кухонного стола до входной двери. Напрямую от туалета до входной двери пройти
невозможно, надо идти мимо кухонного стола.
Прямо как на бейсбольной площадке: кровать —
домашняя база, туалет — первая, кухонный стол —
вторая, а входная дверь — третья. Когда я лежу в
постели и слышу звонок в дверь, чтобы открыть ее,
нужно сделать круг через туалет и кухонный стол.
Если это Бруно, я впускаю его, не говоря ни слова,
и трусцой спешу назад к кровати, а в ушах звенит
рев невидимой толпы.
Часто гадаю, кто будет последним человеком,
видевшим меня живым. Готов спорить — разносчик
из китайской закусочной. Четыре раза в неделю что-нибудь у них заказываю. Когда бы парень ни пришел, всегда очень долго ищу бумажник. Он стоит
в дверях и держит жирный пакет, а я думаю: не сегодня ли вечером доем свой ролл, залезу в постель,
а во сне у меня и откажет сердце.
Специально стараюсь быть на виду. Иногда,
когда выхожу на улицу, покупаю сок, даже если не
хочу пить. Если в магазине много народу, нарочно
просыпаю мелочь на пол, да так, чтобы монетки
разлетелись во все стороны. Встаю на колени и собираю их. Опускаться на колени мне очень тяжело, а вставать еще тяжелее. Так что? Наверное, я
выгляжу как полный идиот. Захожу в «Спортивную
обувь» и спрашиваю: «Какие у вас есть кроссовки?»
Продавец с сомнением оглядывает меня сверху донизу и указывает на единственную пару «Рокпортс», белые такие. «А-а, — говорю, — эти у меня уже есть», — и иду к полке, где «Рибок». Выбираю там что-нибудь весьма отдаленно смахивающее
на ботинок, какой нибудь водонепроницаемый
башмак, и прошу сорок первый размер. Паренек
снова смотрит на меня, на этот раз внимательнее.
Он смотрит долго и упорно. «Сорок первый размер», — повторяю я, сжимая в руках перепончатый
башмак. Он качает головой и идет за моим размером. Когда возвращается, я уже снимаю носки. Засучиваю штанины и смотрю на свои старческие
ступни; с минуту тянется неловкое молчание, наконец он понимает, чего я жду, — чтобы он надел
ботинки мне на ноги. Конечно, я так ничего и не
покупаю… Просто не хочу умереть в тот день, когда меня никто не видел.
Несколько месяцев назад попалось мне в газете
объявление: «В класс рисования требуется обнаженная натура, 15 долларов в час». Мне даже не верилось,
что может так повезти. На меня будет смотреть
столько народу. И так долго. Я позвонил. Ответила
женщина. Сказала, что можно прийти в следующий
вторник. Хотел описать себя, но ей было все равно.
«Нам кто угодно подойдет», — сказала она.
Дни тянулись медленно. Рассказал Бруно про
свою затею, так он не понял. Решил, что я иду на
курсы рисования, чтобы посмотреть на голых девушек. Он не хотел, чтобы его разубеждали. «А сиськи там показывают? — спрашивает. Я пожал плечами. — И ниже живота тоже?»
Когда миссис Фрейд с четвертого этажа умерла и ее нашли только через три дня, мы с Бруно завели привычку приглядывать друг за другом. Мы
придумывали мелкие поводы. «У меня закончилась
туалетная бумага», — говорил я, заходя к нему. На
следующий день ко мне в дверь стучали. «Потерял
телепрограмму», — объяснял он, и я отдавал ему
свою газету, хотя знал, что точно такая же лежит у
него на диване. Однажды он спустился ко мне в
воскресенье днем. «Мне нужен стакан муки», — сказал он. «Ты же не умеешь готовить». Бестактно, конечно, но я не удержался. Воцарилось молчание.
Бруно посмотрел мне прямо в глаза. «А вот представь себе, — сказал он, — взял да и решил испечь
пирог».
Когда я приехал в Америку, у меня здесь не
было никого, кроме троюродного брата, слесаря по
замкам, вот и стал работать у него. Был бы он сапожником, я бы тоже стал сапожником; убирал бы
он дерьмо — и я бы убирал дерьмо. Но он был
слесарем. Он научил меня, и я тоже стал слесарем.
У нас с ним было свое небольшое дело. А потом
у него обнаружился туберкулез, через некоторое
время врачи удалили ему печень, и он умер, так
что дело осталось мне. Я посылал его вдове половину прибыли, даже когда она вышла замуж за врача и переехала на Бей сайд. Пятьдесят лет отдал
этому. Не так я представлял когда то свою жизнь.
И что? Постепенно мне понравилось. Выручать —
и тех, кто захлопнул дверь и оставил ключи внутри, и тех, кто хотел удержать снаружи то, что мешало им спокойно спать по ночам.
И вот как то раз я стоял и смотрел в окно. Может, небо созерцал. Поставьте любого дурака перед
окном и получите Спинозу. День угасал, сгущалась
тьма. Я потянулся включить свет, и вдруг мне словно слон наступил на сердце. Я упал на колени.
И подумал: вот и не получилось жить вечно. Прошла минута. Еще минута. Еще. Я пополз, царапая
ногтями пол, вперед, к телефону.
Двадцать пять процентов моей сердечной
мышцы умерло. Выздоравливал я долго, к работе
так и не вернулся. Прошел год. Я понимал, что
время идет своим чередом. Смотрел в окно. Видел, как на смену осени пришла зима. На смену
зиме — весна. Иногда Бруно спускался посидеть
со мной. Мы знали друг друга с детства, вместе в
школу ходили. Он был одним из моих самых
близких друзей. Бруно носил толстые очки; волосы у него тогда были рыжие, и он их ненавидел,
а голос то и дело срывался от волнения. Я и не
знал, что Бруно еще жив, но как то раз шел по
Восточному Бродвею и услышал его голос.
Я обернулся. Он стоял у лотка зеленщика, спиной
ко мне, и спрашивал, сколько стоят какие то
фрукты. Тебе все это мерещится, сказал я себе.
Хватит мечтать, ну разве такое возможно — твой
друг детства, и на тебе, вот он здесь. Я стоял посреди тротуара, не в силах пошевелиться. Он давно в могиле, сказал я себе, а ты здесь, в Соединенных Штатах Америки, вон вывеска «Макдоналдса», приди в себя. И все таки я подождал,
чтобы уж наверняка. В лицо бы я Бруно не узнал,
но вот походка… Походку его я бы ни с чьей не
спутал. Он чуть не прошел мимо, и тут я вытянул
руку. Я не соображал, что делаю, вроде схватил его
за рукав. «Бруно», — сказал я. Он остановился и
повернулся ко мне. Сначала вид у него был испуганный, потом ошеломленный. «Бруно». Он
посмотрел на меня, в глазах у него стояли слезы.
Я схватил его за другую руку: одной рукой держал его за рукав, а другой за руку. Его начало трясти. Он коснулся моей щеки. Мы стояли посреди
тротуара, мимо спешили люди, был теплый июньский день. Волосы у него были седые и редкие.
Он уронил фрукты. Бруно…
Через пару лет умерла его жена. Ему тяжело было оставаться в старой квартире, все напоминало о
ней, так что когда этажом выше меня освободилось
жилье, он переехал в мой дом. Мы часто сидим вместе за столом у меня на кухне. Мы можем просидеть так целый день, не говоря ни слова. А если и
разговариваем, то ни в коем случае не на идише.
Слова нашего детства стали для нас чужими — мы
не могли использовать их так, как раньше, и поэтому решили вообще их не произносить. Жизнь требовала нового языка.
Бруно, мой старый верный друг. Я так и не
описал его как следует. Может, просто сказать, что
описать его невозможно? Нет. Лучше попробовать
и потерпеть неудачу, чем не пробовать вообще.
Мягкий пух твоих седых волос слегка колышется
у тебя на голове, словно полуоблетевший одуванчик. Знаешь, Бруно, мне не раз хотелось подуть тебе на голову и загадать желание. Да вот мешают
последние остатки хорошего воспитания. А может,
лучше начать с твоего роста? Ты очень маленький.
В лучшем случае достаешь мне до груди… Или
правильнее начать с очков? Ты выудил их из какой-то коробки на распродаже ненужных вещей и
взял себе; эти огромные круглые штуковины так
увеличивают твои глаза, что стоит тебе моргнуть,
и выглядит это как землетрясение в 4,5 балла по
шкале Рихтера. Это женские очки, Бруно! Мне
вечно не хватало духу сказать тебе это. Я пытался,
и не раз… И кое что еще. Когда мы были юными,
ты писал лучше меня. Я был слишком горд, чтобы
сказать тебе это. Но я знал. Поверь, я знал это тогда и знаю сейчас. Мне больно думать, что я так тебе этого и не сказал, больно думать, кем ты мог
бы стать. Прости меня, Бруно. Мой старинный
друг. Мой лучший друг. Я не отдал тебе должного. Твое присутствие так много дало мне на закате жизни. Именно твое — человека, который мог
бы найти для всего этого слова.
Однажды, это было уже давно, я нашел Бруно
на полу посреди гостиной, а рядом была пустая
баночка от таблеток. Он решил, что с него довольно. Он хотел всего лишь заснуть навсегда. На груди у Бруно была приколота записка с тремя словами: «Прощайте, мои любимые». Я закричал: «Нет, Бруно, нет, нет, нет, нет, нет,
нет, нет!» Я ударил его ладонью по щеке. Наконец его веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд был
пустой и тусклый. «Проснись, думкоп! — закричал я. — Ты понимаешь? Ты должен
проснуться!» Его глаза снова стали закрываться. Я позвонил 911. Я набрал в вазу холодной воды
и вылил на него. Потом приложил ухо к груди. Где-то в глубине слышалось какое то неопределенное
шевеление. Приехала «скорая». В больнице ему
промыли желудок. «Зачем вы приняли эти таблетки?» — спросил доктор. Бруно, больной, измученный, дерзко поднял глаза. «А вы как думаете,
зачем я принял эти таблетки?» — завопил
он. Вся палата замолчала; все вытаращили глаза.
Бруно застонал и повернулся к стене. В ту ночь я
сам уложил его в постель. «Бруно», — произнес я.
«Прости, — ответил Бруно, — я был таким эгоистом». Я вздохнул и повернулся, чтобы уйти. «Посиди со мной!» — воскликнул он.
Потом мы никогда об этом не говорили. Так
же, как никогда не говорили о детстве, об общих
потерянных мечтах, о том, что случилось и чего не
произошло. Как то мы сидели вдвоем и молчали.
Вдруг кто то из нас засмеялся. Это оказалось заразным. Смеяться нам было не с чего, но мы начали хихикать, и вот мы уже качались на стульях
и прямо таки выли от смеха, так, что у нас по щекам потекли слезы. У меня между ног появилось
мокрое пятно, и это насмешило нас еще сильнее;
я рукой колотил по столу и жадно хватал воздух.
Я думал, может, вот так и умру, в припадке смеха.
Что может быть лучше? Смеясь и плача, смеясь и
распевая. Смеясь, чтобы забыть, что я один, что
это конец моей жизни, что смерть ждет меня за
дверью.
Когда я был ребенком, я любил сочинять. Только к этому в жизни и стремился. Придумывал несуществующих людей и заполнял целые тетради историями о них. О мальчике, который вырос и стал
таким волосатым, что люди охотились за ним ради
его меха. Ему приходилось прятаться на деревьях,
и он полюбил птичку, которая считала себя трехсотфунтовой гориллой. О сиамских близнецах,
один из которых был влюблен в меня. Мне казалось, что сексуальные сцены у меня получались
очень оригинально. Так что? Став постарше, я решил, что хочу быть настоящим писателем. Попробовал писать о реальных вещах. Я хотел описать
мир, потому что жить в неописанном мире было
слишком одиноко. К двадцати одному году я написал три книги; и кто знает, что с ними потом стало. Первая была о Слониме, моем городе, постоянно переходившем от Польши к России и обратно. Я нарисовал его карту для форзаца, обозначив
дома и магазины: здесь мясник Кипнис, тут —
портной Гродзенский, а вот здесь Фишл Шапиро,
то ли великий цадик, то ли идиот, никто точно не
знал; а тут площадь и поле, где мы играли; вот в
этом месте река становилась шире, а в этом — у.же,
тут начинался лес, а здесь стояло дерево, на котором повесилась Бейла Аш, и еще тут, и здесь. Так
что? Когда я дал прочитать свою книгу единственному человеку в Слониме, мнение которого меня
интересовало, она просто пожала плечами и сказала, что ей больше нравилось, когда я все выдумывал. Тогда я написал вторую книгу и выдумал все
от начала до конца. Я наполнил ее людьми, у которых были крылья, деревьями, корни которых тянулись к небу, людьми, которые забывали собственные имена, и людьми, которые ничего не могли забыть; я даже выдумал новые слова. Когда книга
была закончена, я помчался к ее дому, бежал всю
дорогу. Я ворвался в дом, взбежал по лестнице и
вручил книгу единственному человеку в Слониме,
чье мнение меня интересовало. Я прислонился к
стене и наблюдал за выражением ее лица, пока она
читала. За окном стемнело; она продолжала читать.
Шли часы. Я присел на пол. Она все читала и читала. Наконец она закончила и подняла голову. После долгого молчания она сказала: может, лучше
мне не выдумывать совсем уж все, а то иначе трудно хоть во что нибудь поверить.
Другой бы на моем месте сдался. Я начал заново. На этот раз я писал не о реальности и не о выдумках. Я писал о том единственном, что знал. Страниц становилось все больше. И даже когда та единственная, чье мнение меня интересовало, уплыла на
корабле в Америку, я продолжал заполнять страницы ее именем.
Она уехала, и мир рухнул. Ни один еврей не
мог чувствовать себя в безопасности. Ходили слухи о кошмарных вещах, настолько кошмарных, что
мы не могли в них поверить, пока у нас уже не осталось выбора и не стало слишком поздно. Я работал в Минске, потом потерял работу и вернулся
домой, в Слоним. Немцы двигались на восток, они
подходили все ближе и ближе. В то утро, когда мы
услышали танки, мама велела мне спрятаться в лесу. Я хотел взять с собой брата, ему было всего
тринадцать, но мама сказала, что возьмет его с собой. Зачем я послушался? Потому что так было
проще? Я убежал в лес. Я лежал на земле и не шевелился. Вдали лаяли собаки. Шли часы. А потом
выстрелы. Очень много выстрелов. Почему то никто не кричал. А может, я не слышал криков. Потом наступила тишина. Мое тело окоченело, я помню, что чувствовал во рту вкус крови. Не знаю,
как долго я пробыл там. Много дней. Я так и не
вернулся обратно. Когда я снова поднялся на ноги, во мне уже не осталось ни капли веры в то, что
я смогу найти слова, чтобы описать даже малую
частичку жизни.
Так что?..
Через пару месяцев после моего сердечного
приступа, через пятьдесят семь лет после того, как
я бросил это дело, я снова начал писать. С тех пор
я писал только для самого себя, и это было совсем
другое. Мне было все равно, найду ли я слова, более того, я знал, что правильные слова найти невозможно. Так вот, приняв за невозможное то, что
раньше считал возможным, и понимая, что никогда никому ни строчки из этого не покажу, я написал фразу:
Жил-был мальчик.
Несколько дней подряд только эта фраза и смотрела на меня с пустой страницы. Через неделю добавил к ней еще одну фразу. Вскоре уже заполнил
страницу. Мне это доставляло удовольствие, словно разговоры вслух с самим собой — иногда со
мной такое происходит.