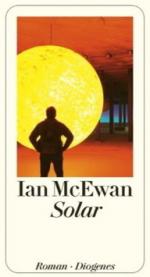Отрывок из романа
О книге Харуки Мураками «1Q84»
Свою тайну Аомамэ открыла хозяйке здесь же, в «солнечной» комнате. Разговор тот запомнился ей на всю жизнь. Груз, так долго висевший на душе, необходимо было доверить кому-то еще. Влачить эту ношу в одиночку стало уже невыносимо. Вскоре после того, как хозяйка предложила ей выговориться, Аомамэ не удержалась и поведала старушке самую заветную тайну.
Рассказала старой женщине о лучшей подруге, которую долгие годы избивал муж, отчего та повредилась рассудком и в итоге покончила с собой. О том, как год спустя Аомамэ сочинила повод, чтобы появиться у насильника дома. И, действуя по скрупулезно разработанному плану, вонзила в затылок ублюдка тоненькую иглу. Единственный укол не оставил никакого следа. Никто ничего не заподозрил. По всем признакам — обычная смерть от инсульта. Ни тогда, ни теперь Аомамэ не считала себя неправой. И угрызений совести не испытывала. Но это вовсе не спасало ее от осознания того, что она умышленно лишила кого-то жизни.
Хозяйка выслушала ее долгую исповедь до конца, ни о чем не спрашивая, ни разу не перебив. Лишь когда рассказ был окончен, задала несколько уточняющих вопросов. А затем протянула через стол руку и крепко пожала Аомамэ ладонь.
— Ты поступила абсолютно верно,— медленно произнесла она, стиснув зубы.— Если бы он остался жить, та же гадость случилась бы не раз и не два. Такие типы всегда находят себе очередную жертву. Для них все обязательно должно повторяться, иначе они не могут. Ты остановила его сатанинский конвейер. Это не просто личная месть, уверяю тебя. Даже не вздумай ни в чем сомневаться.
Аомамэ закрыла лицо руками, немного поплакала. То был плач по Тамаки. Хозяйка достала платок и вытерла ей слезы.
— Удивительное совпадение,— заметила старушка уже спокойным и твердым голосом.— Мне в жизни тоже пришлось кое-кого устранить. И фактически по той же причине.
Аомамэ подняла голову и взглянула на хозяйку, не зная, что сказать. О чем тут вообще речь?
— То есть, конечно, не своими руками,— продолжила хозяйка.— Для этого у меня бы просто не хватило сил. Все-таки физически я не так хорошо подготовлена, как ты. Но тем способом, который был в моих силах, я все-таки устранила кое-кого из этого мира. И тоже — без малейших улик для расследования. Даже если бы я сейчас публично во всем созналась, никто бы не смог ничего доказать. Как и в твоем случае. Если случится Высший суд после смерти, перед Господом я, конечно, предстану. Но нисколько этого не боюсь, потому что поступила верно. И готова повторить это перед кем угодно. — Хозяйка с облегченьем вздохнула. И продолжила: — Ну вот, теперь и я посвятила тебя в свою тайну.
Но Аомамэ все еще плохо понимала, о чем речь. «Устранить»? На лице ее было столько сомнения, что старушка продолжила свою историю — тоном еще спокойнее прежнего.
Родная дочь хозяйки угодила в ту же ловушку, что и Та-маки: вышла замуж не за того парня. То, что брак этот дочери счастья не принесет, мать понимала с самого начала. С первой же встречи будущий зять показался ей законченным негодяем. И насколько она узнала, за ним и раньше замечались отклонения в психике. Но проклятой свадьбе, увы, не смогли помешать ни она сама, ни кто-либо другой. Уже очень скоро худшие опасения ма¬тери стали сбываться: мерзавец начал регулярно избивать ее дочь за дверями своего дома. Та потеряла волю, замкнулась и впала в депрессию. Защитить себя не оставалось сил, а как выбраться из этого ада, она не знала. Так продолжалось, пока однажды бедняжка не проглотила недельную дозу снотворного, запив таблетки стаканом виски.
В протоколе судмедэксперта были зафиксированы следы истязаний по всему телу — ссадины, кровоподтеки, сломанные ребра, ожоги от сигарет. Полностью деформированные соски. А также синяки от веревки на запястьях. Судя по всему, именно веревкой этот выродок пользовался особенно часто. Мужа покойной вызвали в полицию и потребовали объяснений. Тот признал, что насилие имело место — но лишь как составная часть их сексуальных утех, которые доставляли супруге отдельное удовольствие.
В конечном итоге, как и в случае с Тамаки, полиция не нашла, за что привлечь садиста к уголовной ответственности. Пострадавшая в полицию на мужа не заявляла, да и вообще была уже мертва. А у мужа — высокое общественное положение и знаменитый на всю столицу адвокат. К тому же сам факт самоубийства ни у кого сомнений не вызывал.
— Так вы убили его? — прямо спросила Аомамэ.
— Нет, — покачала головой хозяйка. — Я его не убивала.
Окончательно запутавшись, Аомамэ уставилась на собеседницу.
— Отродье, уничтожившее мою девочку, до сих пор существует на этом свете,— пояснила хозяйка.— Каждое утро оно просыпается, открывает глаза и ходит по земле своими ногами. И я совсем не собираюсь его убивать.
Старушка выдержала паузу, явно выжидая, пока ее слова как следует улягутся у девушки в голове.
— Я просто сделала так, чтобы мой зятек навсегда исчез из этого мира. Чтобы даже духу его здесь не было. Такой силой, если понадобится, я обладаю. Он оказался слабаком. Соображал неплохо, язык подвешен, достаточно признан в свете, но в душе — слабак и подонок. Любой, кто измывается в собственном доме над женой и детьми, в душе — слабак и подонок. Только слабаки выбирают своей жертвой тех, кто еще слабее. Чтобы издеваться над ними, не боясь получить сдачи. Устранить его было несложно. Больше он в этом мире не появится никогда. И хотя моя дочь умерла очень давно, я до сих пор не спускаю глаз с этого человека. Если он захочет вернуться в этот мир, именно я не позволю ему это сделать. Он пока еще жив, но уже почти труп. С собой покончить он не способен. Для этого человеку нужны отдельные силы и мужество, которых у него нет. Это — мой способ мести. Переправлять этих людей без приключений я не собираюсь. Они у меня будут мучиться долго, не умирая, без малейшего шанса на избавление и милосердие. Все равно что с них живьем сняли кожу. Тот, кого я устранила,— человек не моего мира. И у меня были все причины переправить его туда, где ему следовало находиться.
Рассказала хозяйка и дальше. На следующий год после смерти дочери она учредила приют для жен, страдающих от бытового насилия. Неподалеку от своей усадьбы выкупила на Адзабу двухэтажное многоквартирное здание, которое не приносило дохода и подлежало сносу в ближайшее время. Заказала несложный ремонт, привела все комнаты в божеское состояние — и превратила дом в пристанище для женщин, которым некуда бежать от садистов-мужей. Там же, подключив местного адвоката, учредила «Консультацию для страдающих от бытового насилия» и силами добровольцев организовала прием звонков и проведение встреч с пострадавшими. С этой группой людей хозяйка постоянно на связи. Если какой-нибудь женщине срочно требуется укрытие, она получает его в приюте. Многие приезжают с детьми. Среди жертв немало девочек от десяти до пятнадцати лет, которых насиловали собственные отцы. Все они остаются в приюте, пока для них не найдется приемлемая альтернатива. Все, что нужно для жизни, в приюте есть. Постоялицы обеспечиваются едой, одеждой и живут, помогая друг другу, на принципах обычной коммуны. Все расходы на их проживание хозяйка покрывает из своего кармана.
Приют регулярно посещают адвокаты и юрисконсульты, которые беседуют с женщинами о планах дальнейшей жизни. В свободное время хозяйка появляется здесь сама, беседует с каждой подопечной в отдельности. Кого может — поддерживает житейскими советами. Кому нужно — помогает с поисками работы и жилья. Все проблемы, требующие силового вмешательства, решает Тамару. Лучше его никто не справится с ситуацией, когда, например, разъяренный муж пытается силой забрать из приюта жену. Подобные случаи, к сожалению, не редкость.
— Вот только рук у нас с Тамару на все не хватает,— посетовала хозяйка.— Да и этим бедняжкам частенько уже ничем не помочь, какие тут законы ни подключай.
Аомамэ вдруг заметила, что лицо хозяйки приобрело необычный медный оттенок. Его больше нельзя было назвать ни приветливым, ни аристократичным. Оно выражало нечто куда сильнее обычных злости и ненависти. Словно в самых недрах хозяйкиной души всегда таилось некое маленькое и очень твердое ядрышко, неделимое и безымянное, лишь теперь открывшееся стороннему взгляду. И только ледяная уверенность в ее голосе не изменилась совсем.
— Разумеется, никто не собирается лишать человека жизни лишь потому, что с исчезновением мужа проще подать на развод и получить страховку. Все обстоятельства тщательно изучаются. И лишь когда окончательно ясно, что никакого снисхождения подонок не заслуживает, принимаются соответствующие меры. Это касается только реальных пиявок, которые слишком бесхребетны и уже не способны измениться, перестав сосать кровь у своих же родных и близких. Это касается только извращенцев, которые не выказывают ни желания, ни воли, чтобы вернуться в человеческое обличье, а значит, более не представляют ни малейшей ценности для этого мира.
Замолчав, хозяйка уставилась на Аомамэ такими глазами, словно пыталась взглядом пробить скалу. А затем продолжила, но уже сдержаннее:
— С такими людьми путь остается только один: каким-то способом заставить его исчезнуть. Но так, что¬бы не вызывать кривотолков.
— И вы знаете такие способы?
— Способов хватало во все времена,— ответила хозяйка, осторожно подбирая слова. И, выдержав паузу, добавила: — Да, я умею заставить людей исчезнуть. И необходимой для этого силой пока обладаю.
Аомамэ задумалась. Но к чему сводились абстрактные намеки хозяйки, понять было все же непросто.
— Мы обе потеряли дорогих нам людей,— продолжала хозяйка.— Их отобрали у нас одним и тем же бесчеловечным способом. Наши души изранены. Исцелить их, скорее всего, уже не удастся. Но сидеть сложа руки и разглядывать собственные болячки тоже никуда не годится. Мы должны встать, расправить плечи и заняться тем, что нужно делать дальше. И не из личной мести, а ради общественной справедливости. Ну как? Ты согласна выполнять для меня кое-какую работу? Мне всегда нужны люди, на которых я могу положиться. Те, кто умеет хранить тайны и служить общей миссии.
И тут Аомамэ поняла. Хотя осознать это получилось не сразу. То было одновременно исповедь и предложение, в суть которого поверить очень непросто. Не говоря уж о том, чтобы собраться с духом и выдать какой-то ответ. Хозяйка молча глядела на нее, сидя на стуле недвижно, как монумент. И казалось, она может прождать так хоть целую вечность.
Несомненно, эта женщина в какой-то степени душевнобольная, подумала Аомамэ. Но не сумасшедшая и даже не сдвинутая психически. Напротив, ее умению сдерживать эмоции можно только завидовать. Любые беседы, которые она ведет, имеют свою основу. Нет, это не помешательство, хоть и нечто вроде того. Самый точный диагноз тут, пожалуй,— «иллюзия собственной правоты». И теперь она хочет, чтобы я разделила с ней эту иллюзию. Как и уверенность в том, что я на это способна.
Сколько Аомамэ размышляла над этим, она и сама не поняла. Когда задумываешься так глубоко, ощущение секунд и минут пропадает. И остается лишь мерный стук сердца. Скользя по Времени, как рыба по реке, Аомамэ успела заглянуть в самые разные уголки своей души. В хорошо знакомые комнаты — и давно позабытые чуланы. На уютные, залитые солнцем мансарды — и в подвалы, где ее караулила страшная боль. Откуда ни возьмись на нее сошел призрачный свет, и тело Аомамэ вдруг стало прозрачным. Она посмотрела на собственные руки — и увидела все, что за ними. Тело сделалось поразительно легким. И Аомамэ спросила себя: если твоей жизнью заправляют сбрендившие старухи-манипуляторы, если ты уже прозрачна, как стекло, а весь мир улетает к чертовой матери,— чего тебе еще терять?
— Я поняла,— сказала она. И, покусав губы, добавила: — Если чем-то могу помочь, я в вашем распоряжении.
Хозяйка опять дотянулась через стол и крепко пожала руки Аомамэ. С этой минуты их действительно объединили общая тайна и общая миссия. Как, возможно, и общее нечто вроде сумасшествия. А может, и сумасшествие в чистом виде. Но поставить диагноз Аомамэ уже не могла. В ее жизни, как и в хозяйкиной, было слишком много мужчин, которых они прикончили только потому, что те не заслуживали ни малейшего сострадания.