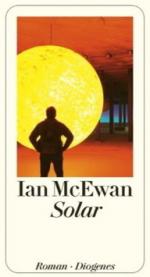Отрывок из романа
О книге Иэна Макьюэна «Солнечная»
Он принадлежал к той разновидности мужчин —
невзрачных, часто лысых, низкорослых, толстых,
умных,— которые необъяснимо нравятся некоторым
красивым женщинам. По крайней мере, он верил,
что нравится, и благодаря этому как будто действительно
нравился. К тому же некоторые женщины
верили, что он гений, которого надо спасать. Но
нынче Майкл Биэрд был человеком с суженным
сознанием, не радующимся жизни, человеком одной
темы, ушибленным. Пятый брак его распадался, и
ему полагалось бы знать, как себя вести, видеть
вещи в перспективе, сознавать свою вину. Разве
женитьбы, его женитьбы, не были похожи на прибой?
Едва одна откатывалась, тут же накатывалась
другая. Но в этот раз было иначе. Он не знал, как
себя вести, перспектива его мучила, и вины за собой
он не видел. Это жена его завела роман — завела
вызывающе, в отместку ему и без малейших
угрызений совести. В сумятице чувств он обнаруживал
у себя острые приступы стыда и любовного томления.
Патриция встречалась со строителем, их строителем,
который перекрасил их дом, оборудовал
кухню, настелил плитку в ванной,— с тем самым
дюжим мужиком, который однажды в перерыве показал Майклу фото своего дома, в тюдоровском стиле,
собственноручно оттюдоренного, с моторкой на
прицепе под викторианским фонарным столбом,
бетонной дорожкой и местом, на котором будет воздвигнута
списанная красная телефонная будка. Биэрд
с удивлением обнаружил, как непросто быть
рогоносцем. Страдать нелегко. Пусть никто не скажет,
что человек в его возрасте защищен от непривычных
переживаний.
Дождался. Четыре его прежние жены, Мейзи,
Рут, Элеонора, Карен, все еще интересовавшиеся
издали его жизнью, торжествовали бы, и он надеялся,
что им не расскажут. Ни один из его браков
не длился больше шести лет, и это было своего рода
достижение, что он остался бездетным. Его жены
быстро понимали, насколько печальна или пугающа
перспектива иметь в доме такого отца, они предохранялись
и уходили. Ему нравилось думать, что
если он и приносит несчастья, то ненадолго, не зря
же какие-то отношения со всеми бывшими женами
у него сохранились.
Но не с нынешней. В лучшие времена он мог бы
вообразить, как мужественно устанавливает для себя
двойные стандарты, с приступами грозной ярости,
возможно, с эпизодом пьяных криков ночью в садике
за домом или разгромом ее машины и рассчитанным
ухаживанием за женщиной помоложе, этакое
самсоновское обрушение матримониального
храма. Но теперь он был парализован стыдом, размерами
своего унижения. Хуже того, он изумлялся
своей несвоевременной страсти к жене. Вожделение
нападало вдруг, как желудочный спазм. Ему приходилось
посидеть в одиночестве, пока оно не отпустит.
Видимо, есть такая порода мужей, которых возбуждают
мысли о том, что жена сейчас с другим.
Такой мужчина мог бы попросить, чтобы его связали
и с кляпом во рту посадили в шкаф в трех метрах
от его лучшей половины, занятой этим делом.
Или Биэрд обнаружил в себе наконец склонность
к сексуальному мазохизму? Ни одна женщина не
была еще так желанна, как эта жена, которой он
вдруг не мог обладать. Он демонстративно отправился
в Лиссабон, к старой подруге, но это были
безрадостные три ночи. Ему нужна была жена, и он
не осмеливался оттолкнуть ее угрозами, или криками,
или яркой вспышкой безумства. Но и умолять
было не в его характере. Он оцепенел, он был жалок,
он не мог думать ни о чем другом. В первый
раз, когда она оставила ему записку: «Сегодня ночую
у Р. ц. ц. П«,— отправился ли он к псевдотюдоровскому
дому с запеленатой моторкой и горячей ванной
на заднем дворике, чтобы размозжить хозяину
голову его же разводным ключом? Нет, он пять часов
в пальто смотрел телевизор, выпил две бутылки
вина и пытался не думать. Не удалось.
Но ему только и оставалось, что думать. Когда
другие жены узнавали о его романах, они гневались,
холодно или слезливо, устраивали собеседования до
рассвета, чтобы изложить свои мысли об обманутом
доверии, потребовать развода и всего, что из него
вытекало. А Патриция, наткнувшись на несколько
электронных писем от Сюзанны Рубен, математика из Гумбольдтовского университета в Берлине, вопреки
ожиданиям возликовала. В тот же день она
перенесла свою одежду в гостевую спальню. Он был
потрясен, когда раздвинул дверцы гардероба и убедился
в этом. Он понял сейчас, что эта шеренга шелковых
и хлопчатобумажных платьев была роскошью
и утешением, слепками ее, выстроившимися для его
удовольствия. Их больше нет. Даже вешалок. В тот
вечер за ужином она улыбалась, объясняя ему, что
намерена тоже быть «свободной», и не прошло недели,
как она завела роман. Что ему оставалось? Однажды
за завтраком он стал извиняться, говорить, что
эта случайная интрижка ничего не значит, давал ей
широкие обещания, всерьез веря, что может их сдержать.
Он никогда еще не был так близок к пресмыкательству.
Она сказала, что ничего не имеет против
его поступка. Она делает то же самое — тут она
и назвала своего любовника, строителя со зловещим
именем Родни Тарпин, который был чуть не на двадцать
сантиметров выше и на двадцать лет моложе
рогоносца и еще тогда, когда он смирно штукатурил
и подтесывал у Биэрдов в доме, похвастался, что не
читает ничего, кроме спортивного раздела бульварной
газетенки.
Одним из первых симптомов горя у Биэрда была
дисморфия или, наоборот, внезапное излечение
от дисморфии. Он наконец-то понял, что́собой
представляет. Выходя из душа и мельком увидев в
запотевшем высоком зеркале розовую коническую
массу, он протер стекло, встал перед ним и уставился
на себя изумленно. Какие механизмы самовнушения
помогали ему столько лет пребывать в уверенности,
что подобное выглядит соблазнительно?
Эта дурацкая полоска растительности от уха до уха,
подпирающая лысину, оладьи сала под мышками,
невинные выпуклости утробы и зада. Когда-то он
мог улучшить свою зеркальную персону, расправив
плечи, выпрямившись и втянув живот. Теперь этот
смальц сводил на нет его усилия. Как он мог удержать
такую красивую женщину? Неужели он правда
думал, что статуса для этого достаточно, что его
Нобелевская премия привяжет Патрицию к брачной
постели? Голый, он позорище, идиот, квашня.
Он не в силах даже восемь раз отжаться. А Тарпин
взбегает по лестнице в их спальню с пятидесятикилограммовым
мешком цемента под мышкой. Пятьдесят?
Это приблизительно вес Патриции.
Она держала его на дистанции убийственной веселостью.
Это были добавочные оскорбления: ее
напевные «здравствуй», утренние перечни домашних
дел и ее вечерних отлучек, и все это ничего бы
не значило, если бы он мог хоть немного ее презирать
или намеревался отделаться от нее. Тогда они
приступили бы к короткому, неприятному демонтажу
пятилетнего бездетного брака. Конечно, она
его наказывала, но когда он сказал об этом, она пожала
плечами и ответила, что с таким же правом
могла бы сказать то же самое о нем. Она просто дожидалась повода, сказал он, а она засмеялась и сказала,
что в таком случае она ему благодарна.
В помраченном своем состоянии он был убежден,
что перед лицом потери нашел идеальную жену.
Этим летом 2000 года она одевалась по-другому,
дома выглядела по-другому — в обтягивающих линялых
джинсах, вьетнамках, грубой розовой кофте
поверх футболки, с коротко остриженными светлыми
волосами и возбужденно потемневшими голубыми
глазами. Она была худенькая, и теперь стала
похожа на подростка. По магазинным пакетам с веревочными
ручками и упаковочной бумаге, которые
она оставляла на кухонном столе для его ознакомления,
он заключил, что она покупает новое нижнее
белье, чтобы снимал его Тарпин. В свои тридцать четыре
года она сохранила молочный румянец двадцатилетней.
Она его не дразнила, не изводила насмешками,
не кокетничала с ним — это было бы
хоть какое-то общение,— но неуклонно упражнялась
в бодром безразличии, дабы его уничтожить.
Ему нужно было избавиться от нужды в ней, но
желание не отступало. Он хотел ее хотеть. Однажды
душной ночью, сбросив одеяло, он попробовал освободиться
мастурбацией. Его беспокоило, что он не
видит своих гениталий, если не подложит под голову
двух подушек, и в фантазии его беспрестанно
вмешивался Тарпин — словно бестолковый рабочий
сцены, который влезает со стремянкой и ведром
во время акта. Хоть один человек на планете, кроме
него, пытался сейчас удовлетворить себя мыслями
о жене, находящейся от него в десяти шагах? Этот
вопрос отвлекал Биэрда от цели. И было слишком
жарко.
Друзья говорили ему, что Патриция похожа на
Мэрилин Монро, по крайней мере, в определенных
ракурсах и при определенном освещении. Он
с удовольствием принимал это престижное сравнение,
но сам особого сходства не видел. Прежде. Теперь
увидел. Она изменилась. Нижняя губа стала
полнее; когда она опускала взгляд, это обещало неприятность;
подстриженные волосы призывно, постаромодному
курчавились на затылке. Конечно, она
была красивее, чем Монро, когда плыла по дому и
саду в выходные дни белокурым, розовым и голубым
облаком. На какую же подростковую цветовую гамму
он стал падок — в его-то возрасте.
В июле ему исполнилось пятьдесят три; она, естественно,
игнорировала его день рождения и будто
бы вспомнила через три дня, весело, по теперешнему
обыкновению. Подарила ему широченный галстук
люминесцентного зеленого колера, сказав, что
этот стиль «возрождают». Да, выходные были хуже
всего. Она входила в комнату, где он сидел, не для
разговора, а, вероятно, для того, чтобы ее увидели,
озиралась с легким удивлением и рассеянно удалялась.
Она все оценивала заново, не только его. Он
видел ее в конце сада под конским каштаном —она
лежала с газетами на траве, в густой тени, дожидалась,
когда начнется ее вечер. Тогда она уходила в
гостевую комнату, чтобы принять душ, одеться, накраситься
и надушиться. Словно читая его мысли,
она жирно красила губы красной помадой. Возможно, Родни Тарпин приветствовал модель Монро —
и Биэрд теперь был обязан разделять его вкусы.
Если он оставался дома, когда она уходила (он
очень старался уезжать по делам вечерами), то не мог
устоять перед желанием обогатить свою страсть и
муку наблюдением за ней из окна наверху, за тем,
как она выходит на вечерний воздух Белсайз-Парка,
идет по садовой дорожке — и какой же изменой
звучал теперь всегдашний несмазанный взвизг калитки,—
садится в свою машину, маленький, шустрый
черный безалаберно приемистый «пежо». Она
с таким нетерпением давала газ, отъезжая от бордюра,
что его douleur удваивалась: он знал, что она
знает про его наблюдательный пост. Затем ее отсутствие
повисало в летних сумерках, как дым садового
костра,— эротический заряд ненаблюдаемых частиц
заставлял его застыть бесцельно на долгие минуты.
Это не сумасшествие, твердил себе Биэрд, но
понимал, что хватил его горький глоток, почувствовал
его вкус.
Его поражало то, что он ни о чем другом не может
думать. Читая книгу, выступая с докладом, он на
самом деле думал о ней или о ней и Тарпине. Нехорошо
было оставаться дома, когда она уезжала к любовнику,
но после Лиссабона у него пропало желание
видеться со старыми подругами. Вместо этого
он прочел цикл вечерних лекций по квантовой теории
поля в Национальном географическом обществе,
участвовал в дискуссиях на радио и телевидении и эпизодически подменял заболевших коллег.Пусть философы науки морочат себя сколько угодно,
физика свободна от человеческих наносов, она
описывает мир, который все равно бы существовал,
если б мужчины, и женщины, и горести их исчезли.
В этом убеждении он был солидарен с Эйнштейном.
Но, даже ужиная допоздна с друзьями, он возвращался
домой обычно раньше нее и, хотел того
или нет, вынужден был ждать ее возвращения, притом
что оно ничего не меняло. Она шла прямо в свою
комнату, а он оставался в своей, не желая встретиться
с ней в ее сонном посткоитальном состоянии. Даже
лучше, наверное, было, когда она оставалась ночевать
у Тарпина. Может быть, и лучше, но стоило
ему бессонной ночи.
Однажды в два часа ночи, в конце июля, он лежал
в халате, слушал радио и, услышав, как она вошла,
тут же, без предварительного плана, разыграл
сцену для того, чтобы вызвать ее ревность, лишить
ее уверенности, чтобы она захотела вернуться к нему.
По Всемирной службе Би-би-си женщина рассказывала
о деревенских обычаях турецких курдов
— убаюкивающий бубнеж о жестокостях, несправедливостях,
нелепостях. Уменьшив громкость,
но не снимая пальцев с регулятора, Биэрд произнес
нараспев отрывок из детского стишка. Он рассчитал,
что она в своей комнате услышит его голос, но
не расслышит слов. Закончив фразу, он на несколько
секунд сделал громче женский голос, потом прервал
его отрывком из своей сегодняшней вечерней
лекции, после чего дал женщине высказаться по
дольше. Он проделывал это минут пять: его голос,
затем женский, иногда искусно накладывая один на
другой. Дом безмолвствовал и, конечно, слушал.
Он пошел в ванную, открыл кран, спустил воду в
унитазе и громко засмеялся. Патриция должна понять,
что любовница у него с юмором. Потом он негромко,
радостно ухнул. Патриция должна понять,
что ему весело.
В ту ночь он спал мало. В четыре, после долгого
молчания, знаменовавшего безмятежную близость,
он открыл дверь своей спальни и с оживленным шепотком
стал спускаться задом по лестнице, согнувшись
и отшлепывая ладонями по ступеням шаги своей
спутницы вперебивку с собственными. Это был
по-своему логичный план, который мог прийти в голову
только сумасшедшему. Проводив подругу до
передней, с неслышными поцелуями попрощавшись
и захлопнув входную дверь так, что звук разнесся по
всему дому, он поднялся к себе и после шести погрузился
наконец в дрему, тихо приговаривая: «Судите
меня по моим результатам». Поднялся он через
час, чтобы наверняка столкнуться с Патрицией
перед ее уходом на работу и показать ей, как он вдруг
повеселел.
В дверях она остановилась с ключами от машины
в руке и набитой книгами сумкой, лямка которой
врезалась в плечо ее цветастой блузки. Никаких сомнений:
вид у нее был расстроенный, изнуренный,
хотя голос звучал, как всегда, бодро. Она сказала ему,
что приглашает сегодня Родни на ужин, возможно,
он останется на ночь, и она будет признательна Майклу,
если он не будет появляться на кухне.
В этот день ему надо было ехать в Центр, в Рединг.
Обалделый от усталости, он смотрел в грязное
окно вагона на лондонские пригороды с их удивительным
сочетанием хаоса и унылости и проклинал
себя за дурацкую затею. Его очередь прислушиваться
к голосам за стеной? Немыслимо—он где-нибудь
заночует. Выгнан из собственного дома любовником
жены? Немыслимо — он останется и встретится с
ним лицом к лицу. Драться с Тарпином? Немыслимо
— его втопчут в паркет передней. Ясно было, что
он не в том состоянии, чтобы принимать решения
и строить планы, и с этой минуты он должен учитывать
ненадежное состояние своей психики, действовать
консервативно, пассивно, честно, не нарушать
правил, избегать крайностей.
В последующие месяцы он нарушил каждый пункт
своего решения, но оно забылось уже к вечеру, потому
что Патриция приехала с работы без продуктов
(в холодильнике было пусто) и строитель на ужин
не явился. В этот вечер он увидел ее только раз, когда
она шла по передней с кружкой чая, понурая и
серая, не столько кинодива, сколько усталая учительница
начальной школы, чья личная жизнь дала трещину.
Может быть, зря корил он себя в поезде, и
план его удался, и она от огорчения отменила ужин?
Он размышлял о прошлой ночи и удивлялся тому,
что после стольких настоящих измен ночь с воображаемой
любовницей оказалась ничуть не менее
волнующей. Впервые за эти недели он немного повеселел и даже насвистывал эстрадную песню, разогревая
в микроволновке ужин. А в прихожей, увидев
себя в зеркале с золотой рамой, подумал, что лицо его
чуть похудело, выглядит значительным и появился
даже намек на скулы. При свете тридцативаттной лампочки
в нем проступило нечто благородное — возможно,
сказался сладкий антихолестериновый йогурт,
который он заставлял себя пить по утрам. В постели
он не включил радио, притушил свет и лежал,
дожидаясь покаянного стука ноготков в дверь.
Стука не последовало, но он не обеспокоился.
Пусть проведет бессонную ночь, пересматривая свою
жизнь и что в ней было существенно, пусть взвесит
на весах человеческой ценности мозолистого Тарпина
с его запеленатой моторкой и всемирно известного,
одухотворенного Биэрда. Следующие пять вечеров,
насколько он мог судить, она оставалась дома,
у него же была лекция, другие встречи и ужины,
и, приезжая домой, обычно после двенадцати, он надеялся,
что его уверенные шаги в темном доме прозвучат
так, будто он возвращается со свидания.
Шестой вечер у него был свободен, он остался
дома, и тогда ушла она, потратив больше обычного
времени в душе и с феном. Со своего места на промежуточной
лестничной площадке перед вторым
этажом из утопленного маленького окна он наблюдал,
как она проходит по садовой дорожке, задерживается
у кустов алых роз, задерживается так, как
будто ей неохота уходить, протягивает руку, чтобы
осмотреть цветок. Она сорвала его двумя пальцами
с только что накрашенными ногтями, подержала,
рассматривая, и уронила под ноги. Летнее платье,
бежевое, без рукавов, с одной складкой на пояснице,
было новым, и он не знал, как истолковать этот знак.
Она пошла к калитке; ему показалось, что шагает
она сегодня тяжелее, что нетерпения в походке меньше
обычного и «пежо» взял с места не так резво.
Однако ночью он дожидался ее приезда в менее
приподнятом настроении, он сомневался в своих
расчетах и думал уже, что, кажется, был прав — проделка
с радио сыграла против него. Чтобы лучше думалось,
он налил виски и стал смотреть футбол. Вместо
ужина съел ванночку клубничного мороженого
и расшелушил полкилограмма фисташек. Спокойствия
не было, тревожило безадресное вожделение,
и он пришел к выводу, что стоит, пожалуй, завести
новый роман или возобновить какой-нибудь старый.
Он листал свою телефонную книжку, долго смотрел
на телефон, но трубку так и не снял.
Он выпил полбутылки, около одиннадцати уснул
на кровати одетый, не выключив верхний свет, и несколько
секунд не мог понять, где находится, а потом
вдруг ночью его разбудил голос внизу. Часы на
тумбочке показывали половину третьего. Внизу Патриция
разговаривала с Тарпином, и у Биэрда под
бодрящим действием выпитого возникло желание
объясниться. Он стоял посреди комнаты и, пошатываясь,
заправлял рубашку в брюки. Потом тихо открыл
дверь. Свет горел во всем доме, и это было кстати;
он стал спускаться по лестнице, не задумываясь
о последствиях. Патриция еще разговаривала, и по
пути через переднюю к открытой двери гостиной
у него создалось впечатление, что она смеется или
поет и сейчас он нарушит их маленький праздник.
Но она была одна и плакала, сидела, согнувшись,
на диване, а на длинном стеклянном журнальном
столике лежали, повалившись набок, ее туфли. Звук
был непривычный — задавленный и горестный. Если
она когда-нибудь и плакала так из-за него, то в его
отсутствие. Он остановился в дверях, и она увидела
его не сразу. На нее было больно смотреть. В руке —
скомканный платок или салфетка, хрупкие плечи согнуты
и вздрагивают — Биэрда охватила жалость.
Он понял, что час примирения настал, достаточно
только нежного прикосновения, ласковых слов и
никаких вопросов, и она припадет к нему, и он заберет
ее наверх, хотя даже в этом приливе теплых
чувств он сознавал, что отнести ее туда не сможет,
даже на обеих руках.
Когда он шагнул в комнату, под ним скрипнула половица,
и Патриция подняла голову. Глаза их встретились,
но всего на секунду, потому что она поспешно
закрыла лицо руками и отвернулась. Он произнес
ее имя, а она помотала головой. Потом неловко, спиной
к нему, поднялась с дивана и, двигаясь почти
боком, споткнулась о шкуру белого медведя, вечно
скользившую по вощеному полу. Однажды он сам
чуть не сломал из-за нее лодыжку и с тех пор терпеть
ее не мог. Ему не нравилась и оскаленная пасть
с пожелтелыми от долгого пребывания на свету зубами.
Они так и не потрудились закрепить ее каким-
нибудь образом на полу, а о том, чтобы выбросить, не могло быть и речи —это был свадебный подарок
ее отца. Патриция удержалась на ногах, схватила
со стола туфли и, прикрыв свободной рукой глаза,
торопливо прошла мимо него; он хотел тронуть
ее за плечо, но она отпрянула и снова заплакала, уже
в голос, и побежала наверх.
Он погасил в комнате свет и лег на диван. Бессмысленно
идти за ней, раз она его не хочет — но
теперь это не имело значения, потому что он видел.
Она не успела закрыть ладонью синяк под правым
глазом, стекавший на скулу, черный с красной оторочкой,
набухший под нижним веком, так что глаз
закрылся. Он громко вздохнул, покорившись судьбе.
Выбора не было, долг требовал, чтобы он сел сейчас
в машину, поехал в Криклвуд и жал на звонок,
пока не поднимет Тарпина с постели, и там, прямо
под четырехгранным фонарем, он ошеломит
отвратного соперника своей быстротой и натиском.
Сузив глаза, он продумывал это снова и снова, задерживаясь
на том, как хрустнет носовой хрящ под его
правым кулаком, а потом, с незначительными поправками,
разыгрывал эту сцену с закрытыми глазами
и не пошевелился до утра, когда был разбужен
стуком захлопнутой двери — это Патриция уезжала
на работу.