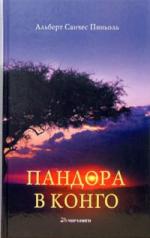- Chéri, tu m’écoutes?..
Alors, répète ce que je viens de dire… - Перевод с фр. И. Радченко, М. Архангельской
- М.: Флюид / FreeFly, 2007
- Переплет, 256 с.
- ISBN 978-5-98358-141-8
- 1500 экз.
Скромное обаяние буржуазной литературы
Наши ожидания оправдались. Теперь, после Дефолта материальных и культурных ценностей, можно и нам. Вот оно, едва ли не освященное многолетней борьбой против себя самих же право. Почти что отвоеванное на баррикадах. Наконец-то… Отныне он пришел на наш рынок, в ума и сердца — Легкий Буржуазный Роман Для Среднего-Класса-Которого-Так-Долго-Не-Было… Появился вместе со средним классом. В скобках, перефразируя известное высказывание Вольтера, замечу: если бы среднего класса не было и впредь, его следовало бы выдумать… Но вернемся к Николь де Бюрон.
Николь де Бюрон — вполне достойная франкоязычная писательница. И с чувством юмора у нее все в порядке (вопреки — а может быть, как раз благодаря — легкой неадекватности персонажей. Но в ней, в неадекватности, есть некий шарм. Все странности — и, говоря светским языком, «самобытность» действующих лиц — напоминают плесень, придающую сырам известную пикантность). Шутит писательница легко, но и профессионально: поднаторела на сценариях к ситкомам и прочей продукции франкофонной индустрии развлечений.
О, французская индустрия развлечений… Рискуя впасть в привычные интеллигентские ламентации, сиречь сетования о том, что вот-де, у них и трава зеленее, и небо чище, и воздух слаще, чем здесь у нас, замечу все же: ни легкого буржуазного романа, ни тем более такого его подвида, как Легкий Буржуазный Роман для Дам или Легкий Буржуазный Философский Роман, отечественный издательско-читательский рынок прежде не знал. Ну, Маринина… Ну, Донцова с Дашковой… Еще — Хмелевская (импортный производитель иронического и дамского детектива для последних читателей дряхлеющей Империи)… На этом, пожалуй, все. Ни Жордан, ни Бегбедер, ни Дютертр… (Минаева с его вставленными идеологическими концепт-вирусами я не считаю буржуазным философом. Минаев — это вообще отдельная тема.) Иными словами, не было у нас такой литературы, как Беззаботный Буржуазный Роман, где герои, цитируя Стругацких, «выпивают и закусывают quantum satis»,— как, впрочем, не было и буржуазного романа противоположного толка. Философского Буржуазного Романа. Литературы обратной полярности, где герой, бродя по миру-супермаркету под сенью каталожного дерева мегакорпораций, мучается, точно застарелой хворобой, гамлетовскими вопросами нашего времени: а для чего, собственно, был весь этот цирк, куда он уехал и почему вокруг осталось такое неимоверное количество клоунов?..
Герои (вернее, героини) Николь де Бюрон не ведают подобных сомнений. Буржуазный роман Николь де Бюрон — легок и беззаботен. Там невозбранно и беспечально выпивают и закусывают quantum satis, влюбляются, танцуют, беседуют (причем безо всякой психоделии) с котами и кошками, попутно выдавая замуж свою мать (вернее, уже бабушку — как в биологическом, так и в социальном смысле) и решая сердечные проблемы юной дочери…
Такая вот идиллия. А написать роман, где все счастливы именно потому, что ничего выдающегося не происходит и ни за что воевать не нужно, да еще сделать это забавно и не прибегая к детективной интриге с убийствами и кровью способен далеко не каждый, уверяю вас.
Взять хотя бы те тексты, которые пишем мы,— вернее, тексты, написанные самой жизнью. Наверное, в них тоже есть какой-то подвиг. Какой-то смысл. Вместо ревущих девяностых — тихие, гламурные «нулевые». Вместо споров до крови и хрипоты — идеологически безупречная продукция, разработанная в лучших лабораториях масс-медиа. Вместо «панки, хой!» — «превед, кросавчег». Вместо богемы — средний класс. Вместо кочегарок — офисы. Вместо рейвов и наркотрипов — стабильная зарплата, компенсационный пакет, бонусы, фитнесс, спа и оплачиваемый отпуск…
Вместо постмодернизма — постромантизм. А вместо жизни — симулякр от Бодрийяра.
Нет, книга у Николь де Бюрон получилась неплохая, не спорю. Тонкая, забавная, веселая и легкая. Как раз такая, какая легко вписывается в формат нашего времени. Времени без героев. Времени как-бы-спокойствия и как-бы-благосостояния. Но, в конечном итоге, все это — лишь мои собственные соображения.
А потому оставим творение Николь де Бюрон на суд читателям…