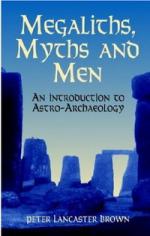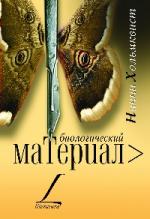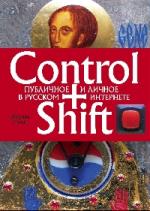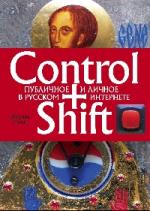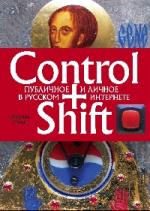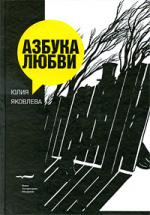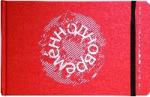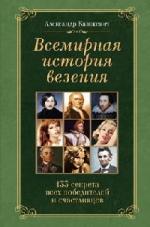Больше метрики, больше лунных камней
Исследования мегалитических объектов Тома, продолжившие работы Льюиса, Локьера и, впоследствии, Бойла Сомервиля, пошли гораздо дальше достижений этих пионеров. Вместе с тем эти трое подсказали Тому важные направления для его работы: у Льюиса он позаимствовал идею классифицировать круги; у Бойла Сомервиля — ключи к лунным ориентировкам Калланиша; а у Локьера — звездные ориентировки и противоречивый аналитический метод использования долговременных изменений наклона эклиптики Солнца в качестве инструмента для датирования мегалитических монументов. Следует вспомнить, что Локьер, используя так называемую среднюю линию авеню в Стоунхендже, вычислил дату —1680 ± 200 лет. Большинство же считало этот метод непрактичным, а результаты Локьера — случайным совпадением, поскольку выбор средней линии авеню был слишком произвольным.
Несмотря на это, Том считал основной метод Локьера весьма ценным, при условии точного определения базисной и целевой точек визирования в самом монументе или на местности поблизости от мегалита. Со времен Локьера были получены более точные значения вариаций угла наклона эклиптики (сейчас известно, что он варьируется в пределах от 21°39′ до 24°36′). Том взял значения, приведенные в работе Де Ситтера (1938), который доказал, что этот угол сокращался примерно на 40 секунд в столетие в период с —1800 до —1600.
Большую часть своей второй книги «Мегалитические лунные обсерватории» (1971) Том посвятил демонстрации того, как можно датировать мегалитические монументы по коэффициенту изменения угла наклона эклиптики Солнца, если линии наблюдения достаточно длинные, чтобы определить азимут с точностью до 1′ дуги или менее.
Чтобы оценить значение его работы, сначала следует снова взглянуть на факторы, контролирующие явное движение Луны. Нужно помнить, что в отношении лунных ориентировок Стоунхенджа важно учитывать склонение в 5° эклиптики лунной орбиты. Не следует также забывать, что точки пересечения лунной орбиты — нодальные или узловые точки — явно регрессируют по эклиптике за 18,61 года. Склонение на 5° пути, проходимого Луной, заставляет точки ее восхода и захода (азимуты) смещаться туда-сюда по линии горизонта с гораздо большей амплитудой и коэффициентом изменения, чем у Солнца. И наконец, следует помнить, что затмение может произойти, когда Луна и Солнце расположены примерно на линии этих нодальных точек.
Среднее значение орбитального склонения Луны составляет 5°8’43’’, но это лишь среднее значение. Тихо Браге
Вариация в 9′, открытая Тихо Браге, которая, как мы теперь знаем, вызвана эффектом пертурбации, заставляет полюс лунной орбиты двигаться единообразно по малому кругу с радиусом 9’ за период в 173 дня.
Вариация в 9′ достаточно большая величина, чтобы иметь значение для затмения. Том проиллюстрировал эффекты такого кратковременного изменения склонения на 9′, которые на примере ноября 1968 года указывают на изменение склонения от +28°33′ до —28°33′ за период в две недели. Эта цифра также показывает в доступной графической форме пределы эклиптики, в которых могут происходить затмения. Следует отметить, что продолжительность этих периодов составляет примерно три недели. По мнению Тома, они могут происходить, когда фактор пертурбации имеет максимальное значение и только в предписанных эклиптических пределах. Примером этому может служить появление полной Луны 2 апреля 1969 года. Тогда она находилась слегка вне этого предела и поэтому не смогла пересечься с тенью Земли.
Том считал, что если наблюдатели из мегалита могли проследить этот весьма важный эффект пертурбации ориентировок кругов и камней и могли измерить его период, то в этом случае в их руках оказывалось достаточно данных для предсказания затмений. Он применил эти методы как к солнечным (солнцестояние), так и к лунным мегалитическим объектам. Два из наиболее важных описанных им лунных объекта расположены в Темпл-Вуд в Аргиллшире и Мид-Клите в Кайтнессе.
Темпл-Вуд (возле Килмартина) — небольшой круг с внутренним кольцом и цистой. Поблизости расположена линия из пяти вертикальных камней (менгиров), на одном из которых высечены знаки «чашки». Другая группа камней состоит из трех вертикально стоящих камней.
Поверхность земли вокруг ровная, а долина окружена холмами различной высоты. Позиция идеально подходит для использования очень длинной линии наблюдения, целевая точка которой указана естественным ориентиром на холмах. Фактически это суть рассуждений Тома, поскольку он утверждал, что мегалитический человек мог определять азимуты Солнца и Луны с большой точностью, используя отдаленную точку на линии горизонта в качестве маркера азимута. В Темпл-Вуде, например, естественные целевые точки расположены на расстоянии 2 км (1,25 мили) и 6,3 км (3,93 мили). Наблюдая от стоящих вертикально камней, можно видеть четко определенный ориентир на отдаленных холмах примерно в 2 км (1,25 мили). По предположению Тома, этот ориентир представлял собой главную целевую точку азимута для Луны в ее самой северной позиции в период максимальных стояний.
Том утверждал, что метод строителей мегалита Темпл-Вуд предусматривал наличие двух наблюдателей: один следил за верхним проблеском Луны, а другой — за нижним. Два наблюдателя могли уравнять свои наблюдения и исправить ошибки, возникающие
Судя по этим методам и приведенному выше примеру, идеи Тома имели далеко идущие последствия для оценки интеллектуальных возможностей мегалитического человека, о которых также говорил Хойл в связи с дизайном и действием его предсказателя затмений в Стоунхендже. Если без критики принять все, что, по мнению Тома, скрыто в Темпл-Вуде и других сопоставимых с ним объектах, охваченных его исследованием, то становится очевидным, что доисторический человек уже знал о Луне то, что европейцы вновь открыли для себя в современный период.
В частности, заявления Тома в отношении объекта в Кинтро получили широкую огласку. Это пример так называемых объектов, ориентированных на солнцестояния, где, по его мнению, мегалитические указатели точек восхода и захода Солнца во времена зимнего и летнего солнцестояния представлены настолько явно, что с их помощью можно достаточно точно определить склонения Солнца во время стояния для конкретной эпохи строительства мегалита. В этой работе он достиг той долгожданной точности, которой Локьер, пионер этого метода, всегда пытался добиться в Стоунхендже.
Том предполагал, что объект Кинтро в Арджилле указывает на зимний заход Солнца с. —1700 посредством ориентира, сформированного вершинами двух холмов на острове Джура примерно в 45 км (28 милях) к юго-западу. Кинтро — примечательный объект по нескольким причинам. Он имеет несколько самых длинных линий наблюдения, известных среди мегалитических обсерваторий, но именно конфигурации различных элементов этого каменного комплекса вызвали наибольшее число комментариев и споров. Сам же объект расположен на небольшом плато на крутом склоне холма. С уровня земли нужный для наблюдения участок гор заслонен ближайшим (1,6 км) хребтом на переднем плане. Чтобы наблюдатель видел расположенный в седловине ориентир, по догадкам Тома, было необходимо создать наблюдательную платформу на крутом склоне холма в северной части плато перед глубоким ущельем. В свою очередь, это потребовало бы возвести пирамиду в наблюдательном объекте на линии и на высоте, откуда виден ориентир. Такая «платформа» и в самом деле была обнаружена на крутом склоне холма, где два огромных камня представляли ориентир, подходящий для наблюдения за седловиной.
Эта предполагаемая наблюдательная платформа стала предметом довольно тщательного археологического изучения, имевшего целью определить, была ли она действительно частично искусственной чертой пейзажа, или же была сформирована случайно накопившимся щебнем и другими естественными факторами. К настоящему времени (1975) никаких признаков человеческой деятельности там не обнаружено, как и каких-либо материалов, типа углей или другой органики, необходимых для радиоуглеродного датирования. Том и его сотоварищи заявляли, что эта платформа является ярким доказательством ее использования в качестве наблюдательного пункта во времена мегалита.
Другой солнечный объект Тома расположен в Баллохрое в 64 км (40 милях) к югу от Кинтро. Там есть две позиции для наблюдения за заходом Солнца: одна для захода Солнца во время зимнего солнцестояния (верхний проблеск) над островом Кара, а вторая — для захода Солнца во время летнего солнцестояния (верхний проблеск).
На основе исследований объектов, связанных с солнцестояниями, в Шотландии Том получил результаты, соответствовавшие эпохе —1750 (± 100 лет). Поскольку таких объектов было достаточно, чтобы рассчитать стандартную статистическую ошибку, метод Тома должен был допускать среднюю «догадку». Он считал маловероятным какое-либо значительное улучшение данного метода, пока не будут найдены другие объекты и измерены с точностью до ± 20’’.
Одним из самых замечательных аспектов исследований Тома мегалитических объектов в Шотландии стала его интерпретация любопытного веерообразного расположения камней в Кайтнессе. В нескольких из этих расположений каменные плиты установлены так, что их длинные оси являются параллельными направлению их ряда. Эти ряды камней были исследованы в 1871 году, но их любопытное расположение, в котором отдельные камни редко превышают 45 см (18 дюймов) в вышину, уже давно составляет даже большую головоломку по поводу их истинного назначения, чем мегалитические круги. По мнению Тома, эти ряды камней могут представлять собой примитивный каменный компьютер, использовавшийся жрецами-астрономами для решения сложных проблем, включая экстраполяцию, возникающую как следствие того, что Луна может достичь своего максимального склонения, когда она не находится в точках заката или восхода. Благодаря
Том отмечал, что британские лунные объекты, в отличие от солнечных, содержат самые большие вертикальные камни (менгиры). После исследований шотландских объектов он обратил внимание на великие мегалитические монументы Бретани, особенно в районе Карнак, который называли «Меккой мегалитического мира».
Французские монументы, как и их британские собратья, веками привлекали внимание историков и претенциозных «расшифровщиков», а литература о них была полна различного рода фантастических спекуляций по поводу того, какую роль эти огромные одиночные менгиры, выстроенные в длинные линии ориентировок, играли в жизни древних людей.
Наиболее впечатляющим из отдельно стоящих вертикальных камней Европы являетсябольшой менгир Бриз, Er Grah, или Волшебный камень возле города Локмариаке. Сейчас он лежит на земле, разбитый на пять кусков, один из которых отсутствует на месте. Камень явно упал еще до 1727 года, когда маркиз де Робьен, президент парламента Бретани, нарисовал его в том положении, в каком он и находится сейчас. Его вес, рассчитанный в соответствии с объемом и плотностью, слегка превышает 350 метрических тонн, а в вертикальном положении его высота достигала 20 м (66 футов). Некоторые, однако, полагают, что камень мог расколоться во время его возведения
В Бретани до сих пор стоят несколько менгиров, высота которых варьируется от 9 до 12 м
Характерной чертой монументов Бретани является отсутствие каменных кругов, подобных тем, которые находят в Британии. Близким примером британских кругов могут служить круги на маленьком островке на объекте
В Карнаке, «кладбище камней», линии менгиров, ориентированные в восточном направлении, достигают длины более 5 км (3 мили). Они состоят из нескольких тысяч вертикальных камней и представляют собой величайшую концентрацию мегалитических остатков в Европе. На западе они начинаются от деревни Менек, «места камней», затем простираются на восток через Кермарио, «место мертвых», до Керлескана, «места горения», и Пети-Менек (Menec-Vihan), а в одно время простирались вплоть до реки Краш.
Эти ориентировки можно разделить на три определенные группы: поле Менек; поле Кермарио; поле Керлескан.
Каждое из этих трех полей точно определено, и каждое имеет свою ориентировку. Помимо огромных рядов менгиров, там находятся несколько больших, связанных с ними кромлехов, коридорных гробниц, курганов и отдельных менгиров. Изолированные в настоящее время менгиры, возможно, ранее являлись частью группы, но остальные исчезли, а число менгиров, преднамеренно установленных отдельно, могло быть гораздо меньшим, чем можно видеть сегодня.
Методические раскопки монументов в районе Карнака начались еще при маркизе де Робьене в период
В Британии нет ничего похожего на ориентировки Карнака. Большинство менгиров, составлявших ряды, были в определенные времена потревожены, особенно те, которые стояли на обнаженной породе и не были вкопаны в землю. Многие из них подверглись беспорядочной реставрации в XIX веке, и, как часто отмечалось, практически во всех случаях нельзя быть уверенным в том, что вертикальный камень занимает именно ту позицию, которая предназначалась ему строителями при изначальном возведении. Многие вертикальные камни, которые, как известно, были вновь установлены в наше время, отмечены маленькими квадратными ямами вокруг основания, наполненными красноватым цементом.
Теории относительно назначения этих менгиров положили начало такому же типу спекулятивной литературы, как и та, которая сопутствует Стоунхенджу и другим британским монументам. Интерпретацию менгиров Карнака, особенно одиноко стоящих менгиров, называли «археологическим кошмаром». В курганных захоронениях находят останки людей, оружие, керамику, домашние вещи, ожерелья и браслеты. Аналогичные остатки и артефакты имеются среди рядов менгиров, но возле самых больших из них не найдено никаких человеческих останков, даже если условия почвы способствуют их сохранению.
Теории об изолированных менгирах Карнака варьируются от мемориальных захоронений или указателей могил, языческих идолов, наземных ориентиров, подобных так называемым британским линейным ориентирам (см. ниже), до символов доисторического культа фаллоса. Последнюю теорию в некоторой степени поддерживает их сравнение с более современными мегалитическими остатками в других местах, где, как известно, культы фаллоса практиковались или практикуются до настоящего времени. Известный фольклорист XIX века Беринг-Гоулд1 рассказывает, что менгиры Бретани до сравнительно недавнего времени были тесно связаны с ритуалами плодородия, и приводит пример того, как часто бездетные крестьянские пары приходили и танцевали вокруг местного камня, когда хотели завести ребенка. Беринг-Гоулд говорит, что к такому камню их провожали родственники. Пара раздевалась донага, а родственники стояли на страже на почтительном расстоянии, чтобы отгонять незваных зевак. Полностью раздевшись, пара рука об руку обходила камень несколько раз — точное количество зависело от местного обычая, — а потом возвращалась к своим родственникам. В аналогичной британской легенде железного века, связанной с плодородием, говорится о гиганте гор — Человеке Церна.
1 Сабин Беринг-Гоулд
Популярная местная легенда, связанная с ориентировками камней Карнака, повествует: «Святой Корнелий был папой в Риме, откуда его изгнали преследовавшие его языческие солдаты. Он бежал от них, имея при себе пару волов, которые везли его поклажу и его самого, когда он уставал. Однажды вечером он добрался до окрестностей деревни под названием
Предположительно эту народную легенду рассказали первые ирландские монахи, прибывшие проповедовать Евангелие в этой части Бретани.
В фольклоре Бретани часто упоминается о «маленьких человечках», более характерных для ирландского ландшафта, поскольку традиционно считается, что дольмены были жилищами керионов — карликов, которые предположительно населяли эти земли в прошлом. Даже сегодня в различных частях Бретани все еще можно слышать выражение: «сильный, как керион».
В своей книге о Стоунхендже Локьер тоже упоминает о мегалитических монументах Бретани и, в частности, ссылается на работу француза М. Гайара, одного из пионеров — энтузиастов теории ориентировок. Гайар опубликовал результаты своих исследований астрономического характера французских монументов в своей L’astronomie prehistorique (1897). Он был далеко не первым французом, убежденным в астрономическом характере каменных сооружений и авеню, но, подобно Локьеру, стал известен широкой публике благодаря своим популярным произведениям.
Гайар попытался доказать, что эти авеню ориентированы на солнцестояние. Вместе с тем его работа отнюдь не была столь точной или убедительной, как работа самого Локьера, поскольку для определения координат Гайар пользовался только компасом и выбирал ориентиры весьма произвольно. В своем исследовании Гайар использовал метод, как он его называл, «индексного» менгира. Комментируя одну из ориентировок Гайара на солнцестояние в
Большее впечатление на Локьера произвела работа Девуара. Лейтенант французского флота, он обладал прочными знаниями геометрии и топографии, которые с успехом использовал в своих исследованиях мегалитических монументов в районе Финистер, к северо-западу от Карнака. Он посвятил этой работе несколько лет, проводя свои топографические исследования с помощью мензула. Его исследования охватывали многие параллельные ряды камней, и вскоре он обнаружил, что зачастую они были ориентированы на северо-восток. Другие в еще большей степени соответствовали местной ориентировке на солнцестояние.
Вслед за Девуаром несколько других исследователей предприняли попытки сформулировать более передовые идеи. В 1930 году Башмаков отнес мегалиты Бретани к доарийской культуре, у которой был календарь, разделяющий год на восемь астрономически определенных частей, указывающих на дни празднеств и пиров. Будучи этнологом, Башмаков взглянул на эти монументы другими глазами, чем астрономы и археологи. В полете полемической фантазии он считал, что эти ряды менгиров и вырезанные на них знаки представляли различные кланы и их тотемы. Эти великие сооружения предположительно были возведены классом элиты жрецов, что напоминало последующие рассуждения Локьера, а потом и Хойла, но все необходимые строительные работы осуществлял низший слой общества. Перечисленные Башмаковым знаки быка, барана и змеи были с энтузиазмом подхвачены теми, кто видел в них указатели на ранние зодиаки азиатского типа, популярные в Европе в доисторические времена.
Том прибыл в Карнак, уже имея на вооружении полностью разработанную астрономическую модель для объяснения мегалитических объектов. Используя обретенные на британских объектах знания о том, что самые высокие камни (менгиры) обычно являются базисными точками визирования на Луну, он собирался сначала сконцентрировать свое внимание на самых больших, более изолированных менгирах Карнака. Но затем Том решил, что самые большие камни не обязательно должны представлять собой базисные точки визирования: почему они не могут быть также и целевыми ориентирами? Вполне естественно, его внимание привлек упавший и разбитый Er Grah. И это действительно оказалось разумной отправной точкой.
Тому потребовалось определить позицию, в которой Er Grah был установлен его строителями. При этом, естественно, не учитывалась возможность того, что камень никогда и не был возведен (см. выше). Том выбрал точку в центре экстремального северо-западного конца позиции, где теперь лежал камень.
Результаты исследования убедили Тома в том, что геометрическое расположение рядов камней
Том считал, что фиксация позиции Er Grah, вероятно, потребовала нескольких сот лет внимательных наблюдений за Луной. Эти наблюдения наверняка открыли для мегалитических наблюдателей необъяснимые аномалии, возникающие по причине вариаций параллакса и рефракции. Период времени, необходимый для установки внешних менгиров, должен был потребовать длительного и бдительного наблюдения за каждым периодом максимального и минимального стояний. Том мысленно представил себе, как группы наблюдателей во всех возможных местах пытались увидеть восход или заход Луны за высоким пробным маркерным столбом. Он предположил, что ночью эти столбы должны были освещаться факелами, укрепленными на их вершинах (отголосок ранних идей Локьера), поскольку любые другие маркеры не будут видны, пока их силуэт не появится на фоне лунного диска. Для этого требовалось предварительно поработать в ранней протообсерватории, чтобы астрономы-возводители знали о типе максимума, за которым наблюдали, и о состоянии фактора 9′ пертурбации. За этим следовали девять лет ожидания следующего стояния, после чего была предпринята попытка определить следующие четыре лунные фазы.
Конечно же невозможно резюмировать всю работу Тома, опустив разделы, связанные с финальной аргументацией. Любой серьезный и критический читатель или специалист по мегалитической астрономии должен просмотреть все бумаги, чтобы усвоить, взвесить и оценить каждую идею поочередно. Вместе с тем суть мегалитических исследований Томом объектов Карнака заключается в том, что он обнаружил там тесные параллели с мегалитическими объектами Британии.
Он подтвердил существование его мегалитического ярда и обнаружил замечательное, по его мнению, единообразие единицы измерения, которой, как он считал, был шест, равный 6,802 ± 0,002 фута (21/2 МЯ). Мегалитический календарь, состоящий из шестнадцати месяцев, оказался реальностью, а ряды камней в Пети-Менеке и Сан-Пьерре, по всей вероятности, использовались как экстраполирующие сектора в той же манере, как и аналогичные ряды камней в Кайтнессе, о чем он писал ранее. Более поздние исследования показали, что кромлехи в
И только в 1974 году Том опубликовал свой первый доклад о Стоунхендже, который основывался на его полностью новых топографических исследованиях. Эти исследования подтвердили, что центр монумента, определенный расположением вала и рва, а также ямами Обри, отличался от центра сарсенового круга на 50 см. Различие этих центральных точек уже отмечалось ранее другими исследователями.
Используя свой стандартный шест в 2½ МЯ (6,803 фута: 2,04 м), он измерил круг Обри, окружность которого составила 131 шест. По его утверждению, планировка круга сарсенов также была выполнена с помощью той же меры в 1 шест, равный МЯ. Его внешняя окружность составила 48 шестов, а внутренняя — 45.
Том реконструировал сарсеновые трилиты на двух концентрических эллипсах 30×20 и 27×7 МЯ. Внутренний эллипс показал интегральное число мегалитических шестов с точностью до
Расположение ям Y и Z также привлекло внимание Тома. Он считал, что они составляли не правильные круги, а скорее две спирали, состоявшие из двух полукругов с различными радиусами, расположенными на расстоянии половины мегалитического шеста друг от друга. По его мнению, их дизайн был аналогичным хорошо известным рисункам «чашек и колец», обнаруженным в виде петроглифов на многих менгирах.
В своем исследовании кругов из голубых камней он придерживался идеи Аткинсона о том, что эти шестьдесят камней
Еще более значимыми для общих дебатов об ориентировках были рассуждения Тома по поводу небольшого кургана («курган Питера»), расположенного в 2,7 км (1,7 мили) к северо-востоку и впервые замеченного С. А. Ньюхэмом во время его исследований окрестностей Стоунхенджа в поисках признаков возможных маркеров горизонта. Этот курган вошел в новое исследование Тома, а его азимут определен как 49°47,3′ от центра круга Обри и 49°45,5′ от Пяточного камня. Для линии визирования солнцестояния это означало соответственно даты —2700 (± 400) и —3300 (± 400). Он отметил, что эти даты укладываются в хронологическую линию с новыми радиоуглеродными датировками ям Обри.
Касаясь вопроса о лунных ориентировках, Том ссылался на новаторскую работу Ньюхэма и соглашался с тем, что все сводилось к тому, что Стоунхендж мог быть центром огромной лунной обсерватории. Том, однако, считал, что Стоунхендж олицетворял не целевой лунный ориентир, как в определенном им случае с большим менгиром Бриз в Карнаке, а представлял собой универсальную базисную точку, из которой можно было наблюдать отдаленные маркеры на горизонте.
Рассматривая вопрос о ямах для столбов около Пяточного камня, он считал, что они обозначают сектор экстраполяции, аналогичный тем, которые он обнаружил в Кайтнессе и Бретани для наблюдения за Луной в ее экстремальных позициях.
Том отмечал, что вокруг Стоунхенджа могут быть найдены и другие лунные маркеры. Камень, обозначенный на топографической карте в северо-восточном углу Плантации Фарго, мог указывать на точку захода Луны в ее максимальном склонении, но это оказался современный пограничный камень. Однако на том же азимуте, на расстоянии 14,7 км (9,16 мили) находится также и Джиббет-Кнолл возле Маркет-Левингтон, силуэт которого можно было видеть из Стоунхенджа на фоне лунного диска.
В качестве общего заключения Том соглашался с ранними идеями (выдвинутыми Ньюхэмом) о том, что Стоунхендж, похоже, имел несколько лунных ориентировок и, возможно, являлся центром большого района, где велись наблюдения за Луной, подобно тому, какой он обнаружил в Карнаке. Поскольку радиоуглеродный метод датирования указывал на то, что строительство Стоунхенджа происходило в начале третьего тысячелетия, а не во втором тысячелетии, как считалось ранее, следовало провести некоторую переоценку хронологии. Это, однако, можно объяснить тем, что предположительно изучение движений Луны началось в Стоунхендже очень рано и продолжалось в течение нескольких столетий. И вполне возможно, что в результате этих ранних и, вероятно, новаторских работ иные обсерватории впоследствии стали создаваться в других частях Британии.