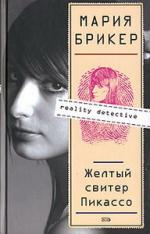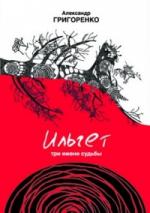«Человеком-невидимкой» в своей восторженной рецензии на «Вайнленд» Салман Рушди назвал американского прозаика Томаса Пинчона. Не дающий интервью, избегающий контактов с литературными кругами, не фотографирующийся (единственный, кто отказался от снимка для обложки журнала «Тайм») Пинчон под такое определение более чем подходит. Но отсутствие Пинчона-человека в писательской среде с лихвой искупается присутствием Пинчона-автора. Его выдающиеся романы обсуждают, анализируют и пробуют расшифровать лучшие критики от Хэролда Блума до Мичико Какутани, его влияние признают мастера прозы уровня Т. С. Бойла, Рона Муди и уже упоминавшегося Рушди, на роль его наследников претендуют ставшие знаменитыми в последние годы Дэвид Фостер Уоллес, Уильям Воллманн и многие другие. Пинчон от комментариев воздерживается: время от времени ошеломляя публику очередным шедевром, он в каждым своим новым романом который раз дает понять, что наследникам до него еще очень далеко, да и многим обласканным успехом коллегам вообще-то тоже. Влияние Пинчона выходит, кроме того, далеко за рамки литературного мира: его цитируют такие мастера кино, как Дейвид Кроненберг или Дэнни Бойл.
В юбилейный 2007-й о Пинчоне напишут много, не сомневаюсь. Попробую внести свой скромный вклад и я. Хотя — Пинчон является одним из тех людей, рассуждать о которых очень интересно, но невероятно сложно, так как даже пытаться охватить широчайший диапазон исследуемых им проблем и использованных литературных технологий — задача скорее для масштабного исследования, а не для журнальной статьи.
С традиционно приводимой в таких случаях биографической справкой уже возникают трудности. Учитывая скрытность писателя, информацию можно почерпнуть разве что из появляющихся иногда воспоминаний его друзей или спутниц жизни. Бывает, в эссе самого Пинчона всплывают какие-нибудь интересные подробности. Самым же значительным «подарком» всем биографам стали попавшие в 90-е годы на страницы прессы письма Пинчона к его бывшему литературному агенту. (Адвокаты писателя той публикации всячески препятствовали). Мы точно знаем, что потомок норманнского воина Пинко Томас Рагглс Пинчон родился 8 мая 1937 года на Лонг-Айленде и что он считался одним из лучших студентов престижного Корнелльского университета, причем преуспел в равной степени в технических и гуманитарных науках (одним из преподавателей у него был Владимир Набоков), хотя и прерывал обучение для прохождения службы во флоте. К тому периоду относятся те из немногих существующих фотографий Пинчона, на которых изображен или благообразный студент с выпирающими передними зубами, чем-то похожий на футболиста Роналдо, или не слишком трезвый морячок, похожий на… обычного загулявшего военнослужащего. Будущего мастера интеллектуальной прозы углядеть на этих снимках нелегко, но своеобразное обаяние начинающего автора бесспорно.
Пробовать себя в литературе Пинчон начал довольно рано. Уже в середине 50-х его рассказы становятся самостоятельными и интересными. Эрудиция Пинчона шла ему только на пользу, поскольку он не выставлял ее на первый план, а умело использовал при создании сюжетов и атмосферы первых своих опытов. Его начитанность поражала знакомых. Литературные интересы Пинчона распространялись на таких разноплановых авторов, как Генри Адамс, Ралф Уолдо Эмерсон, Марк Твен, Фрэнсис Скотт Фицджералд — с одной стороны и шпионские романы — с другой. Двумя любимыми книгами конца 50-х он называл знаменитый роман Джека Керуака «В пути» и менее известный культовый вестерн «Уорлок» Оукли Холла. Чуть позже Пинчон станет одним из первых писателей, заметивших «Уловку 22» Джозефа Хеллера, и сделается ее поклонником. К тому же Пинчон интересовался кино — не только американским, но также и европейским и азиатским, и не только серьезным, но и коммерческим. Не стоит забывать еще и об интересе к комиксам, к музыке (в первую очередь к джазу). Кажется, все виды искусства, — «высокие» и «низкие», — входили в сферу интересов Пинчона. Можно только удивляться, как этот «художник в юности» при такой занятости находил время уводить у приятелей подружек-фотомоделей и сохранять с теми (фотомоделями) добрые отношения даже после разрыва.
После окончания университета Пинчон отклонил предложение остаться в университете и начать преподавательскую деятельность, — с тем, чтобы устроиться в компанию «Боинг». Большого удовольствия это ему не принесло, но и маяться тоже пришлось недолго. В 1963 году выходит роман «V», получает престижную Фолкнеровскую премию за лучший дебют, и запускает таким образом маховик легенды о Томасе Пинчоне, невидимом гении. В первом своем романе Пинчон умело сочетает традиции энциклопедического романа и набиравшей тогда популярность «школы черного юмора». Одна из сюжетных линий связана с описанием невзгод типичного героя-неудачника в современной Америке, а вот другая, повествующая о загадочной V, охватывает значительный временной период, причем действие разворачивается в самых разных странах мира. Читающая публика получила таким образом вопрос не менее интересный, чем «быть или не быть?» Теперь вопрос звучал так: «Кто, что или где V?». По идее, ответ в книге был дан, но загадочная атмосфера романа предполагала более широкую трактовку, чем та, что лежала на поверхности. Историческая часть романа оказалась не только насыщена отсылками к событиям прошлого и европейской культуре, но и обозначила интерес Пинчона к разработке темы заговоров и к исследованию охватывающей общество накануне грандиозных событий паранойе. Любовь писателя к шпионским романам проявляет себя при этом более чем отчетливо, к тому же внимательно изучивший жанр Пинчон безошибочно обыгрывает самое важное для таких романов: на самом деле в подобных книгах нас больше интригует сама обстановка таинственности и игры масок двойных и тройных агентов, чем то, на кого эти агенты работают и какие цели преследуют. В современной же части Пинчон вроде бы более традиционен, но иронические песни, комментирующие действие, а также обилие странных персонажей и их столь же странное поведение уже дают основу для неожиданной сюрреалистической и порой ирреальной составляющей следующих романов писателя, для его «истерического реализма».
Еще один важный момент в «V» — пессимизм Пинчона, который в той или иной степени характеризует все его книги. Это не уныние и безысходность, это «бодрый пессимизм», неразрывно связанный с черным юмором, но это пессимизм. Обе сюжетные линии романа приводят к единому выводу: мир и люди по сути своей не меняются, в лучшую сторону — точно нет. Прогресс и все такое прочее модифицируют внешний облик мира, но и только. Поэтому произнесенная одним из героев в конце романа фраза: «Ни черта я ничему не научился», — может быть адресована всему человечеству.
Пытаясь разгадать заключенные в романе тайны, критики и исследователи вдруг вспомнили, что разумнее будет спросить у автора. Но выяснилось, что это как раз невозможно. Ставший новым любимцем интеллектуалов Пинчон все просьбы об интервью отклонял, а от навязчивых репортеров (особенно от тех, что с фотокамерами) скрывался. Как следует из писем той поры, Пинчон нелегко переживал обретенную известность. С одной стороны, он обещал написать еще четыре великих романа, с другой — жаловался на творческие сложности, признавался, что хочет прекратить занятия литературой и сосредоточиться на научных изысканиях в области математики. Чуть ли не идеальным занятием Пинчон полагал вообще работу кинокритика в каком-нибудь крупном журнале. К счастью, неизбежные для почти любой художественной натуры терзания не взяли верх над интеллектом и вскоре Пинчон приступил к реализации программы по написанию великих романов.
Сложно сказать, можно ли включать «Выкрикивается лот 49» (1966) в их число. Пинчон к этой книге относился критически, признавал, что писал ее только по финансовым соображениям, и находил в ней массу недостатков. Да, этот небольшой роман уступает другим книгам писателя. Однако по-своему он весьма и весьма любопытен. Недаром «Лот» приобрел культовую известность, особенно среди «теоретиков заговора». В истории о домохозяйке Эдипе Маас, случайно ставшей распорядительницей состояния умершего миллионера, умение Пинчона создавать запоминающихся второплановых персонажей и сатирически изображать маленькие городки вновь не изменяет ему, однако гораздо интереснее изобретенная им для книги альтернативная почтовая система. Набирающая с каждой книгой силу идея о враждебности человеку могущественных и контролирующих все и вся властей, которым одиночки по мере сил пытаются противостоять, в «Лоте» нашла отражение как раз именно в этой системе, которой уклоняющиеся от тотального контроля люди и пользуются, не доверяя официальной почте. Позднее книгу Пинчона даже объявили пророческой, увидев в ней предсказание Интернета и электронной почты (а в значке «почтовый рожок» будущую «собаку»), но учитывая, что в недавних своих эссе писатель про Интернет пишет осторожно, видя в нем возможность как раз усиления контроля за умами, то вряд ли такое толкование ему самому пришлось бы по душе. Да и популярность среди любителей искать заговоры его отнюдь не обрадовала. В разговоре со знакомым он даже недовольно обронил: «Теперь каждый псих в мире настроен на мою длину волны».
vОтвлекшись на любопытный, но не удовлетворивший его самого «Лот», Пинчон сосредоточился на «Бездумных удовольствиях». Так должен был называться следующий роман. Писался он, когда Пинчон, по собственному признанию, находился в крайне депрессивном состоянии. Неудовлетворенность «Лотом 49», некоторое разочарование в субкультуре 60-х (изначально вызывавшей у Пинчона большой интерес), реалии общественно-политической жизни Америки начала 70-х депрессию только усугубляли. Однако в результате получился шедевр, — возможно, главный роман XX века, и уж точно центральный в американской литературе. Роман получил окончательное название «Радуга гравитации» и вышел в 1973 году.
Книга строится на основе сюжетной схемы шпионского романа: американский офицер Слотроп, загадочным образом связанный с военными экспериментами в области новейшего оружия и психиатрии, засылается в конце Второй мировой войны на европейский фронт с целью выявить засекреченные немецкие ракетные базы. Постепенно история обрастает дополнительными сюжетными линиями, количество действующих лиц возрастает, исследуемых Пичноном тем становится все больше и больше, а события середины 40-х неожиданно находят перекличку с событиями начала 70-х. Пинчон в «РГ» ухитрился затронуть, кажется, все темы, занимавшие мировую литературу. И не просто затронуть, а основательно порассуждать о каждой. Я бы выделил лишь некоторые, вообще для творчества писателя характерные. Это: подавляемая властью свобода личности и агрессивно-подавляющая сущность власти вообще; попытки неудачников-аутсайдеров выстоять в невольном противостоянии с враждебным миром; опасность научно-технического прогресса на службе правительств; неумение человечества извлекать уроки из случившегося и, как следствие, неизбежные повторы внешнеполитических кризисов. И Пинчон вновь крайне пессимистичен. Одиночка Слотроп в прямом смысле исчезает, становясь невидимым, группа анархистов создает некую «Контрсилу», которая быстро превращается в бюрократическую безликую машину, неотличимую от своего потенциального противника — аппарата правительственного контроля, — а настроения 30-х, приведшие к Второй мировой войне, и 40-х, приведшие к войне холодной, рифмуются с настроениями 70-х. Оттого-то «РГ» и завершается вполне апокалипсическим исходом, в котором тоже увидели пророчество… Но об этом позже.
Ставшая событием книга вызвала к жизни массу трактовок и толкований (они даже издаются отдельными томами), а Пинчон… от комментариев традиционно воздержался. Когда пришла пора вручать литературные премии, то вопрос был не в том, получит ли он хоть что-нибудь, а придет ли на вручение. На вручение Пулитцеровской премии Пинчон не пришел. Правда, туда никто не пришел. Ее не вручали. Именно из-за Пинчона. Комитет переругался, так как половина не видела конкурентов у «РГ», а вторая полагала роман претенциозной порнографией. Согласия не было, и премия осталась неврученной. Национальную же книжную премию Пинчону присудили, пусть и в паре с Исааком Башевисом Зингером. На церемонии перед мэтрами литературы предстал несколько странный человек, который произнес столь же странную благодарственную речь. Публика отреагировала спокойно — гении они такие, но вот рискованную шутку Пинчона не поняла. Дело в том, что перед ними был никакой не Пинчон, а присланный писателем эстрадный комик Ирвин Коури. Однако отставшие от жизни мэтры не знали, кто такой Коури, поэтому получилась абсурдистская ситуация вполне в духе самого Пинчона. Казалось бы, после таких шалостей комитеты по вручению наград вообще убоятся чем-то награждать великого человека, но не тут-то было — в 1975 Пинчону была присуждена медаль Американского общества искусств и словесности (он от нее отказался), а в 1984 «Премия гениев» Фонда Макартуров (ее писатель принял, хотя подробности вручения неизвестны). Только Нобелевский комитет не решается до сих пор признать бесспорные заслуги Пинчона. Наверное, опасаются, что писатель вышлет вместо себя Билла Маэра или, страшно подумать, Коэна-Бората-Джи.
После «РГ» Пинчон взял паузу, какое-то время пронаблюдав за возникшим вокруг своего имени ажиотажем со стороны. Помимо толкований «РГ» появились уже упоминавшиеся воспоминания друзей и подруг, рисовавших образ человека, не лишенного обычных слабостей, но отличающегося потрясающим интеллектом и утонченным вкусом. Самому же писателю стало еще проще избегать ненужных контактов, так как его литературным агентом стала Мелани Джексон, точнее — миссис Пинчон. Однако Пинчон все же помог биографам, обратившись к эссеистике. Еще в 1966 он продемонстрировал свой талант в этой области, когда в «Путешествии в сознании Уоттса» дал точный анализ различий культур черной и белой Америки. А в 80-е появились «Нормально ли быть луддитом» (размышление о научно-техническом прогрессе), статьи о Габриэле Гарсиа Маркесе (взгляд Пинчона на «магический реализм») и Доналде Бартелми (рассуждение о «школе черного юмора). И главное — предисловие к сборнику «Неторопливый ученик»: в 1984 году вышло наконец это собрание ранних рассказов Пинчона, которое писатель предварил эссе о влияниях и настроениях в литературе конца 50-х годов.
А в 1990 году появился «Вайнленд», кого-то разочаровавший, но для многих ставший ожидаемым подтверждением гениальности Пинчона. От себя замечу, что это мой любимый роман Пинчона и одна из самых любимых книг вообще. Путешествие по американской послевоенной истории, написанное в неповторимой манере писателя, изобилующее сюрреалистическими ситуациями, размышлениями о подавлении индивидуальности правительственными службами, — словом, наполненное всеми атрибутами классического жанра «Книга Томаса Пинчона». Оптимизма у Пинчона прибавилось ненамного. Движение 60-х в «Вайнленде» представлено довольно инфантильным и дирижируемым ФБР, а его идеи — обреченными на перерождение в железобетонный консерватизм 80-х. Симпатии Пинчона по традиции на стороне одиночек, которым (в отличие от «РГ») он все-таки дарует подобие благополучного исхода. Музыкант Зойд Уилер, «ниндзетка»-анархистка ДЛ , японский детектив Такеши стали естественным продолжением и развитием таких героев Пинчона, как V и Слотроп, но при этом способными благодаря личным понятиям о порядочности и следованию простым эмоциям не позволить истеблишменту поглотить себя.
В «Вайнленде» Пинчон помимо прочего с блеском демонстрирует талант сатирика. Сюрреалистические находки имеют целью высмеять отупляемое телевидением и массовой культурой общество, чья инфантильность легко поддается манипулированию. Но помимо нежелания идеализировать прошлое и жесткой сатиры читатель найдет и незнакомого ему до сих пор Пинчона — Пинчона-лирика. Не впадающего в сентиментальность, но умеющего вызвать щемящее чувство от осознания утраченных грез, иллюзий и всевозрастающего разочарования. И этот сплав сатиры, «истерического реализма», антиправительственного триллера и размышлений об Америке 60-80-х исполнен Пинчоном с непревзойденным блеском.
Очень интересны и ставшие традиционными отсылки Пинчона к кино. Поскольку немалая часть книги, вроде бы «чисто американской», обращена к японским культуре и поп-культуре, то и обыгрываются не только комедии с Уильямом Пауэллом и Мирной Лой или «нуар», но и якудза эйга Киндзи Фукасаку, монстрофильмы Иширо Хонды и стилистика картин о «ниндзетках» Тошио Масуда. (Добавлю, что именно «Вайнленд» в свое время пробудил мой интерес к японскому кино). Российский читатель может обнаружить в перекличке 60-х и 80-х «Вайнленда» странное сходство с перекличкой идеализма конца 80-х и современностью в нашей стране.
После «Вайнленда» Пинчон не стал долго томить публику ожиданием. Роман «Мейсон и Диксон» появился в 1997 году. Возможно, это самый сложный для прочтения пинчоновский роман, так как роман написан языком XVIII века, в котором и разворачивается действие. Но отпугивать читателя это не должно. Это ничуть не уступающий прежним Пинчон, — роман, который ни в коем случае не оставит поклонников творчества писателя равнодушными. Неожиданный (казалось бы) выбор темы — рассказ о реальных людях (астроном Чарлз Мейсон и землемер Джеремия Диксон) и событиях («прочерчивание» знаменитой «Линии Мейсона-Диксона»). Следуя правилу, сформулированному одним из героев «МД», которое гласит, что «истина покидает того, кто на нее претендует», Пинчон предлагает не столько историческую хронику, сколько фантазию на темы событий XVIII века. Предлагаемые Пинчоном трактовки образов Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина, а также — появления фаст-фуда, популярности сект и возникновения поп-музыки поражают неиссякаемостью фантазии писателя и его искусностью в соединении правды и вымысла. Особенности же XVIII века, с характерным для этого времени сочетанием развития науки и сохранения предрассудков, способствуют появлению естественным образом обусловленных сюрреалистических эпизодов. Так что стык мифологии и неортодоксальных технических достижений становятся важным элементом книги. Ну и любимые темы Пинчона никуда не делись: неспокойные умы в преддверии исторических катаклизмов (войны за независимость США); неясные мрачные спецслужбы (в версии XVIII века); нормальные отношения людей как противодействие враждебной власти. XX век Пинчон закончил выдающимся произведением.
Начало века XXI ознаменовалось возвращением к обсуждению финала «РГ». После 9/XI 2001 читавшие роман вспомнили, что в апокалипсическом финале есть строки о «свете, что обрушил башни». Хотя в комментировавшей действие песне имелись в виду карты Таро, Пинчона в очередной раз объявили пророком. Примерно тогда же в Интернете появился якобы перевод «единственного интервью» Пинчона, данного японскому изданию «Плейбоя», где речь идет о манипуляции сознанием при помощи СМИ. Маловероятно, что интервью подлинное, однако легенду о Пинчоне оно дополнило. Сам же писатель прервал молчание в 2004 году, причем в прямом смысле: Пинчон озвучил самого себя в «Симпсонах» (появившись на экране с мешком на голове). Продюсеры оказались очарованы остроумием и обаянием писателя и вскоре пригласили его на озвучивание еще раз. Интересно, услышим ли мы Пинчона в «Южном парке»?
А в самом конце 2006 года появился роман «Against the day» (варианты перевода: «На день погребения моего», или, дословный — «Наперекор дню»). Это, безусловно, первый великий роман XXI века, снова напомнивший всем, что Пинчон остается бесспорным лидером американской (да и мировой) литературы. Взяв за основу жанр «семейной хроники», Пинчон создает каталог жанров (шпионский роман, детектив, эротика, математический триллер, социальная драма, мистика), мастерски пользуется приемами «истерического реализма» и не забывает о своих любимых темах. Действие романа охватывает конец XIX — начало XX века. По Пинчону за прошедшие годы мало что изменилось. Параноидальные настроения рубежа веков таковы же, технические достижения служат военным и правительству, а одиночки так же обречены на странствия и поражение. Хотя и не всегда. Финал романа кажется обманчивым хэппи-эндом, но надо помнить о связи романа с «Вайнлендом», которая придает книге уже знакомую грусть.
Снова не обошлось без отсылок к кино. В первую очередь — к вестернам. Пинчон напоминает о своей любви к роману «Уорлок» на уровне литературных отсылок, а кроме того в последнем романе много цитат из фильмов Сэма Пекинпа.
Монументальный и одновременно изящный, смешной и трагичный, гениальный в общем-то роман «Наперекор дню» оставляет ощущение некоторого замешательства. Собравший в одну книгу основные темы и основные приемы своего творчества Томас Пинчон словно простился с читателем. Хочется надеяться, что это всего лишь очередная мистификация великого писателя, и что он еще предложит нам не один потрясающий пример своего гения.