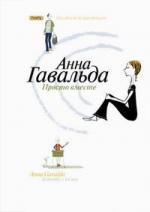Тема «классика сегодня» не сегодня, конечно, родилась. И всегда поднимали ее люди с проблемным, мрачноватым выражением лица, которое обещало народу в случае нерадивого отношения к классике если и не полное одичание, то определенно грядущую бездуховность. Про такое и подумать было страшно. Потому что для строителя коммунизма это был большой грех (прошу прощения за эклектику). Ссылались при этом обычно на речь Ленина на Третьем съезде комсомола. В ней сказано было что-то вроде того, что коммунистом может стать лишь тот, кто обогатит свою память знаниями всех богатств, которые выработало человечество. То есть классику надо было учить и укладывать в память. Это был как бы приказ партии. Дело поставили на государственную основу.
При этом в стиле жизнелюбивого конферанса тут и там звучали лозунги типа: «Наш современник Вильям Шекспир» (предложение Евстигнеева-режиссера в фильме «Берегись автомобиля» поставить «Вильяма нашего Шекспира» отсюда). Это звучало, с одной стороны, как заклинание и призыв, обращенный к не вполне еще осознавшим свое счастье массам, с другой — как отчет перед вышестоящими блюстителями. Так и жили.
В ходу был вульгарный социологизм, превративший Пушкина в борца с крепостным правом, а Гоголя — в борца со «свинцовыми мерзостями». Впрочем, последние, кажется, уже из Горького, но это не важно, потому что все классики занимались, в сущности, одним полезным делом: боролись с прошлым, которое для них было, разумеется, настоящим, и готовили приход социализма. Некоторые, вроде Достоевского, вписывались плохо, но и того как-то упаковали с биркой радетеля за униженных и оскорбленных. При этом роман «Бесы» в собрании сочинений долго не мог выйти из печати, так как эту провокацию упредили старые большевики, написав письмо Суслову.
Классику мумифицировали и покрывали «хрестоматийным глянцем», чем сто уже почти лет назад возмущался Маяковский, до того, впрочем, сбрасывавший классику с «парохода современности» (вот, кстати, еще одна главка о бытовании классики в нашем отечестве). Общаться с этой идеологически защемленной и одновременно выставленной напоказ натурой было практически невозможно. Помните у Кушнера:
Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О, Гоголь, во сне ль это все, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.
…………………………………………….
Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.
Школьники в большинстве своем отчаянно скучали. Дочитать до конца «Войну и мир» был способен разве что один из десяти. Наиболее любознательные и продвинутые, прослышав каким-то образом, что Писарев написал разгромную статью про Пушкина, находили ее и на следующем уроке задавали каверзные и ехидные вопросы учителю. Не то что Пушкин им особенно не нравился, но приказ любить и поклоняться вызывал протест у свободолюбивых и непросвещенных умов. Пушкин был вроде начальника, а каждого начальника втайне хочется щелкнуть по носу.
У меня по литературе была пятерка, учительница во время своей болезни даже поручала мне вести вместо нее уроки, но и я многие книги, входившие в школьный курс, прочитал по-настоящему только в университете.
Все это я говорю к тому, чтобы мы не идеализировали недавнее еще прошлое и не думали, что столкнулись с чем-то до того не бывшим и новым. Новое в нынешней ситуации есть, но об этом чуть позже.
* * *
И все же в те годы классика худо-бедно была прочитана большинством или, по крайней мере, была на слуху, а для некоторой части общества и просто актуальна. Почему?
Скажу, как думаю: всем хорошим в себе мы обязаны советской власти. Это она объявила себя наследницей русской культуры, поэтому классику хорошо ли, плохо ли изучали в школе. Но поскольку изучали скверно и подло, интеллигенция вступила в борьбу за реприватизацию «золотого века», превратив литературу в аллегорию собственного межеумочного существования и отстаивая право на ее интерпретацию. Столетняя годовщина гибели Пушкина была оформлена как всенародный праздник, но люди, читавшие Пушкина, по большей части пребывали тогда в лагерях, а сам поэт получил неформальную прописку в трамвайных перебранках.
Классика была местом битвы: с одной стороны, государственный статус, с другой — предмет актуальной дешифровки. Сколько аллюзий находили мы в книгах Салтыкова-Щедрина и Гоголя, в пророческих «Бесах» Достоевского. Чаадаев в советские годы был запрещенным писателем, Блок долгое время тоже.
Власти, в сущности, боялись своих классиков. Спектакли по их произведениям нередко запрещались или же нещадно коверкались с целью вытравить всякую аналогию с современностью. При честном, не замыленном прочтении опасными оказывались «Борис Годунов» и «Ревизор», «Современная идиллия» и «Палата № 6», «Село Степанчиково» и пьесы Островского. Публика ломилась на такие спектакли, которые до того с ненавистью и подозрением просматривали партийные боссы.
На подозрении были не только отдельные произведения, но и имена. Если театр захотел ставить Салтыкова-Щедрина, жди подвоха. Имя задавало контекст и угол прочтения. Антисоветский. Вот такой, например, пассаж: «Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал себе в помощь Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: „Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но), по моей совести; сей виноват, по моей совести“, — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою». Намек понятен, он и сегодня более чем актуален. Недаром сейчас в ходу байка: «В одной маленькой стране было принято решение Шемякин суд переименовать в Басманный». Вообще, по мере того как власть в России крепчает, появляется надежда не только на возрождение современного фольклора, но и на новую актуализацию русской классики.
Однако приведенная мной цитата не из Щедрина. Нашел я ее у Карамзина в его почти не читаемой нынче исторической повести «Наталья, боярская дочь». Кстати, моя жена купила недавно двухтомник «Русская историческая повесть», в который вошли, в частности, произведения Жуковского, Батюшкова, Гоголя, Лескова, Короленко, Мережковского, Льва Толстого, Кузмина, Куприна, Брюсова, всего за шестьдесят рублей. Такова сегодня рыночная цена классики. Раньше чтение было делом престижным, и безграмотная мать уговаривала сына: «Читай, сынок, нынче без этого никак».
Вернусь, однако, к цитате и к временам не столь далеким. Так вот, стояло бы под этим абзацем имя Щедрина, он был бы тотчас вымаран. Карамзин считался автором лояльным и безопасным, уличить его в подкопе под советскую власть было труднее. Но со временем научились извлекать крамолу и из Карамзина. Да что там, и более древние и, казалось бы, совсем посторонние России авторы представляли при умелом прочтении угрозу. Мольер, например, или Аристофан.
Битва шла под ханжеским лозунгом всенародной любви, что одинаково устраивало обе стороны. Но как только в 90-е годы это противостояние исчезло, выяснилось, что классическая литература уступает по популярности детективам и любовным романам. Тайное стало явным, явное оказалось фикцией.
* * *
Разумеется, к классике обращались не только в поисках аллюзий. Это была еще и эмиграция в иную реальность, к полному человеку и интенсивным отношениям. Там любовь поверялась смертью, рассуждения о Боге были напряженны, глубоки и насущны, под их светом атеистическая советская риторика превращалась в прах. Там человек имелся в виду, не было положительных и отрицательных героев, как в сказочной литературе соцреализма, все сотканы из противоречий, каждый со своей болью и бездной. Это была еще и стихия русского языка, которая служила экологической защитой от советского новояза и партийных штампов.
Сам этот уход в литературу прошлого века был скрытым, домашним проявлением протеста против политической реальности. Слава богу, неподсудным.
И вот исчез госзаказ на русскую классику, она перестала быть идеологическим оружием партии, у интеллигенции больше не было нужды отвоевывать ее и защищать. Обе стороны о ней просто забыли.
Уже стало общим местом говорить о том, что наш литературоцентризм был вызван безвариантностью советской жизни. Но так оно и было. И вот ситуация изменилась. Открылись границы, люди стали путешествовать, уезжали работать за границу или эмигрировали, появилась возможность организовать свое дело, деньги снова стали реальностью, а не фикцией, вместе с ними в жизнь вернулись динамика и авантюрность. Наконец, в дома вошел Интернет.
И тут выяснилось, что дело не только в вульгарном социологизме, уродующем умы школьников и отвращающих эти умы от классики, и не только в государственной опеке. Да, читать на круг стали меньше, но это не относится исключительно к классике. У нее настоящих читателей и всегда было не много. От пяти до десяти процентов, я думаю. Они и остались. Другое дело, что этот круг читателей тает, попросту уходит из жизни, а пополняется ли он в достаточной мере новыми, неизвестно. Впрочем, может быть, и пополняется. В любом случае для рыночной статистики эти перемены неуследимы. К тому же у большинства читателей классики давно сложились домашние библиотеки.
Причин, отвлекающих людей от чтения, много, и они одинаковы во всех странах. Возросший темп жизни или тот же телевизор. Мы пережили долгий период дискредитации литературы (Слова) и упадка книгопечатания, то есть потеряли как минимум одно поколение читателей. Более того: разрушилась непрерывность читательской традиции. «Новые русские» — люди почти не читающие. Но ведь это значит, что навык чтения они не передадут и своим детям.
* * *
О детях давайте поговорим отдельно. Причины того, почему они мало и неохотно читают классику, не изменились со времен моего детства, но, скажем так, усугубились.
Прежде всего, это проблема языка. То, что для моего поколения было литературой прошлого века, для нынешнего поколения литература века позапрошлого. Литература же ХVIII (позапрошлого) века моему поколению была уже почти не знакома. В школе проходили, кажется, только пьесу Фонвизина и какое-то из стихотворений Ломоносова. Без большого успеха. Ну, еще Державин и дедушка Крылов, перешагнувшие все же в век ХIХ.
ХIХ век был нам ближе не только по языку. В обществе насаждался культ героев войны 1812 года, декабристов и народовольцев, культ Пушкина и лицейской дружбы. Очень успешно, потому что во всем этом был привкус необходимой для молодых романтики. Потому и быт ХIХ века казался нам чем-то недостижимым и привлекательным. Там жили наши герои, которых мы любили, вследствие чего поэтизировали и их быт.
Ничего подобного сегодня нет. Школьники старших классов были современниками уже двух чеченских войн, на которых потеряли, быть может, своих старших братьев или отцов. Для них и Отечественная война 1941-1945 годов далекое прошлое. Какой там Наполеон, при чем здесь Багратион и Денис Давыдов? Декабристы, известно теперь, были не правы, приди они к власти, дело закончилось бы, скорее всего, диктатурой. Ну и как вам тема урока «Пушкин — друг декабристов»? Народовольцы и вовсе оказались террористами.
Кроме того, нынешние молодые родились совсем в иной языковой среде и объясняются на русско-английском сленге, который, в свою очередь, мое поколение воспринимает с трудом. Для них гоголевский пасечник — человек, который что-то пасет, а гоголевские украинизмы нуждаются в подстрочном переводе. Как им объяснить, что такое инвалидные роты или инвалидные команды, например? То есть объяснить, конечно, можно, но литература Толстого и Гоголя не предполагала таких языковых препятствий. Наиболее современен язык Пушкина, но и его «Руслан и Людмила» нуждается в пересказе. Кстати, почему именно эта поэма задержалась в школьной программе?
По одному из статистических опросов около 70% молодых людей до двадцати лет выражают полное удовлетворение своей жизнью. Они воспитаны в другой философии, которую принес с собой воздух так или иначе нарождающегося капитализма. Удивительно ли, что многие из них дают такие характеристики школьным классикам: Чехов все время ноет, а Бунин только и делает, что пишет о несчастной любви? Философия страдания, культивировавшаяся в классической литературе, им чужда.
При опросе Левада-центра в 2002 году 1,58% респондентов сказали, что невинность они потеряли до 12 лет, 16,78% — между 13 и 15 годами, 44,25% — в 16-18 лет. Проституция стала обыденным явлением. К тому же многие дети школьного возраста живут в неполных семьях. Какие чувства они должны испытывать, читая «Даму с собачкой» Чехова или «Три рубля» Бунина? Они знают, что все подобные проблемы решаются сегодня проще и стремительней.
Вовсе не хочу присоединяться к старушкам, которые жалуются на распущенность молодежи. И чувство любви молодым, несомненно, знакомо. Но сексуальные связи для них явление обыденное и мимоходное, ничуть не предосудительное и к любви не имеющее прямого отношения. С чего бы им жалеть, например, героиню рассказа Бунина, молодую проститутку? Над чувствительностью же героя они, скорее всего, просто посмеются.
На одном из уроков по «Преступлению и наказанию» нетерпеливый ученик, утомленный рассуждениями о Боге и будучи не в силах ответить на вопрос, сколько человек убил Раскольников (следовало догадаться, что тот убил еще человека в себе), поднял руку и сказал: «Марья Васильевна, вы лучше скажите нам попросту: по делу он замочил старушку или нет?» При всей, на первый взгляд, дикости, вопрос этот скорее закономерен. Телевизор для этого парня — окно в мир, а там убивают ежесекундно. Поэтому право на убийство очевидно, тут вопросов нет. Но бывают убийцы малосимпатичные, этих следует осудить. А вот, например, герой «Брата» с обаятельной улыбкой и чистым взглядом. Или герои «Бригады». Те вообще настоящие мушкетеры: один за всех и все за одного. Раз убивают, значит, по делу.
* * *
Тема оказалась неисчерпаемой, но пора закругляться. Поэтому напоследок только несколько тезисов.
Развитие полуфабрикатной цивилизации привело к понижению общего эмоционального уровня. Чтение же требует большого душевного, а в иных случаях и духовного усилия. К этому многие сегодня неспособны.
Изучение классической литературы в школе никак не учитывает уровень психического и интеллектуального состояния ученика, то есть его способность воспринимать то или иное произведение. Ученик в силу возраста часто пребывает просто вне круга тех проблем, о которых повествует автор. Общения не выходит. Думаю, поэтому и я прочел большую часть программных произведений уже после школы.
Невозможно изучать литературу, не соотнося ее с реальным опытом современного подростка. Получается казусный разговор глухого с немым.
В маргинальном состоянии находится детская литература. Новых авторов очень мало, авторы недавнего прошлого не переиздаются. Между тем нельзя миновать этот мостик и сразу перелететь от русских и азербайджанских сказок к Достоевскому и Толстому.
Мое поколение, несмотря на агрессивный советский атеизм, жило еще в поле христианской культуры. Не знаю, что этому способствовало: верующие бабушки, та же литература или пусть кривая и пошлая, но все же симметричность коммунистической и христианской морали? Сегодня это поле перестало работать. Как читать литературу «золотого века», которая вся, так или иначе, замешена на христианстве?
Когда-то в наших университетах были историко-филологические факультеты. Уроки истории и литературы сегодня никак не связаны друг с другом. Не исключено, что их нужно соединить. Тогда будет меньше дат и маршрутов походов, а история благодаря литературе очеловечится. Нам всегда интересно узнать, как люди жили когда-то.
Что считать классикой? Может быть, надо сместить акценты и больше уделять внимания классической литературе ХХ века?
Время отбирает не только авторов шедевров, но и удобных, понятных собеседников. Клиповое сознание — реальность. Не уверен, что это такое уж зло. В любом случае Толстому прижиться здесь трудно. А Пушкин, у которого герой в «Капитанской дочке» на первой странице рождается и получает имя, а на пятой или шестой проигрывает крупную сумму и впервые напивается, вполне в собеседники годится. Может быть, и Достоевский со всеми своими неподъемными проблемами пробьется к нам благодаря бытовой, нервной, скандальной, патетической скороговорке своих героев, которая ближе нам, нежели эпически громоздкие построения Толстого?
Любой из нас остро и особенно воспринимает книгу, написанную его современником. Читателя с автором роднит уже то, что они пребывают в одной бытовой и исторической ситуации. Возможно, уроки по новейшей литературе должны составлять хотя бы половину всей программы?
Так что же, конец классике? Не уверен. Быть может, она явится нам отраженно или перейдет в полупассивный запас, как перешли уже многие произведения Средневековья и Античности. Ведь и не читавшие никогда античных авторов что-то да знают или слышали о греческих мифах. Однажды известный социолог чтения и переводчик Борис Дубин ответил на мой озабоченный вопрос о судьбе классики так:
«Меня не пугает, что будет с классикой. „Что сделали с Пушкиным? Что будет теперь с нашим Пушкиным?“ Ничего страшного не будет. За Пушкина я абсолютно спокоен. Всегда был и сейчас остаюсь.
Ну, будут такие вещи, которые со всеми творятся, когда под Баха танцуют на коньках, а Рембрандтом или Модильяни украшают рекламу. Ну, конечно, будет это и с Пушкиным, будут там какие-то строки поперек улицы на перетяжке висеть (строка Тарковского о бабочке висит же в метро). Но по сути ничего страшного не произойдет. Роль его — основополагающая. Не читают молодые? Он через другие зеркала высветится. Будет значим для каких-то других поэтов и писателей, которых эти молодые полуобразованные ребята уже будут читать как своих. Или каким-нибудь другим зеркалом откроется, может быть, биографическим, человеческим. Я думаю, тут все будет в порядке.
В культуре ничего не исчезает, но меняет место и масштаб, а значит — меняет функции».
Не могу сказать, что меня сильно радует перспектива читать строки Пушкина только на перетяжках поперек Невского или Тверской. Но и паниковать я тоже смысла не вижу. Другое дело, что само собой все не образуется. В Великобритании, например, существует государственная программа по вовлечению подростков в чтение. Надо бы узнать, что они там для этого делают?
Николай Крыщук